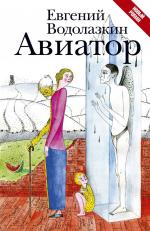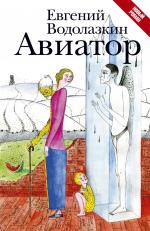- Евгений Водолазкин. Авиатор. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 410 с.
Роман «Авиатор» лауреата «Большой книги», автора нашумевшего «Лавра» Евгения Водолазкина ждали. Гадали, чем на сей раз он удивит читателей. Спустя месяц после выхода книги шумиха вокруг нее немного поутихла. И к лучшему — ведь подойти к «Авиатору» стоит без завышенных ожиданий.
«Авиатор» — книга простая и сложная одновременно. То, что Евгений Водолазкин обратился к фантастике — настоящий сюрприз! Впрочем, работать с чистым жанром писателю неинтересно. Поэтому фантастическая история обрастает многочисленными реалистическими и психологическими подробностями. В результате удивительное и невероятное вовсе таковым не кажется.
Иннокентий Платонов, главный герой «Авиатора», — ровесник XX века — очутился в 1999 году, что называется, в полном расцвете сил. Будучи заключенным в лагере на Соловках, он попал в число тех, над кем группа советских ученых ставила эксперимент по замораживанию. Погруженный в жидкий азот, Платонов чудесным образом выжил. Его успешно разморозил доктор Гейгер, со временем ставший герою другом. Что остается делать человеку, совершившему путешествие во времени и оказавшемуся в следующем веке? Вспоминать прошлое и осваиваться в настоящем. Именно этим Платонов и занялся, записывая мысли в дневник.
«Авиатор», как подметили многие, действительно отличается от предыдущих произведений автора (в том числе — от «Лавра») с точки зрения и сюжета, и системы персонажей, и темпа повествования. Однако все-таки стиль Водолазкина узнаваем. Кроме того, писатель не отступает от своей любимой темы — его интересует время. Как оно движется, линейно или циклично, что оно сохраняет, а что придает забвению и почему — вновь эти вопросы на первом плане:
Человек — не кошка, он не может приземлиться на четыре лапы всюду, куда бы его не бросили. Для чего-то же он поставлен в определенное историческое время. Что происходит, когда он его теряет?
Платонов убежден, что только слово может сохранить память о прошедшем и что главная задача современника — описывать не значимые события и потрясения, а то, что обречено кануть в Лету, — звуки, запахи, незаметные детали повседневной жизни. Превосходство личного времени над историческим — это, пожалуй, самая обаятельная мысль в романе. Жизнеописатель Платонов умеет замечать то, что обычным людям не видно:
Существуют ведь, прошептал я, держа руку Анастасии, редкие и ни на что не похожие звуки. Например, звук гирлянды на сквозняке — он весь такой стеклянный, такой невыразимо хрупкий — помнит ли его Анастасия?
Такие небольшие фрагменты — настоящие сокровища. На них хочется останавливать взгляд, вчитываться: еще немного — и услышишь этот хрустальный, чистый звук.
В целом же «Авиатор» — роман глубоко трагичный. Читать его тяжело. И хотя Водолазкин ловко управляет вниманием читателя и нередко заставляет его с напряжением перелистывать страницу за страницей, ради развлечения эту книгу вряд ли стоит брать в руки.
О вопросах, которые поднимаются в романе, можно рассуждать долго — природа власти, ужасы лагеря, раскаяние человека в своих грехах. Здесь Водолазкин предстает верным последователем русских классиков — от Достоевского до Шаламова. Его текст многослоен: на поверхности — история, за ней — множественность смыслов, отсылки к библейским и художественным текстам, десятки поводов задуматься о серьезном. Автор показывает разницу между нашим временем и страшным XX веком: мелочность и пошлость современности становятся особенно видны на фоне воспоминаний Платонова о лагере (последние написаны без всяких прикрас и умолчаний).
Мысли главного героя заняты только одним — смертью. Он потерял близких людей, он прошел через лагерное насилие, главное — он умер и воскрес, чтобы снова умереть. «Авиатор» — книга о безысходности: чтобы не потерять жизнь, нужно чтобы время остановилось:
В сущности, вот он, Рай. В доме спят мама, папа, бабушка. Мы любим друг друга, нам вместе хорошо и покойно. Нужно только, чтобы время перестало двигаться, чтобы не нарушило того доброго, что сложилось. Я не хочу новых событий, пусть существует то, что уже есть, разве этого мало? Потому что если все будет продолжаться, дорогие мне люди умрут.
Платонов убежден, что умирать измученным в лагере было проще, чем сейчас, когда у него есть все. Уходить от счастья, от семьи, любимых людей труднее, чем от невыносимых страданий. Простая мысль, которая оказывается страшным откровением — смерть повсюду. Евгений Водолазкин оставляет читателя в неведении, чем закончится история его героя. Так он дарит надежду — единственное, что помогает осознать эту историю. Запаситесь временем — оно необходимо, чтобы после «Авиатора» снова начать читать.
Метка: АСТ
Закон всемирного тяготения
- Наринэ Абгарян. С неба упали три яблока. — М.: АСТ, 2015. — 318 с.
Наринэ Абгарян, ставшая известной благодаря трилогии о девочке Манюне, написала очередную человечную книгу. В романе «С неба упали три яблока» писательница рассказывает историю одной затерянной в горах деревни. Сегодня там преимущественно живут старики, и каждый их день наполнен мыслями о прошлом. Они глядят внутрь себя и куда-то далеко назад: туда, где дома стояли без трещин, а кладбище было в два раза меньше. Но эта книга — не о том, как и когда заканчивается жизнь, а скорее, наоборот, — о том, где искать новое начало, прекрасное далеко, о котором поется в известной песне.
Небольшие главы рассказывают о судьбе каждого обитателя места, которого нет на географической карте, но которое помнит войны и голод, свадьбы и рождения… К концу повествования все истории срастаются, объединяясь событиями, разбудившими тех, кто уже давно был готов к смерти. Недаром одна из героинь говорит:
Нет рая, и ада нет <…>. Счастье — это и есть рай, горесть — это и есть ад. И Бог наш везде и повсюду не только потому, что всемогущ, но еще и потому, что Он и есть те неведомые нити, что связывают нас друг с другом.
«С неба упали три яблока» — это роман о бесконечной силе человека и его столь же бесконечной слабости. По словам Абгарян, «мир маленький, а мы большие, хотя по наивности и глупости всю жизнь считаем наоборот».
Автор, лингвист по образованию, чувствует слово настолько тонко, что даже длинные, витиеватые предложения не придают повествованию тяжести. Наполненные образами большие абзацы текста похожи на заговоры, которые раньше произносили над больным. Как будто с помощью слов можно облегчить страдания каждого из жителей деревни. Текст сохраняет динамику при своей сложной структуре: обилии сравнений, эпитетов и других литературных приемов.
В книге Абгарян много чудесного, фантастического, вписанного в повседневную жизнь героев. Текст написан в жанре магический реализм, таком близком латиноамериканской литературе. Когда читаешь «С неба упали три яблока», кажется, что выжить без веры в высшие силы, если ты находишься далеко от цивилизации, попросту невозможно.
Неслучайно писательница выделяет среди современных авторов Мариам Петросян и ее книгу «Дом, в котором», которая также построена на категориях необъяснимого и ирреального. Такой творческий метод позволяет объяснить происходящие в тексте события без лишнего пафоса:
…Ушедших, словно песок сквозь пальцы, в небытие, на тот край вселенной, который заперт от смертных семью печатями, каждая печать — величиной с игольное ушко и тяжестью в целую гору — не разглядеть, что отпереть, и не отодвинуть, чтобы пройти.
Книга написана с огромной любовью к родному для автора армянскому народу. Она не подойдет тем, кто предпочитает захватывающий сюжет или легкое чтение. Чтобы съесть три яблока, упавших с неба, нужно разрешить себе сопереживать и, возможно, верить в необъяснимое. Кроме того, приходится помнить, что на свете пахнет не только брынзой и свежим хлебом, но и кровью.
В романе много рецептов, фактов и даже поверий, которые передаются из поколения в поколение, составляют общую память. Только мудрые люди способны прислушиваться к тому, что говорят их родственники, и беречь семейные предания, рассказывая их своим детям. Нам часто не хватает этого умения, но мы можем учиться этому. Например, читая книги, подобные этой.
Эльфийская песнь
- Мария Галина. Автохтоны. — М.: Издательство АСТ, 2015. — 352 с.
Кинотеатры выступают с громкими заявлениями — мол, показываем кино в формате 4D, 5D и даже 7D! А вот на книги таких ярлыков не наклеивают — и зря, потому что к некоторым из них это уже вполне применимо. Например, к роману Марии Галиной «Автохтоны».
Главный герой книги приезжает в некий город, чтобы собрать информацию о спектакле, который поставили в местном театре в начале XX века. Этот город — пространство особенное: с ним и связан «эффект нескольких D». Героя всюду преследуют запахи («Витая лестница, пахнет кошками и чуть-чуть канализацией, тяжелая дверь, коридор», «От нее пахло лавандой и мхом… Запах был такой сильный, что перекрывал запах роз, пудры, театрального грима»), кроме того, он обращает внимание на назойливо мигающие лампочки («Нить накаливания в лампочке вибрировала с неприятной частотой, заставляющей заныть зубы», «Нить накаливания в лампочке вибрировала с неприятной частотой, заставляющей заныть зубы»). Еще героя все время вкусно кормят (автор в подробностях делится меню с читателями, потому что его содержимое в организациях общественного питания, оказывается, может охарактеризовать город); и еще, конечно, звучит музыка — в какой-то момент центральный персонаж начинает не только посещать оперный театр, но и охотиться за партитурами, чтобы разгадать загадку, зашифрованную в таинственной постановке.
Автохтоны — это аборигены, люди, которые знают местность назубок. Куда сходить, с кем пообщаться, кто похоронен на местном кладбище, какие легенды ходят о городе. Легенд, кстати, слишком много, и все они, как водится, с вариациями — настоящий фольклор. С внешне безобидного фольклора начинается и маленькая ложь, и большие недоговоренности: весь город оказывается сплочен против заезжего героя, хотя с точки зрения туриста все всё делают идеально (разве что поджог комнаты в хостеле все-таки выходит за рамки гостеприимства). Зато местные жители готовы раздавать объяснения по поводу и без, и это тот редкий случай, когда авторские повторы не кажутся назойливыми, а работают на стройный замысел:
— У Юзефа жаркое неплохое. А фиш так себе. <…> Юзеф ее неплохо готовит. Мама его с рыбой всегда проблемы имела, а вот с курицей могла договориться. <…>
— А, — кивнул официант понимающее, — ну, тогда шейку или клецки. Я думал, вы турист. Приезжают и тут же требуют фиш. А у мамы Юзефа фиш никогда не получался, если честно. <…>
— Суп возьмите, — посоветовал кто-то из-за спины, — чечевичную похлебку. Форшмак еще можно, хотя у мамы Юзефа…
— Знаю-знаю. С рыбой были нелегкие отношения. Вы что, следите за мной?
В этих людей словно бы закачали одну и ту же программу, которой они беспрекословно следуют («Это город творит свой миф, по своей прихоти вызывая из небытия тени и управляя ими»). А вот как работает такая программа в случае внутренних конфликтов, постороннему лучше и не знать, даже если он главное действующее лицо.
«Автохтоны» обладают чертами двух массовых жанров: детективного и фантастического. Детективные сюжеты уже давно и причудливо возвысились над примитивными книжками карманного формата в тонких обложках: знамя, которое поднял Борис Акунин*, продолжают нести и другие писатели — в одном 2015 году вышли детективно-приключенческие по-настоящему хорошие романы Алексея Иванова «Ненастье» и Лены Элтанг «Картахена», а также вновь переведенный «Маленький друг» Донны Тартт. Да вот еще и «Автохтоны» Галиной, где герой вроде бы и убийцу не ищет, и кражу не раскрывает, а находится в поисках чего-то большего — смысла, что ли.
Фантастическая составляющая романа реализуется в первую очередь благодаря тому, что в тексте никому нельзя доверять — ни герою, ни тем более автору. Порой кажется, что главной целью Галиной было вызвать у читателя если не шизофрению, то хотя бы подозрение на шизофрению. В художественном мире, так сильно похожем на наш, герой получает информацию о саламандрах (она, кстати, изображена на обложке) и сильфах, об оборотнях, о вечной жизни, о чем только не. Герой на это реагирует так, словно считает всех вокруг сумасшедшими; через некоторое время другие сумасшедшие опровергают только что полученные читателем сведения. Вскоре вся схема повторяется.
О герое и его месте в этом условном хронотопе стоит сказать отдельно. Во-первых, время и пространство в романе не имеют ориентиров. Это напоминает прием, использованный Тургеневым в цикле «таинственных повестей»: писатель нарочно вымарывает следы, которые могут указать на более-менее точную отметку во времени и местах, где крутятся герои. Тургенев старался максимально абстрагироваться от своих ранних, очень завязанных на истории, произведений. Галина же прибегает к такому приему скорее для того, чтобы дать художественному миру возможность балансировать на грани реальности и фантастики. Однако нельзя исключать того, что подобный мир — это некая альтернатива всей остальной современной литературе, в большинстве своем — реалистической.
Во-вторых, герой не назван. Имя его держится в секрете, личность — тоже. Как станет понятно в конце романа, это сделано для того, чтобы красиво разыграть развязку. Ведь буквально до конца книги читатель не может сказать, что знаком с героем. Все видно его глазами, все слышно его ушами, но он — чужой. Автор ни разу не обозначает его в своем тексте местоимением первого лица, а всегда — в третьем лице: он — это «он». Таким образом, автор всеведущ, главным его транслятором в тексте является главный герой, но он (при всей близости строения текста к традиционному тексту рассказчика, к перволичному повествованию) тщательно закрывает свой внутренний мир от посторонних глаз (в отличие от традиционного рассказчика). Кроме того, наш «он» самостоятельно заходит за грань между реальностью и фантастикой, а потом отступает обратно: нет-нет, вы что, я пошутил, вам показалось, что я только что сказал «Я думаю». Конечно, показалось — я как порядочный рецензент вынуждена поддержать автора.
В связи с тем, что текст обладает малой степенью устойчивости (ни времени, ни места, ни героя, но, кажется, у Галиной всегда так), сознание упорного читателя пытается привязать его к знакомым реалиям, иными словами — найти прототипы. Однако как только появляется версия (например, для категории города: видишь словосочетание «дворы-колодцы», говори «Петербург»), Галина ровно в тот же момент пишет что-то вроде: «Принесли счет, вложенный в кожаный карманчик. Дороговато, но терпимо. В Питере дороже. Гораздо».
Из-за старинных интерьеров провинциального города, исследований истории авангарда начала XX века, старичков, сплошь и рядом населяющих город кажется, что действие происходит в прошлом. Имя одного из самых пожилых героев, искусствоведа, случайно ли, специально ли совпадает с именем философа и теоретика искусства Густава Шпета; почти то же самое — с фамилиями Штренберга, Воробкевича, Валевской, Корш, Костжевского, Вейнбаума, Ковача — вероятно, Галина не придумала ни одной фамилии. Но только стоит смириться с тем, что все происходит в наши дни («Сам дурак, почему так легко оделся? Гисметео сначала обещало до плюс десяти, потом передумало, но он предпочел держаться первоначального прогноза»), как один из второстепенных героев отпустит фразочку:
— Вы идиот, да? <…> Нормальный человек обычно скидывает мало-мальски стоящую информацию себе по мейлу. Или в дроп-бокс. А вы ведете себя так, как будто попали в прошлое.
Балансировать на грани прошлого и настоящего автору удается во всем. Выбивается только одна деталь: герой упорно называет сотовый телефон «мобилой». Но как знать, быть может, в этом тоже проявился авторский замысел, и герой, поспевающий за Гисметео и гаджетами, просто не выучил, что «мобилы» остались далеко году так в 2005-м. Зато он знает, что такое гномон (древний астрономический инструмент) и «Бехштейн» (фирма по производству фортепиано) — ну конечно, всякое может быть, много на свете начитанных людей.
Среди излюбленных Галиной мифологических существ есть сильфы. Они доброжелательны и умеют читать мысли. В мужском обличье их также называют эльфами, в женском — феями. Столкнувшись на страницах романами с этими существами, понимаешь: Мария Галина и сама немного сильф.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Евгений Водолазкин. Авиатор
- Евгений Водолазкин. Авиатор. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 416 с.
В апреле в Редакции Елены Шубиной выходит роман лауреата премии «Большая книга» Евгения Водолазкина. «Авиатор», без сомнений, является одной из самых ожидаемых книг 2016 года.
В центре повествования — человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счётом ничего — ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре — 1999 год?..
— Что вы всё пишете?
— Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.
— Мир Божий слишком велик, чтобы рас- считывать здесь на успех.
— Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, частицу этого мира… Хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк.
— Например?
— Например, авиатор.
Разговор в самолетеЧасть первая
Говорил ей: в холода носи шапку, иначе отморозишь уши. Посмотри, говорил, сколько сейчас прохожих без ушей. Она соглашалась, мол, да-да, надо бы, но не носила. Смеялась над шуткой и продолжала ходить без шапки. Такая вот картинка всплыла в памяти, хотя о ком здесь идет речь — ума не приложу.
Или, допустим, вспомнился скандал — безобразный, изнурительный. Непонятно где разыгравшийся. Обидно то, что начиналось общение хорошо, можно сказать, доброжелательно, а потом слово за слово все переругались. Главное, самим же потом стало удивительно — почему, зачем?
Кто-то заметил, что часто так бывает на поминках: часа полтора говорят о том, каким покойник был хорошим человеком. А потом кто-то из пришедших вспоминает, что был покойник, оказывается, не только хорошим. И тут, как по команде, многие начинают высказываться, дополнять — и мало-помалу приходят к выводу, что был он, вообще-то, первостатейным мерзавцем.
Или совсем уж фантасмагория: кому-то дают по голове куском колбасы, и вот этот человек катится по наклонной плоскости, катится и не может остано- виться, и от этого качения кружится голова…
Моя голова. Кружится. Лежу на кровати.
Где я?
Шаги.
Вошел неизвестный в белом халате. Стоял, положив руку на губы, смотрел на меня (в дверной щели еще чья-то голова). Я же, в свою очередь, смотрел на него — не открываясь как бы. Из-под неплотно сомкнутых ресниц. Он заметил их дрожание.
— Проснулись?
Я открыл глаза. Приблизившись к моей кровати, неизвестный протянул руку:
— Гейгер. Ваш врач.
Я вытащил из-под одеяла правую руку и почувствовал бережное рукопожатие Гейгера. Так касаются, когда боятся сломать. На мгновение он оглянулся, и дверь захлопнулась. Не отпуская моей руки, Гейгер наклонился ко мне:
— А вы — Иннокентий Петрович Платонов, не так ли?
Я не мог этого подтвердить. Если он так говорит, значит, имеет на то основания. Иннокентий Петрович… Я молча спрятал руку под одеяло.
— Вы ничего не помните? — спросил Гейгер.
Я покачал головой. Иннокентий Петрович Платонов. Респектабельно. Немного, может быть, литературно.
— Помните, как я сейчас подошел к кровати? Как назвал себя?
Зачем он так со мной? Или я действительно совсем плох? Выдержав паузу, говорю скрипуче:
— Помню. — А до этого?
Я почувствовал, как меня душат слезы. Они вырвались наружу, и я зарыдал. Взяв с прикроватного столика салфетку, Гейгер вытер мне лицо.
— Ну что вы, Иннокентий Петрович. На свете так мало событий, о которых стоит помнить, а вы расстраиваетесь.
— Моя память восстановится?
— Очень на это надеюсь. У вас такой случай, что ничего нельзя утверждать наверное. — Он поставил мне градусник. — Знаете, вы вспоминайте побольше, здесь важно ваше усилие. Нужно, чтобы вы сами всё вспомнили.
Вижу волосы в носу Гейгера. На подбородке царапины после бритья.
Спокойно смотрит на меня. Высокий лоб, прямой нос, пенсне — будто кто-то его нарисовал. Есть лица настолько типичные, что кажутся выдуманными.
— Я попал в аварию?
— Можно сказать и так. В открытой форточке воздух палаты смешивается с зимним воздухом за окном. Становится мутным, дрожит, плавится, и вертикальная планка рамы сливается со стволом дерева, и ранние сумерки — где-то я уже это видел. И влетающие снежинки видел. Тающие, не долетев до подоконника… Где?
— Я ничего не помню. Только мелочи какие-то — снежинки в больничной форточке, прохлада стекла, если к нему прикоснуться лбом. Событий — не помню.
— Я бы мог вам, конечно, напомнить что-то из происходившего, но жизнь во всей полноте не перескажешь. Из вашей жизни я знаю только самое внешнее: где вы жили, с кем имели дело. При этом мне неизвестна история ваших мыслей, ощущений — понимаете? — Он вытащил у меня из под- мышки градусник. — 38,5. Многовато. Понедельник
Вчера еще не было времени. А сегодня — понедельник. Дело было так. Гейгер принес карандаш и толстую тетрадь. Ушел. Вернулся с подставкой для письма.
— Всё, что произошло за день, записывайте. И всё, что из прошлого вспомните, тоже записывайте. Этот ежедневник — для меня. Я буду видеть, как быстро мы в нашем деле продвигаемся.
— Все мои события пока что связаны с вами. Значит, писать про вас?
— Abgemacht. Описывайте и оценивайте меня всесторонне — моя скромная персона потянет за собой другие нити вашего сознания. А круг вашего общения мы будем расширять постепенно.
Гейгер приладил подставку над моим животом. Она печально приподнималась с каждым моим вздохом, словно сама вздыхала. Гейгер поправил. Открыл тетрадь, вставил мне в пальцы карандаш — что, вообще говоря, лишнее. Я хоть и болею (спрашивается — чем?), но руками-ногами двигаю. Что, собственно, записывать — ничего ведь не происходит и ничего не вспоминается.
Тетрадь огромная — хватило бы для романа. Я кручу в руке карандаш. Чем же я все-таки болею? Доктор, я буду жить?
— Доктор, какое сегодня число?
Молчит. Я тоже молчу. Разве я спросил что-то неприличное?
— Давайте так, — произносит наконец Гейгер. — Давайте вы будете указывать только дни недели. Так мы легче поладим со временем.
Гейгер — сама загадочность. Отвечаю: — Abgemacht. Смеется. А я взял и записал всё — за вчера и за сегодня.
Вторник
Сегодня познакомился с сестрой Валентиной. Стройна. Немногословна.
Когда она вошла, прикинулся спящим — это уже входит в привычку. Потом открыл один глаз и спросил:
— Как вас зовут?
— Валентина. Врач сказал, вам нужен покой.
На все дальнейшие вопросы не отвечала. Стоя спиною ко мне, драила шваброй пол. Торжество ритма. Когда наклонялась, чтобы прополоскать в ведре тряпку, под халатом проступало ее белье. Какой уж тут покой…
Шучу. Сил — никаких. Утром мерил температ ру — 38,7, Гейгера это беспокоит.
Меня беспокоит, что не получается отличать воспоминания от снов.
Неоднозначные впечатления сегодняшней ночи. Лежу дома с температурой — инфлюэнца. Бабушкина рука прохладна, градусник прохладен. Снежные вихри за окном — заметают дорогу в гимназию, куда я сегодня не пошел. Там, значит, дойдут на перекличке до «П» (скользит по журналу, весь в мелу, палец) и вызовут Платонова.
А Платонова нет, докладывает староста класса, он остался дома в связи с инфлюэнцей, ему, поди, «Робинзона Крузо» читают. В доме, возможно, слышны ходики. Бабушка, продолжает староста, прижимает к носу пенсне, и глаза ее от стекол велики и выпуклы. Выразительная картинка, соглашается учитель, назовем это апофеозом чтения (оживление в классе).
Суть происходящего, говорит староста, если вкратце, сводится к следующему. Легкомысленный молодой человек отправляется в морское путешествие и терпит кораблекрушение. Его выбрасывает на необитаемый остров, где он остается без средств к существованию, а главное — без людей. Людей нет вообще. Если бы он с самого начала вел себя благо- разумно… Я не знаю, как это выразить, чтобы не впасть в менторский тон. Такая как бы притча о блудном сыне.
На классной доске (вчерашняя арифметика) уравнение, доски пола хранят влагу утренней уборки. Учитель живо представляет себе беспомощное барахтанье Робинзона в его стремлении достичь берега. Увидеть катастрофу в ее истинном размахе ему помогает картина Айвазовского «Девятый вал». Молчание потрясенного учителя не прерывается ни единым возгласом. За двойными рамами едва слышны колёса экипажей.
Я и сам нередко почитывал «Робинзона Крузо», но во время болезни не очень-то почитаешь. Резь в глазах, строки плывут. Я слежу за бабушкиными губами. Перед тем как перевернуть страницу, она подносит к губам палец. Иногда прихлебывает остывший чай, и тогда на «Робинзона Крузо» летят едва заметные брызги. Иногда — крошки от съеденного между главами сухаря. Выздоровев, я внимательно перелистываю прочитанное и вытряхиваю хлебные частицы, высохшие и сплющенные.
— Помню много разных мест и людей, — сообщил я, волнуясь, Гейгеру, — помню какие-то высказывания. Но хоть убей — не помню, кто именно какие слова произносил. И — где.
Гейгер спокоен. Он надеется, что это пройдет. Он не считает это существенным.
А может, это и вправду несущественно? Может, имеет значение только то, что слова были произнесены и сохранились, а уж кем и где — дело десятое? Надо будет спросить об этом у Гейгера — он, кажется, всё знает.
Среда
А бывает и так: слова не сохранились, но картинка — в совершенной целости. Сидит, например, человек в сумерках. В комнате уже полумрак, а он всё не включает света — экономит, что ли? Скорбная неподвижность. Локоть упирается в стол, лоб покоится на ладони, мизинец на отлете. Даже в темноте видно, что одежда его в складках, вся бурая такая до бесцветности, и одним белым пятном лицо и рука. Человек как бы в задумчивости, хотя на самом деле ни о чем и не думает, просто отдыхает. Может, даже говорит что-то, только слов не слышно. Мне, собственно, его слова неважны, да и с кем ему говорить — с самим собою? Он ведь не знает, что я за ним наблюдаю, а если что и говорит, то не мне. Шевелит губами, смотрит в окно. Капли на стекле отражают свечение улицы, переливаются огнями экипажей. Форточка скрипит.
До сих пор я видел в палате лишь двух человек — Гейгера и Валентину. Врач и медсестра — а кто еще, собственно, нужен? Собрался с силами, встал, подошел к окну — во дворе пусто, снег по колено. Один раз, держась за стенку, вышел из палаты в коридор — тут же появилась Валентина: у вас постельный режим, вернитесь в палату. Режим…
Кстати: оба выглядят старорежимно. Гейгер если не в халате, так обязательно в тройке. Напоминает Чехова… Я-то всё думал — кого он мне напоминает? Чехова! Еще и пенсне носит. Из ныне живущих пенсне я видел, по-моему, только у Станиславского, но тот — человек театра… Впрочем, я бы сказал, что в лечащей меня паре есть какая-то театральность. Валентина — вылитая сестра милосердия военного времени. 1914-й. Уж не знаю, как они отнесутся к моему впечатлению — Гейгер ведь это прочтет, так мы условились. В конце концов, он сам просил меня писать без утайки всё, что замечаю, вспоминаю, думаю, — пожалуйста, я так и пишу.
Сегодня у меня сломался грифель, сказал об этом Валентине. Она из кармана достает что-то вроде карандаша, протягивает мне.
— Забавно, — говорю, — металлический грифель, никогда не видел такого.
Валентина покраснела и быстро забрала у меня эту штуку обратно. Принесла потом другой карандаш. Отчего она покраснела? В туалет меня водит, для уколов кальсоны с меня стягивает — не краснеет, а тут карандаш, видите ли. В моей жизни сейчас масса мелких загадок, которые я не в силах разгадывать… Но краснеет она очаровательно, до кончиков ушей. Уши — тонкие, изящные. Вчера, когда слетела ее белая косынка, я ими любовался. Точнее, одним. Валентина наклонилась над лампою, спиной ко мне, и ухо ее розово просвечивало, хотелось прикоснуться. Не посмел. Да и сил не было.
Странное какое-то ощущение, будто лежу на этой койке целую вечность. Пошевелю рукой или ногой — боль в мышцах, а уж если встану без посторонней помощи — ноги как ватные. Зато температу- ра чуть снизилась — 38,3. Спрашиваю у Гейгера:
— Так что же со мной все-таки случилось?
— Это, — отвечает, — вы сами должны вспомнить, иначе ваше сознание заменится моим. Разве вы этого хотите?
А я и сам не знаю, хочу ли я этого. Может, у меня окажется такое сознание, что лучше бы его заменить.
Пятница
К вопросу о сознании: я его вчера терял. Гейгер с Валентиной сильно перепугались. Очнувшись, видел их опрокинутые лица — похоже, им было бы жаль меня потерять. Приятно, когда по какой-то причине в тебе нуждаются, — даже если эта причина не личная, а чистое, так сказать, человеколюбие. Весь вчерашний день Гейгер не возвращал мне мои листы. Боялся, видимо, что накануне я в своих писаниях перенапрягся. Я лежал, следил за тем, как падали хлопья снега за окном. Следя, заснул. Проснулся — хлопья всё еще падали.
У моей постели сидела на стуле Валентина. Влажной губкой вытерла мне лоб. Поцелуй, хотел сказать я, поцелуй меня в лоб. Не сказал. Потому что получилось бы, что она вытирала мой лоб, прежде чем поцеловать. Да и вообще — понятно, кого в лоб целуют… А вот взял ее за руку — не отняла. Только положила наши соединенные руки мне на живот, чтобы не держать на весу. Ее ладонь покрывала мою кисть домиком — так учат держать руку при игре на фортепиано. Вероятно, меня тоже учили когда-то, если я знаю такие вещи. Перевернув руку, указательным пальцем я провел по потолку этого домика и ощутил, как он вздрогнул, распался, растекся по моей ладони. И я ощутил его тепло.
— Лягте рядом со мной, Валентина, — попросил я. — У меня нет дурных мыслей, и я совершенно безопасен — вам это известно. Мне только нужно, чтобы рядом со мною кто-то был. Совсем рядом, иначе я никогда не согреюсь. Я не могу этого объяснить, но это так.
Я с усилием подвинулся на широкой кровати, и Валентина легла рядом со мной — поверх одеяла. Я был уверен, что она выполнит мою просьбу, — сам не знаю почему. Наклонила голову к моей голове. Я вдыхал ее запах — настой глаженого, крахмального, белоснежного в соединении с ароматом духов и юного тела. Она делилась этим со мной, а я не мог надышаться. В открывшейся двери показался Гейгер, но Валентина осталась лежать. Что-то в ней напряглось (я это чувствовал), но не встала. Она, наверное, покраснела — не могла не покраснеть.
— Очень хорошо, — сказал, не входя, Гейгер, — отдыхайте.
Замечательная по-своему реакция.
Вообще-то, я не собирался этого описывать, это не меня одного касается, но раз уж он всё видел… Пусть Гейгер правильно поймет суть происходящего (да он, конечно, и так понимает). Я хочу, чтобы это повторялось — хоть по нескольку минут в день.
Воскресенье
Проснувшись, прочел мысленно «Отче наш». Оказалось, молитву воспроизвожу без запинки. Я, бывало, по воскресеньям, если не мог пойти в церковь, хотя бы «Отче наш» про себя читал. Шевелил губами на влажном ветру. Я жил на острове, где посещение служб не было делом само собой разумеющимся. И остров не то чтобы необитаемый, и храмы стояли, но так как-то всё сложилось, что посещать их было непросто. Подробностей сейчас уже и не вспомнишь.
Церковь — большая радость, особенно в детстве. Маленький, значит, держусь за юбку матери. Юбка под полушубком длинная, по полу шуршит. Мать ставит свечу к иконе, и юбка чуть приподнимается, а с ней — моя в варежке рука. Берет меня осторожно, подносит к иконе. Поясницей чувствую ее ладони, а мои валенки и варежки свободно перемещаются в воздухе, и я как бы парю в направлении иконы. Подо мною десятки свечей — праздничные, колеблются, — я смотрю на них и не могу отвести от этой яркости взгляда. Потрескивают, воск с них стекает, застывая тут же причудливыми сталактитами. Навстречу мне, распахнув руки, Матерь Божья, и я целую Ее в руку неловко, потому что полет мой не мной управляем, и, поцеловав, прикасаюсь, как положено, лбом. На мгновение чувствую прохладу Ее руки. И вот так я парю себе в церкви, проплываю над священником, машущим кадилом, — сквозь ароматный дым. Над хором — сквозь его песнопения (замедленные взмахи регента и его же гримасы на высоких нотах). Над старухой свечницею и заполнившим храм (обтекая столпы) народом, вдоль окон, за которыми заснеженная страна. Россия? У неплотно прикрытой двери зримо клубится стужа, на ручке — иней. Щель резко расширяется, в возникшем прямоугольнике — Гейгер.
— Доктор, мы ведь в России? — спрашиваю.
— Да, некоторым образом. Обрабатывает мне руку для капельницы.
— Тогда почему вы — Гейгер?
Он смотрит на меня удивленно:
— Потому что я русский немец. Deutschrusse. А вы волновались, что мы в Германии?
Нет, не волновался. Просто теперь я могу считать, что точно знаю наше местоположение. До сегодняшнего дня оно было, в сущности, не очень понятно.
— А где сестра Валентина?
— У нее сегодня выходной.
Поставив капельницу, Гейгер измеряет мне температуру. 38,1.
— И что, — интересуюсь, — нет других сестер?
— Вы ненасытны.
А мне другая сестра не нужна. Я только не понимаю, что это за учреждение такое, где один врач, одна сестра и один пациент. Что ж, в России всё возможно. В России… Распространенная, должно быть, фраза, если сохранилась даже в моей разрушенной памяти. Есть в ней свой ритм. Не знаю, что за этим стоит, а фразу вот помню.
Таких неизвестно откуда всплывших фраз у меня уже несколько. У них есть, наверное, своя история, а я произношу их как в первый раз. Чувствую себя Адамом. Или ребенком: дети часто произносят фразы, еще не зная их смысла. В России всё возможно, м-да. Есть в этом осуждение, что ли, даже приговор. Чувствуется, что это какая-то нехорошая безграничность, что всё направится известно в какую сторону. В какой мере эта фраза касается меня?
Подумав, сообщаю фразу Гейгеру как немцу и прошу ее оценить. Слежу за движением губ его и бровей — так пробуют вино. Он шумно вдыхает, словно для ответа, но после паузы — так же шумно выдыхает. Как немец, он решил промолчать — чтобы, допустим, не травмировать меня. Вместо этого просит меня показать язык, что, на мой взгляд, по-своему оправданно. Мой язык действует еще в значительной степени самостоятельно: произносит то, что привык произносить, как это бывает у говорящих птиц. Видимо, Гейгер всё понял про мой язык и просит его показать. Когда я показываю, качает головою. Не радует его мой язык.
Подойдя к двери, Гейгер оборачивается:
— Да, вот еще… Если вам хочется, чтобы сестра Валентина лежала рядом — даже, допустим, под одним с вами одеялом, — говорите, не стесняйтесь. Это нормально.
— Сами знаете, что она в полной безопасности.
— Знаю. Хотя, — он щелкнул пальцами, — в России ведь всё возможно, а?
В данный момент — не всё… Чувствую это как никто другой.
Пятница
Все эти дни не было сил. Их и сегодня нет. В голове крутится странное: «Авиатор Платонов». Тоже — фраза?
Спрашиваю у Гейгера:
— Доктор, я был авиатором?
— Насколько мне известно — нет…
* Договорились (нем.).
Сергей Беляков. Тень Мазепы: украинская нация в эпоху Гоголя
- Сергей Беляков. Тень Мазепы: украинская нация в эпоху Гоголя. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 752 с.
В середине марта в Редакции Елены Шубиной выходит новая книга автора биографии-бестселлера «Гумилев сын Гумилева» Сергея Белякова. На сей раз автор обратился к истории украинского народа. Соединяя дотошность историка с талантом рассказчика, он совершает, казалось бы, невозможное: фундаментальное исследование, основанное на множестве источников, оказывается увлекательнее романа. Здесь гетманы вершат судьбы Войска Запорожского и слышна козацкая речь, здесь оживает в ярких запахах, звуках, красках волшебный мир малороссийской деревни. Здесь рождается нация.
ТАМ, НА РЕКАХ ПЕТЕРБУРГА
В Петербурге еще нет северной синевы, яркой, незабываемой синевы настоящего Севера, синевы арктических широт. Арктика далеко, но и юг тоже далеко. В Петербурге, «в стране снегов, в стране финнов», преобладает «серенький мутный колорит». По словам Гоголя, обитатели города принуждены коротать свой век «среди кучи» домов, «диких северных ночей», в мире «низкой бесцветности». Добрая знакомая Гоголя, воспитанная под синим небом Малороссии Александра Смирнова-Россет, жаловалась Жуковскому на «серый, мрачный Петербург»1.
Природное освещение в первой половине XIX века дополнялось освещением искусственным. Но оно мало напоминало знакомое нам сияние огней большого города. До середины 1830-х уличные фонари наполнялись конопляным маслом, позднее — газом. Светили они так же тускло, как чухонское солнце: «свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в окна»2.
Освещение навевает самые черные мысли и рождает тягостные предчувствия. Гоголь изобразил Петербург городом-призраком, где всё — обман, где ничему нельзя верить: «легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки». И прекрасная девушка окажется или проституткой, или недоступной замужней дамой, а флирт приведет не к развлечению — к позору, романтическая влюбленность окончится не счастливой взаимной любовью, но смертью без покаяния.
Здесь даже нечистая сила отличается от малороссийской. Даже вий, ведьмы, чудовища, разорвавшие Хому Брута, и колдун из «Страшной мести» все-таки не рождают в душе такого ужаса, как демон Невского проспекта, что «зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде»3.
Об этом же писал великий польский поэт, современник Гоголя.
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.
(Перевод В.Левика)4Лев Гумилев, кое-что понимавший в демонологии, разделил нечисть на две категории. Обычная нечисть — домовые, лешие, русалки, упыри, албасты. Все эти существа страшны и опасны для человека, но они такая же часть окружающего мира, как вирусы и бактерии. Невидимы и вредоносны, но не инфернальны, прямо не связаны с абсолютным злом, мировым злом, которое воплощается в бесах из гумилевских сказочных поэм «Посещение Асмодея» и «Волшебные папиросы». Малороссийские черти и ведьмы у Гоголя соотносятся с обычной нечистью. Но демон Невского проспекта и сам инфернальный Петербург — потусторонняя сила совсем другого рода. Демона Невского проспекта не оседлает кузнец Вакула. От его чар не спасет петушиный крик.
Петербург погубит и Тараса Шевченко. О Петербурге написана страшная поэма «Сон», которая вызвала гнев самого государя (что не удивительно, поэма в самом деле просто оскорбительна). Из-за нее поэта и художника отправят солдатом в Оренбургский край, запретив писать и рисовать. И там, в забытой Богом Орской крепости, потом на берегах «поганого» Аральского моря, а затем на бесплодном Мангышлаке, он будет уже мечтать о Петербурге. Из прикаспийских пустынь не только Малороссия, а и Петербург с его «милой Академией» художеств представлялись утерянным раем. Но, вернувшись в столицу и прожив там лишь два года, Шевченко пожалуется двоюродному брату Варфоломею: «В Петербурге я не усижу, он меня задушит. Тоска такая, что храни от нее Господь всякого крещеного и некрещеного человека»5.
Шевченко умрет на сорок седьмом году жизни. Это вполне обычный срок для украинского литератора в Петербурге. Почти столько же прожил Василий Трофимович Нарежный, первый русский романист, автор «Российского Жильблаза, или Похождений князя Гаврилы Симоновича Чистякова», «Марии», «Бурсака» и еще многих сочинений. Он тоже был малороссиянином, уроженцем Миргородского уезда Полтавской губернии. В столице вел скромную жизнь мелкого чиновника, писал в свободное от службы время и оставил большое творческое наследие. В Петербурге в тридцать шесть лет умер и Евгений Гребенка, Орест Сомов доживет только до сорока лет. Иван Сошенко и Степан Руданский покинут Петербург тяжело больными людьми.
Конечно же, не демон Невского проспекта, разлив по фонарям конопляное масло, губил сумрачными северными вечерами малороссийских писателей. Прежде всего не только украинцам, но и всем южанам вредил непривычный климат, одновременно холодный и сырой. Жизнь небогатого человека в столице отнимала много сил. Высокие цены, дурное жилье, необходимость много трудиться только ради хоть сколько-нибудь сносной жизни. Шевченко хотя бы в последние годы жизни мог не заботиться о тарелке борща или галушек: «Лучше ничего не делай, так себе сиди да читай, а мы тебя хлебом прокормим, лишь бы был здоров»6, — писал ему Пантелеймон Кулиш. В общем, поэту украинцы в самом деле помогали.
Скажем, Орест Сомов за тридцать лет до Шевченко о такой жизни и мечтать не мог. Он был родом с Харьковщины, окончил Харьковский университет и печатался в «Украинском вестнике», но уехал в Петербург, где служил в знаменитой Русcко-американской компании7. Его непосредственным начальником был Кондратий Рылеев. После восстания декабристов знакомство с Рылеевым стало поводом для ареста Сомова. Связь с заговорщиками не удалось доказать, но место столоначальника в Русско-американской компании Сомов потерял и вынужден был жить только литературным трудом, который тогда кормил плохо. Удел поэта, по словам Сомова, небогатый: «…и оттого-то мы встречаем питомцев Фебовых в изношенных и забрызганных чернилами платьях, а ищем — на чердаках»8.
Поэт, прозаик, литературный критик, редактор, действительный член «Вольного общества любителей российской словесности», он был человеком удивительно трудолюбивым. Сотрудничал с «Северной пчелой», потом перешел в «Литературную газету», редактировал ее вместе с Дельвигом. Николай Иванович Греч, журналист, писатель, филолог, издатель «Сына отечества» и «Северной пчелы», считал Сомова «бесспорно из лучших» (если не лучшим) переводчиков с итальянского и французского9. Но литературная поденщина, необходимость много писать ради заработка «потемнили его воображение, иссушили телесные силы, расстроили здоровье и в цвете лет низвели в могилу». Этим словам Греча находим подтверждение и в письмах Сомова.
Из письма Ореста Сомова к Ф.Н.Глинке от 29 октября 1829 года: «Я всё еще болен, но это мне в привычку. Методу лечения, о которой Вы мне пишете, я давно уже принял, кроме двух медикаментов: хождения и свежего воздуха; первого не могу употреблять за недосугом, а второму и рад был, да негде взять в нынешнюю мокрую, сырую, грязную петербургскую осень»10.
Из этого города, как будто отравленного миазмами финских болот, надо бежать. Бежать хотя бы в собственные воспоминания о Малороссии, о стране, «Де гопцюют все дiвки, // Де гуляють парубки!». Там упоителен и роскошен день, там даже огород козака разворачивается «как богатая турецкая шаль»11.
Украинские литераторы, приехав в Петербург делать карьеру, со временем или возвращались на родину, или уезжали в другие, обычно — теплые края. Кулиш вернется в Малороссию, Руданский отправится еще дальше на юг — в Ялту, Гоголь и вовсе в Италию.
Петербургская проза у Гоголя появляется только после малороссийской. В гоголевских «Вечерах на хуторе» Петербург возникает как город еще не страшный, но уже сказочный, нереальный. Там царица ест только мед и сало, простому козаку может подарить черевички или насыпать полную шапку ассигнациями. А в «Кобзаре» и этого нет. К.И.Чуковский удивлялся, почему же у Шевченко не нашлось для Петербурга «ни образов, ни ритмов, ни лирики»12. Чего только нет в «Кобзаре»: и москали, и ляхи, и народные герои (Тарас Трясило), и обманутые девицы, и поющий соловейко, и украинские поэты (Иван Котляревский). Но ни Васильевского острова, ни Академии художеств, ни Летнего сада там не найти.
Петербург появится у Шевченко позднее — в поэме «Сон» и, возможно, в переводах псалмов Давидовых. В 136-м псалме. Псалме, известном и людям, толком не читавшим Библии. «Там, на реках Вавилонских», «Там, у рек Вавилонских», или, что точнее, «При водах Вавилонских». У Шевченко — «На рiках круг Вавилона».
Псалом был написан несколько веков спустя после смерти царя Давида. Он относится ко времени Вавилонского пленения, то есть к VI веку до нашей эры. Сюжет его таков: евреи у вод Вавилона (на берегах Евфрата и многочисленных каналов) тоскуют по родине, повесив на ветви ив свои лиры. Вавилоняне («те, кто в плен нас увел», «сыны Эдома») предлагают им спеть песни Сиона, но евреи отказываются: «Как петь нам песнь Господу на чужой земле?» Они клянутся, что не позабудут Иерусалим, призывают Господа отомстить сынам Эдома за гибель Иерусалима:
Вавилон, ты страна грабежа!
Благословен,
кто поступит с тобой,
как ты — с нами!
Благословен, кто размозжит
твоих детей о камень!13Блаженный Августин писал, что «в Ветхом Завете сокрыт Новый, а в Новом — раскрывается Ветхий»14. Но этот псалом написан за шесть веков до христианства. В его строках отражена историческая реальность совершенно другой эпохи, стоит вчитаться в этот страшный текст, полный превосходной ветхозаветной поэзии, национальной гордости и бешеной ненависти к врагам. Это древнееврейская «Священная война».
А вот ее украинский перевод.
І Господь наш вас пом’яне,
Едомськії діти,
Як кричали ви: «Руйнуйте,
Руйнуйте, паліте
Сіон святий!» Вавилоня
Дщере окаянна!
Блаженний той, хто заплатить
За твої кайдани!
Блажен! блажен! Тебе, злая,
В радості застане
І розіб’є дітей твоїх
О холодний камень15.И господь наш вас помянет,
Едомские дети,
Как кричали вы: «Громите!
Жгите! В прах развейте!
Сион святой!» Вавилона
Смрадная блудница!
Тот блажен, кто заплатит
За твою темницу!
Блажен, блажен! Тебя, злую,
В радости застанет
И ударит детей твоих
О холодный камень!
(Перевод Л.Вышеславского)16Шевченко перевел на украинский всего десять псалмов. Перевел, разумеется, с церковнославянского — восточных языков он не знал. Христианскую трактовку псалмов Тарас Григорьевич вряд ли усвоил. Научил его читать Псалтырь дьячок Богорский, человек еще молодой, не так давно бросивший семинарию (доучился только до среднего класса риторики). Учеников он порол нещадно, а в свободное время пил горилку. Вряд ли у него были время и возможность рассказать ученикам о сложном, аллегорическом толковании псалмов, принятом в христианской традиции. Ученики должны были только читать и учить их наизусть. Шевченко оставался один на один с церковнославянским переводом, сохранившим лишь часть поэтической силы оригинала.
Шевченко переводил псалмы осенью 1845-го, это был расцвет его гения. Украинский перевод оказался длиннее церковнославянского и содержал строки, не имевшие аналогов ни в церковнославянском переводе, ни, как я могу судить, в древнееврейском оригинале. Эдомляне у Шевченко не только пытаются заставить своих «невольников» спеть «пiсню вашу», но предлагают: «Або нашу заспiвайте». Намек на русских (москалей), что заставляют малороссиян переходить на «московскую мову» и принимать свои обычаи, совершенно очевиден.
Якої ж ми заспіваєм?..
На чужому полі
Не співають веселої
В далекій неволі17.Какую же будем петь мы?
Здесь, на чужом поле,Не поется веселая
В далекой неволе.
(Перевод Л.Вышеславского)18Противопоставление космополитичного Вавилона «национальному» Иерусалиму — прозрачный намек. Киев еще в XVII веке называли «вторым Иерусалимом» как в Малороссии, так и в Москве. К слову, еще Ярослав Мудрый в начале XI века построил в Киеве Золотые ворота и храм Премудрости Божией — Софийским собор. Образцами были златые врата и храм Софии в Константинополе, но ведь Константинополь просто копировал Иерусалим с его вратами и храмом царя Соломона.
Шевченко мог обойтись и без такой цепи ассоциаций. Его друзья называли Петербург «северным Вавилоном». Вавилон в 136-м псалме — обитель зла, столица враждебного государства. Но ведь и в поэме Шевченко «Сон» Петербург — это город не страшный, как у Гоголя. Это именно вражеский город.
Русский читатель будет удивлен и возмущен. В самом деле, украинцы «на чужой земле» пели во весь голос. Носили не кайданы (кандалы), а модные сюртуки, шляпы от Циммермана и швейцарские часы. Сам Шевченко одно время был франтом, любил одеваться по моде. Его друг, художник Сошенко, даже удивлялся: куда тебе, Тарас, всё это: «Шуба енотовая, цепочки шали да часы, да извозчики лихачи…»19 Но ведь и Николай Васильевич Гоголь, по словам С.Т.Аксакова, одевался с претензией на щегольство20. Что говорить про высокопоставленных малороссиян, сенаторов и тайных советников — Стороженко, Квитку, Кочубея? А жизнь крепостных малороссийских крестьян — говорящей собственности не только русских и польских, но и украинских панов — была не хуже и не лучше жизни таких же крестьян-великоруссов.
Но чувства сильнее разума, а историческая вина России и русских помнилась больше их исторических заслуг. Поэтому и появился в стихах великого поэта образ имперской столицы, поработившей Украину, построенной на козацких костях.
1 Быт Пушкинского Петербурга. Т. 2. С. 257.
2 Гоголь Н.В. Невский проспект // Полн. собр. соч.: в 14 т. Т. 3. С. 27.
3 Гоголь Н.В. Невский проспект. С. 46.
4 Мицкевич А. Дзяды // Мицкевич А. Стихотворения. Поэмы. С. 410.
5 Шевченко Т.Г. Зібрання творів: у 6 т. Т. 6. С. 188.
6 Барабаш Ю. «Если забуду тебя, Иерусалим…» Гоголь и Шевченко… С. 399.
7 Эта компания, как известно, была создана по образцу европейских коммерческих компаний, которые успешно занимались не только торговлей с заморскими странами, но и сами вели войны, захватывали целые страны, превращая их в новые колонии. Русско-американская компания управляла русскими владениями в Новом Свете.
8 Сомов О.М. Гайдамак. С. 36.
9 См.: Русский биографический словарь / изд. под набл. предс. Императ. Рус. Ист. О-ва А.А.Половцова: в 25 т. Т. 19. — СПб.: Тип. тов-ва «Общественная польза», 1909. С. 109.
10 Письмо О.М.Сомова Ф.Н.Глинке. 29 октября 1829 // Северные цветы на 1832 год. — М.: Наука, 1980.
11 Гоголь Н.В. Успех посольства (Из малороссийской повести «Страшный кабан») // Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. Т. 3. С. 232.
12 Цит. по: Барабаш Ю. «Если забуду тебя, Иерусалим…» Гоголь и Шевченко… С. 330.
13 Пс 136: 8–9. Псалом 136 цитируется по современному русскому переводу Псалмов, подготовленному Российским библейским обществом. См.: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. С. 685.
14 Цит. по: Аверинцев С. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. / под ред. Н.П.Аверинцевой и К.Б.Сигова; пер. с древнегреч. и древнеевр. — Киев: Дух и литера, 2004.
15 Шевченко Т.Г. Давидовi псалми // Зібрання творів: у 6 т. Т. 1. С. 364.
16 Шевченко Т.Г. Кобзарь. Стихотворения и поэмы. С. 316–317.
17 Шевченко Т.Г. Давидовi псалми // Зібрання творів: у 6 т. Т. 1. С. 364.
18 Шевченко Т.Г. Кобзарь. Стихотворения и поэмы. С. 316.
19 Чалый М.К. Новые материалы для биографии Т.Г.Шевченка. С. 63.
20. См.: Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем / изд. подгот. Е.П.Населенко и Е.А.Смирнова. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 10–11.
Зак Ибрагим. Сын террориста
- Зак Ибрагим. Сын террориста. История одного выбора / Пер. с англ. Д. Сонькиной. — М.: АСТ: Corpus, 2016. — 144 с.
Автору этой книги было всего семь лет, когда его отец, террорист Эль-Саид Нуссар, совершил свое первое преступление, застрелив в Нью-Йорке раввина Меира Кахане — основателя Лиги защиты евреев. Уже находясь в тюрьме, Нуссар помог спланировать и осуществить первый теракт во Всемирном торговом центре в 1993 году. Сегодня он отбывает пожизненное заключение, но остается примером и героем для мусульманских фанатиков во всем мире.
Зак Ибрагим с детства воспитывался в атмосфере фанатизма и ненависти. И все же отец-экстремист не смог заставить сына пойти по пути насилия и террора. История Зака доказывает, что никакое промывание мозгов не способно сделать из человека убийцу, если он сам того не захочет.2
Из сегодняшнего дня
Легко объяснить, почему убийственная ненависть — это навык, которому приходится учить. И не просто учить, а насаждать его принудительно. Дело в том, что это явление не встречается в природе. Это продукт лжи. Лжи, которую повторяют снова и снова — и, как правило, повторяют тем, у кого нет иных источников информации, доступа к альтернативному взгляду на мир. Это ложь, в которую однажды поверил мой отец и которую он надеялся передать и мне.
• • • То, что сотворил мой отец 5 ноября 1990 года, уничтожило нашу семью. Нам угрожали смертью, нас поносили в СМИ, мы были вынуждены скитаться и жили в постоянной нищете, тысячу раз пытаясь начать с нуля, и каждый раз эти попытки приводили к тому, что ситуация становилась только хуже. Имя отца было покрыто несмываемым позором, а мы оказались как бы побочным ущербом в этом позоре. Мой отец стал первым, насколько сейчас известно, исламским террористом, который совершил убийство на территории США. При этом он действовал при поддержке международной террористической сети, которая в конце концов назовет себя «Аль-Каида».
И его карьера террориста еще не закончилась.
В начале 1993 года мой отец прямо из своей камеры в тюрьме «Аттика» помог спланировать первый взрыв во Всемирном торговом центре. План привели в исполнение его старые единомышленники из мечети в Джерси-Сити, в том числе Омар Абдель Рахман — человек в феске и темных очках, которого пресса окрестила Слепым Шейхом. 23 февраля уроженец Кувейта по имени Рамзи Юсеф и иорданец Исмаил Айяд загнали взятый напрокат желтый фургон, набитый взрывчаткой, на подземную парковку под Всемирным торговым центром. Их жуткий план (в составлении которого принял участие и мой отец) заключался в том, что одна из башен ВТЦ рухнет на другую, и погибших будет не счесть. Но им пришлось удовольствоваться взрывом, который пробил тридцатиметровую дыру в четырех бетонных перекрытиях, ранив при этом более тысячи ни в чем не повинных граждан и убив шестерых, в том числе женщину на седьмом месяце беременности.
Моя мать всячески пыталась оградить своих детей от того, чтобы они узнали, какие ужасные поступки совершил их отец; и я сам не хотел ничего знать, — так что прошло много лет, прежде чем я до конца понял, насколько ужасны были эти преступления — и убийство, и взрыв. Почти столько же времени пройдет, пока я не осознаю, как я был зол на отца за то, что он так обошелся именно с нами — с моей матерью, моей сестрой, моим братом, со мной. В то время, когда происходили эти события, понять и вместить их было слишком сложно для меня. Страх, гнев и отвращение к самому себе въелись в самое существо моей души, но я даже не пытался как-то справиться с этим. Во время взрыва во Всемирном торговом центре мне было почти десять. Уже в то время я эмоционально был как компьютер, который отрубили от сети. К моменту, когда мне исполнилось двенадцать, меня до такой степени затравили в школе, что я подумывал о самоубийстве. И все это продолжалось лет примерно до двадцати пяти, пока я не встретил женщину по имени Шэрон, которая помогла мне осознать, что я чего-то стою — как и история моей жизни. История мальчика, которого учили ненавидеть, история мужчины, который выбрал другой путь.
• • • • Всю свою жизнь я пытался понять, как мой отец пришел к террору, и мне было очень тяжело осознавать, что в моих жилах течет его кровь. Я рассказываю историю моей жизни, чтобы дать читателям надежду и руководство к действию: я рисую портрет молодого человека, воспитанного в пламени религиозного фанатизма, но не принявшего путь насилия. Не то чтобы я считал себя каким-то особенным, но в жизни каждого из нас есть основная идея. И главная идея моей жизни пока что такова: «Выбор есть у каждого. Даже если тебя учили ненавидеть, ты все равно можешь выбрать путь толерантности. Ты можешь выбрать путь эмпатии».
Тот факт, что, когда мне было семь, мой отец оказался в тюрьме за неслыханное преступление, чуть не разрушил мою жизнь. Но этот же факт сделал мою жизнь возможной. Из-за решетки мой отец не мог наполнять меня ненавистью. И, что еще важнее, он не мог помешать мне общаться с людьми, которых он демонизировал, и узнать, что эти люди — обычные человеческие существа, о которых я мог заботиться и которые могли заботиться обо мне. Фанатизм несовместим с личным опытом. И все мое существо отвергло его.
Вера моей матери-мусульманки ни разу не была поколеблена во время наших семейных испытаний, но она, как и подавляющее большинство мусульман, кто угодно, только не ярый фанатик. Когда мне было восемнадцать и я наконец немного повидал мир, я сказал маме, что я больше не могу судить о людях по ярлыкам, которые на них наклеены: мусульманин, иудей, христианин, гей, гетеросексуал, — и что отныне я буду судить о человеке лишь на основании того, каков он на самом деле. Она выслушала, кивнула, и ей хватило мудрости произнести четыре самых вдохновляющих слова, которые я когда-либо слышал: «Я так устала ненавидеть».
У этой усталости была веская причина. Наши скитания дались ей тяжелее, чем нам, ее детям. Какое-то время она носила не только хиджаб, который покрывал ее волосы, но еще и никаб — головной убор, скрывавший все, кроме ее глаз: она была истой мусульманкой, а кроме того, она боялась, что ее узнают.
Недавно я спросил мать, понимала ли она, какие испытания ждут нашу семью, когда они с дядей Ибрагимом выходили из больницы «Бельвю» 6 ноября 1990 года. «Нет, — ответила она без малейших колебаний. — Я была обычной матерью, и жила обычной жизнью, и вдруг оказалась в круговороте безумия, моя жизнь была выставлена напоказ, мне пришлось прятаться от журналистов, общаться с властями, с ФБР, с полицией, адвокатами, мусульманскими активистами. Я словно переступила какую-то черту и перешла из одной жизни в другую. Я и понятия не имела, как это будет сложно».
Сейчас мой отец сидит в федеральной тюрьме в Марионе, штат Иллинойс, его приговорили к пожизненному заключению плюс пятнадцать лет без права условно-досрочного освобождения, и обвинения включают, помимо прочего, сговор о призыве к мятежу, убийство в целях вымогательства, покушение на убийство сотрудника Почтовой службы США, убийство с использованием огнестрельного оружия, покушение на убийство с использованием огнестрельного оружия и незаконное владение огнестрельным оружием. Честно говоря, у меня все еще остались по отношению к отцу какие-то чувства, нечто, что я не смог полностью изгладить из души, — нечто вроде жалости и чувства вины, — хотя ниточка этих чувств и тонка, словно паутинка. Трудно осознавать, что человек, которого я когда-то звал Баба, теперь живет в клетке, а нам всем пришлось сменить имена от ужаса и стыда.
Я не навещал своего отца 20 лет. И вот почему.
Униженные и оскорбленные
- Марина Степнова. Где-то под Гроссето. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 282 с.
Ни за что больше не брать в руки! Спрятать, задвинуть во второй ряд на полке, отправить в книжную ссылку. Уже в 2014-м — во время чтения романа Марины Степновой «Безбожный переулок» — стоило заподозрить что-то неладное. И вот, пожалуйста. В 2015-м вышел ее новый сборник рассказов «Где-то под Гроссето». Откроешь — и попадешься на удочку, на блестящий стиль. Проглотишь — и отравлен. Так и будешь ходить, извиваясь в судорогах, пока, если повезет, не отпустит.
Поначалу и представить трудно, чем обернется чтение этих коротких рассказов. Марина Степнова пишет о том же, о чем писала и раньше, — о жизни обывателей, не героев, а простых людей. Их можно встретить на лестничной площадке, во дворе дома, в очереди в магазине, на почте или в поликлинике. Они — повсюду. Достаточно раздвинуть шторы, увидеть рой светящихся окон в доме напротив — вот тут они и обитают. Бывшие жители бывшей страны. Теперь — России.
Вообще-то, сопереживать таким, малосимпатичным, сложно. Марина Степнова хорошо это понимает — и героев своих не жалеет. Показывая их жизнь изнутри, обнажая их душу, выставляя их напоказ, она заодно измывается над читателем — таким же маленьким, жалким, никчемным человеком. Других ведь не бывает. Все мы живем так нелепо и трагично, что обидно до слез. Смерть ходит по пятам за каждым. Глупые, амбициозные, мечтающие, верующие и надеющиеся — все уйдем в небытие, задохнемся от всего человеческого, что нам не чуждо. Не верите — прочтите Степнову:
И что с того, что она доживает свою единственную жизнь в Москве? Ни лаковых туфель, ни консерватории ей так и не досталось, не выпало, не срослось, а Ленинград стал Санкт-Петербургом, и она раз в месяц летает туда в командировки, в филиал киностудии, и часами без толку орет на оторопелых сотрудников <…>, а потом долго-долго сидит одна в номере отеля, прислушиваясь к тому, как тихо и неостановимо, будто зародыш, растет в ней опухоль, и тьма приближается, тьма непостижимая и страшная, что ни щелчок выключателя, ни вторая таблетка тазепама не способны принести ни спасения, ни облегчения…
Другими словами, кроме пометки «16+» необходима еще одна — «Слабонервным, а также людям, мучающимся неразрешимыми проблемами бытия, читать не рекомендовано».
Это даже не в духе Достоевского. Малая проза Марины Степновой — из XX века, отказавшегося и от намеков на хеппи-энд. Писательница заканчивает повествование многоточием, приоткроет дверцу — и бах! — тут же захлопнет, больно ударив по носу любопытному. Или мастерски обманет. Например, как в рассказах «Варенье из каки» или «Дядя-цирк». Заставит поверить в хорошее, а потом посмеется над тобой — это и про «Романс», и про «Татину Татитеевну», и про «Там внутри», и про «Покорми, пожалуйста, Гитлера». Сюжеты простые: влюбилась, бросил, заболела, умерла, уехала, остался один. Только в конце никакого катарсиса. Одно отчаянье.
Самое страшное — пишет Марина Степнова так, что ее книгу из рук не выпустить. Невозможно расстаться. Ее художественный язык, простой, притворяющийся спонтанной речью, гипнотизирует:
Почему ты не поехал на метро, идиот?! Таксист бухтит, что сейчас рассосется и двинемся, но я не выдерживаю, выскакиваю из машины. Беги, Форрест, беги! Все бегут вместе со мною, задыхаясь: Том Хэнкс и Джим Кэрри, катится, едва поспевая за Арнольдом, круглый де Вито, ди Каприо и Киану Ривз, — все мои герои несутся рядом, опережая взрывную волну, пространство, судьбу, время.
В книге много слов — круглых крупных спелых ягод. Положить в рот и смаковать. Рассказы хочется растаскать на короткие фразы, на словосочетания — тут и «гранитный хруст контрабандно пронесенного с собой печенья», и «пухлые пятилетки, похожие на маффины всех стадий пропеченности», и «немолодая женщина с тонким лицом утомленного колли» — и многое другое.
Возможно, по отдельности тексты Марины Степновой не произвели бы такого удручающего и одновременно сильного впечатления. Объединив их под обложкой, писательница создала диалог судеб, единый смысловой ряд, в который можно включить другие, на сей раз невыдуманные, истории.
«Где-то под Гроссето» — сборник, достойный широкого читателя. Его бы в метро продавать вместо женских романов и детективов. Легкая, невесомая проза с трудной проблематикой. Такая — которая попадает в болевые точки каждого и не отпускает, она понятна всем и не требует серьезной интеллектуальной подготовки. Только сил, чтобы ее пережить.
Дайджест литературных событий на февраль: часть 1
В первой половине февраля наступит раздолье для любителей классики и мечтающих повзрослеть детей. Лекции о Гофмане и Стивенсоне, встреча с автором «Путешествия в Чудетство» пройдут в Москве; в Петербурге же уделят внимание Хармсу и Мандельштаму — но Роальду, а не Осипу. О современной литературе позабыть тоже не удастся: презентации новых книг Дениса Драгунского и Марины Степновой состоятся и в Москве, и в Петербурге, романов Ивана Зорина и Александра Архангельского — только в столице, ну а где назначена презентация переиздания «Беспокойников города Питера», наверное, уточнять не нужно.
15 февраля

• Дмитрий Быков читает Пастернака
Писатель Дмитрий Быков удивляется и огорчается тому, что на встречах столь часто приходится говорить о литературных деятелях, но не их словами. Поэтому на этот раз Быков предоставит слово самому герою. На февральской встрече традиционный лектор «Прямой речи» почитает вслух Бориса Пастернака, юбилей которого в России отмечали в прошлом году.
Время и место встречи: Москва, лекторий «Прямая речь», Ермолаевский пер., 25. Начало в 19:30. Вход 1950 рублей.
14 февраля

• «Недетская» лекция об «Острове Сокровищ»
Елизавета Тимошенко читает в «Пунктуме» курс «Недетская детская литература». Цель его — сквозь привычную облочку литературы для детей дойти до вполне взрослых и серьезных смыслов. В пиратском «Острове Сокровищ» Стивенсона, оказывается, полно секретов — кажется, его придумывала вся семья писателя, а еще на сюжет романа повлияли детские болезни Стивенсона.
Время и место встречи: Москва, культурный центр «Пунктум», ул. Тверская, 12, стр. 2, этаж 4. Начало в 17:00. Вход 400 рублей.
13 февраля

• Чтения «Сказки сказок» Джанбаттиста Базиле
Актер и «сказочник» Борис Драгилев прочитает отрывки из средневековой «Сказки сказок», вышедшей этой зимой в Петербурге. Предвестник Шарля Перро и братьев Гримм итальянец Джанбаттиста Базиле создал чарующую в своей ужасности книгу. Читать и визуализировать ее можно бесконечно — в воображаемых картинках всегда найдется двойное мифологическое дно.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, книжный магазин «Все свободны», наб. р. Мойки, 28. Начало в 19:00. Вход свободный.
12 февраля

• Лекция о сказках Гофмана
Очередная «недетская» лекция — на этот раз в Петербурге, от доцента СПбГУ Алексея Белобратова. Он расскажет о пугающем взрослых и детей писателе Эрнсте Теодоре Амадее Гофмане, в творчестве которого есть, где покопаться, — например, в связях с музыкой и отражениях немецких сюжетов и образов в русской культуре. В конце встречи посетителям покажут отрывок из мультфильма о Гофмане.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Библиотека им. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 46. Начало в 18:30. Вход свободный.

• Презентация сборника «Живые, или Беспокойники города Питера»
Спустя десять лет выходит переиздание книги «Беспокойники города Питера» с историями о легендарных и незабытых персонажах. Изменился и город, появились новые герои — так, в новой книге найдут себе место не только Цой, Курехин и Науменко, но и Виктор Топоров, Геннадий Григорьев, Аркадий Драгомощенко. На презентации будут рассказывать о книге ее редактор Павел Крусанов, писатель Сергей Носов и художник Андрей Хлобыстин.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Лиговский пр., 10. Начало в 19:00. Вход свободный.

• Презентация книги Захара Прилепина «Непохожие поэты»
Книга Захара Прилепина, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей», посвящена трем советским авторам — Анатолию Мариенгофу, Борису Корнилову и Владимиру Луговскому. Современный писатель находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они не прятались и не отворачивались от трагических событий русской истории ХХ века.
Время и место встречи: Москва, Московский Дом книги, ул. Новый Арбат, 8, 2 этаж. Начало в 17:30. Вход свободный.
10 февраля

• Презентация «Альманаха 30»
Альманах выпускает «Проект 30», поставивший перед собой цель выявить черты постсоветской России. Под одной обложкой объединят тридцать текстов авторов, рожденных после 1985 года. Среди них — журналисты, писатели, поэта, философы, художники и ученые. На встрече также выступят с лекцией Сергей Карпов, Сергей Простаков и Антон Секисов.
Время и место встречи: Москва, ул. Моросейка, 12. Начало в 20:00. Вход по билетам.
3, 6, 10, 11 февраля

• Презентации «Где-то под Гроссето» Марины Степновой в Москве и Петербурге
Сборник от автора «Женщин Лазаря» и «Безбожного переулка» посвящен условным «маленьким людям». Они, начиная с XIX века, остаются не просто конструктом, но реальными, живыми фигурами со своими большими ожиданиями от жизни. Вкус и стиль у Степновой — отменные; в небольших рассказах эта чуткая дерганость чувствуется еще лучше.
Время и место встречи: 3 февраля, Москва, книжный магазин «Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1. Начало в 18:00. 6 февраля, Московский дом книги, Новый Арбат, 8. Начало в 16:00. 10 февраля, Санкт-Петербург, Библиотека им. В.В. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 44, 2 этаж. Начало в 18.00. 11 февраля, Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Невский пр., 46. Начало в 19:00. Вход свободный.
11 февраля

• Анджей Иконников-Галицкий представит новую книгу
Новая книга петербургского поэта и историка Иконникова-Галицкого — о путешествиях по России. Как никогда актуальная тема облечена в сборник под названием «Тридевятые царства России». Отметим, Анджей Иконников-Галицкий стал одним из первых обладателей Григорьевской поэтической премии, и стихи его — о многоликой и исторической России.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Лиговский пр., 10. Начало в 19:00. Вход свободный.
3, 10 февраля

• Лекции о китайской литературе
Весь путь Китайской литературы начиная с XIX века представят в «Циферблате». Там в рамках встреч, посвященных мировой литературе, дальше собираются говорить о книжном разнообразии США и других стран. Но сначала — Китай: Лао Шэ, Лян Сеошен, Чжан Сяньлян и, конечно, Мо Янь.
Время и место встречи: Москва, кафе «Циферблат», Покровка, 12. Начало в 19:00. Оплата по тарифу «Циферблата» (первый час 3 рубля за минуту, начиная со второго часа — 2 рубля за минуту).
10 февраля

• Вечер «Наш Мандельштам» Драмтеатра им. Штейна
Драматический театр имени Штейна существует с 1937 года, кoгда он открылся 10 февраля спектаклем «Наш Пушкин». Ежегодно театр отмечает день рождения подобной акцией, посвященной и другим поэтам. В 2016 году спектакль поставили о юбиляре Мандельштаме.
Время и место встречи: Москва, культурный центр «ЗИЛ», ул. Восточная, 4, корп. 1. Начало в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

• Лекция «Семь грехов Пушкина»
На лекции Владимира Новикова, автора биографий Пушкина, Высоцкого, Блока, слушатели узнают не только о грехах поэта, но и о том, как Пушкин их преодолел. В этом списке — не только прелюбодеяние и страсть к игре, но и гордыня, мстительность, злоречие. Анализ произведений главного классика может оказаться весьма функциональным и прикладным, а не только сугубо теоретическим.
Время и место встречи: Москва, лекторий «Мой курсив», Никитский бульвар, 7а. Начало в 19:30.Билеты от 1000 рублей.
10, 19, 25, 26 февраля

• Презентации книги Дениса Драгунского «Мальчик, дяденька и я»
В новом сборнике Дениса Драгунского — рассказы и повести, действие которых происходит у моря, в Прибалтике. Вопросы, которые одолевают главного героя-рассказчика, просты и замысловаты. Прошлое, настоящее, будущее; реальность, фантазия; любовь, нелюбовь — Драгунскому удается сказать новое слово.
Время и место встречи: 10 февраля, Москва, книжный магазин «Москва», Воздвиженка, 4/7, стр. 1. Начало в 19:00. 19 февраля, Москва, Московский дом книги, Новый Арбат, 8. Начало в 18:30. 25 февраля, Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Невский пр., 46. 26 февраля, Санкт-Петербург, Дом книги, Невский пр., 28. Вход свободный на все мероприятия.
9, 13, 14 февраля

• Встречи в рамках образовательной программы «200 ударов в минуту»
«200 ударов в минуту» — так называется выставка, организованная Московским музеем современного искусства и Политехническим музеем. Теперь к ним присоединился также Государственный литературный музей. Все вместе они представляют новую образовательную программу, в рамках которой состоится встреча с Сергеем Гандлевским, Александрой Шиляевой и Марией Галкиной, а также сеанс медленного чтения, интерактивный перфоманс, посвященный Дню всех влюбленных, и поэтический вечер с Тимуром Кибировым.
Время и место встречи: Москва, Московский музей современного искусства, ул. Петровка, 25. Начало 9 февраля в 19:00, 13 февраля в 19:30, 14 февраля в 15:00. Вход по билетам в музей и по предварительной регистрации.
9 февраля

• Лекция о поэте Роальде Мандельштаме
Тем, кто считает Роальда простым однофамильцем Осипа, литературный критик Никита Елисеев объяснит, что Роальд Мандельштам — это поэт ленинградского авангарда и друг многих живописцев второй половины XX века. Его тексты минималистичны, но яркие образы стихотворений западают в память надолго.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Библиотека им. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 46. Начало в 19:00. Вход свободный.

• Обсуждение книги Александра Эткинда «Кривое горе»
Бывший профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге обсудит свою последнюю книгу в родных стенах вместе с редактором издательства «Новое литературное обозрение» Ильей Калининым. В книге «Кривое горе: Память о непогребенных» рассказывается о постсоветском настоящем, связанным с советским прошлым. В ней нашлось место всему — от дел политзаключенных до кинематографа Меньшова и Германа.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Европейский университет, ул. Гагаринская, 3а, Белый зал. Начало в 19:00. Вход свободный.

• Михаил Яснов расскажет о «Путешествии в Чудетство»
Лекция о поэзии для детей пройдет в рамках лектория премии «Просветитель», в финал которой Яснов вышел в 2015 году. Лекция будет включать в себя и экскурс в историю детской поэзии, и обзор современности. Писатель поговорит и об издательской политике в этой области, а также о том, могут ли у нечитающих родителей быть читающие дети.
Время и место встречи: Москва, культурный центр «ЗИЛ», ул. Восточная, 4, корп. 1. Начало в 19:30. Вход свободный, по регистрации.
7 февраля

• Лекция о звуковом мире Михаила Булгакова
Главный редактор газеты «Мариинский театр», музыковед Иосиф Райскин прочитает лекцию о литературе. Поводом станет музыка произведений Михаила Булгакова, а именно упомянутые в них классические мелодии. От Верди и Чайковского до фокстрота — комментарии читателям даст специалист в музыке.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, БДТ им. Товстоногова, наб. р. Фонтанки, 65. Начало в 15:00. Вход 150 рублей.

• Лекция о Гофмане и психоанализе
Еще одна встреча, посвященная Гофману, на этот раз — не только для взрослых, но и для детей. Елизавета Тимошенко объяснит, почему она назвала писателя «праотцом психоанализа», а также порассуждает о других немецких романтиках. Зачем им нужен фольклор, кто такой Гауф, что они сделали для мировой литературы — одним Гофманом на этот раз дело не обойдется.
Время и место встречи: Москва, культурный центр «Пунктум», ул. Тверская, 12, стр. 2, этаж 4. Начало в 17:00. Вход 400 рублей.
5 февраля

• Презентация новой книги Александра Секацкого
Новая книга называется «Миссия пролетариата», и содержит она краткую версию обновленного марксизма. Секацкий может рассказать как о том, почему эта разновидность марксизма работает и в наши дни, а может поведать и о других философских концепциях. Другими словами, задавать вопросы главному писателю-философу Петербурга можно будет как о литературе, так и о сопутствующих ей вещах.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Лиговский пр., 10. Начало в 19:00. Вход свободный.
4 февраля

• Встреча с Еленой Чижовой
Лауреат «Русского Букера — 2009» Елена Чижова расскажет о своем творчестве. Ее самые известные романы — «Время женщин», «Крошки Цахес», «Планета грибов» — обладают узнаваемой стилистикой и тематикой. Обсудить с автором пересечения ее личной и творческой жизни может быть интересно любому читателю.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Библиотека им. Лермонтова, Литейный пр., 19. Начало в 18:00. Вход свободный, по читательским билетам.
3 февраля

• Показ фильма о Роальде Мандельштаме
Никита Елисеев посвятит еще один вечер Роальду Мандельштаму и прокомментирует фильм о нем. «Продавца лимонов» сняли в 2012 году, на вечер придет и режиссер фильма Максим Якубсон. Весьма символично прошедший Год литературы соединится с наступившим Годом кино в интерьерах Фонтанного дома.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, музей Анны Ахматовой, Литейный пр., 53. Начало в 18:00. Вход по билетам в музей от 50 рублей.

• Презентация книг Александра Архангельского
В конце 2015 года литературовед, критик и писатель Александр Архангельский выпустил две книги. Обе он представит в феврале. Какое удачное стечение обстоятельств и возможность поговорить как о серьезном «Коньяке „Ширван“», так и о хулиганских «Правилах муравчика»! При этом все, о чем пишет Архангельский, актуально до зубной боли — так что встреча предстоит отчаянно интересная.
Время и место встречи: Москва, Московский дом книги, Новый Арбат, 8. Начало в 18:30. Вход свободный.

• Встреча с главой издательства «Опустошитель» Вадимом Климовым
Опорная точка встречи — книга «Легко ли быть издателем» Андре Шиффрина, переведенная и на русский пять лет назад. Рассказ о практическом применении в российских условиях сведений из этой книги обеспечит глава издательства «Опустошитель». В «Опустошителе», напомним, печатаются интеллектуальные и малотиражные тексты — как в одноименном журнале, так и в отдельных книгах издательства.
Время и место встречи: Москва, книжный магазин «Тортуга», ул. Старая Басманная, 15. Начало в 19:30.Вход свободный.

• Юбилей альманаха [Транслит]
[Транслиту] исполняется десять лет. По этому поводу создатели и авторы альманаха вспомнят о былом и проразмыслят о будущем. На сцене Александринки появятся такие деятели новой поэзии, как Павел Арсеньев, Александр Смулянский, Роман Осьминкин, Галина Рымбу. Чтения и лекции посвятят детищу и расширению круга его читателей.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Новая сцена Александринского театра, наб. р. Фонтанки, 49а. Начало в 19:30. Вход по регистрации.
2 февраля

• Открытие выставки о Хармсе
Выставку назвали «Библиотека Хармса», и продлится она до 28 февраля. Специально для выставки четыре современных художника создали экспонаты — от книг до мебели — которые и представят посетителям. Выставка предназначается как для взрослых, так и для детей. Для последних там проведут конкурсы.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., 4-2, Государственный литературный музей «XX век». Начало в 18:00. Вход по билетам в музей от 50 рублей.

• Презентация книги «Записки уцелевшего»
Беллетрист Сергей Голицын не успел до своей смерти издать главный труд жизни — «Записки уцелевшего». Истории о дворянской семье и ее культуре в XX веке в России увидели свет только через 25 лет после кончины автора. Кроме сына и дочери Сергея Голицина во встрече примут участие Мариэтта Чудакова и Константин Мильчин.
Время и место встречи: Москва, книжный магазин «Москва», Воздвиженка, 4/7, стр. 1. Начало в 19:00. Вход свободный.

• Филармонический концерт к юбилею Хармса
Вместе с отрывками из Хармса к его 110-летию в Филармонии прозвучат Бах, Бетховен, Моцарт и Шостакович. Читать Хармса будут Евгений Перевалов и Владимир Кузнецов. Вас ждет фортепианная музыка в исполнении Петра Лаула, Александра Болотина, Надежды Рубаненко и Наталии Учитель.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Академическая филармония, Невский пр., 30, Малый зал. Начало в 19:00. Вход по билетам от 250 рублей.
1 февраля

• Презентация книги Ивана Зорина
Не так давно у Зорина вышел роман «Вечность мига», но в Московском доме книги он представит роман 2015 года «Зачем жить, если завтра умирать». Роман об одиночестве человека в современном мире может стать подспорьем современному читателю. Такой умудренный опытом писатель, как Зорин, просто не сможет соврать.
Время и место встречи: Москва, Московский дом книги, Новый Арбат, 8. Начало в 18:30. Вход свободный.
Бенгт Янгфельдт. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг
- Бенгт Янгфельдт. Ставка — жизнь. Владимир Маяковский и его круг / Пер. со швед. Аси Лавруши и Бенгта Янгфельдта.— М.: АСТ : Corpus, 2016. — 528 c.
Книга Бенгта Янгфельдта «Ставка — жизнь» написана о людях, окружавших главного поэта революции Владимира Маяковского, в первую очередь — о Лиле и Осипе Брик. Герои рассказанных автором историй пережили водовороты политических, литературных и личных страстей, которые для многих из них оказались гибельными. Поклонников творчества поэта привлечет занимательность повествования, а специалистов — редкие фотографии и не известные до сих пор документы из личного архива Л. Ю. Брик и архива британской госбезопасности.
Облако в штанах
1915–1916
Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.Владимир Маяковский.
Флейта-позвоночник«Маяковский ни разу не переменил позы, — вспоминала Лили. — Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодо-вал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы
между частями.Вот он уже сидит за столом и с деланной развязностью
требует чаю. Я торопливо наливаю из самовара, я молчу,
а Эльза торжествует — так я и знала!»Эльза добилась своего. «Это было то, о чем так давно мечтали, чего ждали, —
вспоминала Лили. — Последнее время ничего не хотелось читать».Первым пришел в себя Осип, объявивший, что Маяковский великий поэт,
даже если он не напишет больше ни строчки. «Он отнял у него тетрадь, —
вспоминает Лили, — и не отдавал весь вечер». Когда Маяковский снова взял
тетрадь в руки, он написал посвящение: «Лиле Юрьевне Брик». В этот день
ее имя появилось над поэмой Маяковского в первый, но не в последний раз:
до самого конца его жизни все его произведения будут посвящены Лили.Судя по всему, Лили и Осип были первыми слушателями окончательной
версии «Облака». До этого Маяковский читал фрагменты поэмы многим,
в частности Максиму Горькому, Корнею Чуковскому и Илье Репину — с одинаково ошеломляющим эффектом. Горького, например, Маяковский «испугал
и взволновал» так, что тот «разрыдался, как женщина». Услышав от Горького,
что «у него большое, хотя, наверное, очень тяжелое будущее», Маяковский
мрачно ответил, что хотел бы «будущего сегодня», и добавил: «Без радости —
не надо мне будущего, а радости я не чувствую!» Разговаривал он, как впоследствии вспоминал Горький, «как-то в два голоса, то — как чистейший лирик, то резко сатирически <…> Чувствуется, что он не знает себя и чего-то
боится… Но — было ясно: человек своеобразно чувствующий, очень талантливый и — несчастный».Тринадцатый апостол Что же заставило Горького зарыдать, а Лили — приветствовать «Облако в штанах» как нечто новое и долгожданное? Для читателя, знакомого с ранними
стихами Маяковского, «Облако» звучало не особенно «по-футуристически».
Поэма изобиловала дерзкими образами и неологизмами, но формально не являлась сложным произведением вроде его прежних кубофутуристических стихов, создавших ему скандальную репутацию. Нет, новизна заключалась прежде всего в посыле и в интонации — скорее экспрессионистской, нежели
футуристической.Наблюдение Горького о «двух голосах» Маяковского было на редкость точным. Через несколько недель после читки у Бриков Маяковский публикует
статью «О разных Маяковских», в которой представляется так, как ему кажется, его воспринимает публика: нахалом, циником, извозчиком и рекламистом, «для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту,
в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками
и пиджаками скромность и приличие». Но за двадцатидвухлетним нахалом,
циником, извозчиком и рекламистом скрывается, объявляет он, другой человек, «совершенно незнакомый поэт Вл. Маяковский», написавший «Облако
в штанах», — после чего приводится ряд цитат из поэмы, раскрывающих эту
сторону его личности.Спустя три года, после революции, Маяковский опишет «идеологию» поэмы следующими лозунгами: «Долой вашу любовь», «Долой ваше искусство». «Долой ваш строй», «Долой вашу религию». Подобной систематики или симметрии в поэме нет, но если идеологическое «ваш» заменить местоимением первого лица единственного числа, описание можно считать правильным:
«Облако в штанах» рассказывает об этих вещах, но не о «ваших» — то есть капиталистического общества, — а о моей, Маяковского, мучительной и безответной любви, моем эстетическом пути на Голгофу, моем бунте против несправедливостей, моей борьбе с жестоким и отсутствующим богом.
«Облако» — один сплошной монолог, в котором поэт протестует против внешнего мира, против всего, что является «не-я». Начинается поэма дерзким самовосхвалением в духе Уитмена:
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрóмив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.Уже здесь, в прологе, читателя готовят к резким перепадам чувств, которыми
пронизана вся поэма:Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!В первой части поэмы рассказывается о любви к молодой женщине, Марии, одним из прообразов которой послужила Мария Денисова. Ожидая ее
в условленном месте, Маяковский чувствует, что «тихо, как больной с кровати, спрыгнул нерв», вот уже «и новые два мечутся отчаянной чечеткой», такой
свирепой, что в гостиничном номере этажом ниже, где они должны встретиться, падает штукатурка.Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!Когда Мария наконец появляется и объявляет, что выходит замуж за другого,
поэт спокоен, «как пульс покойника». Но это спокойствие вынужденное —
кто-то другой внутри него стремится вырваться из тесного «я». Он «прекрасно болен», — то есть влюблен — у него «пожар сердца». Подоспевших пожарных поэт предупреждает, что «на сердце горящее лезут в ласках», и пытается
сам тушить огонь «наслезнёнными бочками». Когда у него не получается, он
пытается вырваться из себя, опираясь о ребра, — «не выскочишь из сердца!»
и не избавишься от вечной тоски по любимой: «Крик последний, — ты хоть —
/ о том, что горю, в столетия выстони!»В следующей части настроение резко меняется: отчаявшийся поэт с горящим сердцем теперь выступает в роли футуристического бунтаря, который «над всем, что сделано», ставит nihil:
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!Поэты, которые «выкипячивают из любовей и соловьев какое-то варево», принадлежат прошлому, теперь «улица корчится безъязыкая — ей нечем кричать
и разговаривать». Только новые поэты, которые «сами творцы в горящем гимне — шуме фабрики и лаборатории», способны воспевать современную жизнь,
современный город. Но путь Маяковского тернист. Турне футуристов представлено как путь на Голгофу:…и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»Поэтический дар Маяковского отвергается и обсмеивается современниками,
как «длинный скабрезный анекдот». Но будущее принадлежит ему, и в мессианском пророчестве он видит «идущего через горы времени, которого не видит никто». Он видит, как приближается, «в терновом венце революций», «который-то год»:1И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.В третьей части развиваются все предыдущие темы, но мотив бунта становится
более четким. Облака — «белые рабочие», которые «расходятся», «небу объявив озлобленную стачку», и поэт призывает всех «голодненьких, потненьких, покорненьких» к восстанию. Однако его чувства противоречивы: хотя он видит «идущего через горы времени, которого не видит никто», он знает, что «ничего не будет»: «Видите — небо опять иудит / пригоршнью обрызганных предательством звезд?» Он ежится, «зашвырнувшись в трактирные углы», где «вином обливает душу и скатерть». С иконы на стене «трактирную ораву» «одаривает сиянием» другая Мария, Богоматерь: история повторяется, Варавву снова предпочитают «голгофнику оплеванному», то есть Маяковскому:Может быть, нарочно я в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
…………………………….
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.Несмотря на то что протест Маяковского не лишен социальных аспектов,
на самом деле речь идет о более глубоком, экзистенциальным бунте, направленном против времени и миропорядка, превращающего человеческую жизнь
в трагедию. Это становится еще яснее в заключительной части поэмы, где
молитва о любви опять отвергается, в строках, пророческий смысл которых
автору, к счастью, пока неведом: «…я с сердцем ни разу до мая не дожили, /
а в прожитой жизни / лишь сотый апрель есть».Виноват в несчастной, невозможной любви Маяковского не кто иной, как сам Господь, который «выдумал пару рук, / сделал, / что у каждого есть голова»,
но «не выдумал, / чтоб было без мук / целовать, целовать, целовать»:Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!Любовь доводит человека до грани безумия и самоубийства, но Вселенная
безмолвствует, и не у кого требовать ответа. Миропорядок поколебать невозможно, мятеж напрасен, все растворяется в тишине: «Вселенная спит, / положив на лапу / с клещами звезд огромное ухо».«Облако в штанах» — молодой, мятежный монолог, заставивший Пастернака вспомнить о юных бунтарях Достоевского, а Горького воскликнуть, что
«такого разговора с богом он никогда не читал, кроме как в книге Иова». Несмотря на некоторые композиционно-структурные слабости, поэма представляет собой значительное достижение, особенно учитывая возраст автора. Благодаря эмоциональному заряду и новаторской метафорике она занимает
центральное место в творчестве Маяковского; к тому же поэма является концентратом всех главных тем поэта. Многие из них — безумие, самоубийство,
богоборчество, экзистенциальная уязвимость человека — сформулированы
еще в написанной двумя годами ранее пьесе «Владимир Маяковский» — экспрессионистическом, ницшеанском произведении с жанровым определением «трагедия». «Владимир Маяковский» — не имя автора, а название пьесы.«Трагедия называлась „Владимир Маяковский“, — прокомментировал Пастернак. — Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор,
но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру». Когда Маяковского спросили, почему пьеса названа его именем, он ответил: «Так будет
называть себя тот поэт в пьесе, который обречен страдать за всех». Поэт — козел отпущения и искупитель; одинокий, отверженный толпой, он принимает
на себя эту ношу именно в силу того, что он поэт.Когда в феврале 1915года отрывок из поэмы «Облако в штанах» был опубликован в альманахе «Стрелец», она носила жанровое определение «трагедия»,
а в статье «О разных Маяковских» поэт называет ее своей «второй трагедией», тем самым устанавливая прямую связь между поэмой и пьесой. Эта связь
становится еще более очевидной, поскольку изначально «Облако» называлось
«Тринадцатый апостол» — которым был не кто иной, как Маяковский. Будучи
вынужденным по требованию цензуры изменить название, Маяковский выбрал «Облако в штанах» — еще одну свою ипостась. Все три названия: «Владимир Маяковский», «Тринадцатый апостол», «Облако в штанах» синонимичны авторскому «я» — естественный прием поэта, чье творчество глубоко
автобиографично.Страшный хулиган Несмотря на то что «Облако» получило одобрение таких авторитетов, как
Максим Горький и Корней Чуковский, Маяковскому было трудно найти издателя. Услышав об этом, Брик предложил профинансировать издание и попросил Маяковского узнать стоимость. Поэты-футуристы были бедны и находились в постоянных поисках денег на свои дела, так что поначалу Маяковский рассматривал Осипа как потенциального мецената. Поэтому он указал
завышенную сумму, положив часть денег в собственный карман. Когда много
лет спустя он понял, что Лили и Осип знали об этом, ему было очень стыдно.Однако Маяковскому скоро стало ясно, что Осип не обычный богач, а искренне увлекается футуризмом. Но это было новым увлечением. Помимо
единственной до чтения «Облака» личной встречи, Лили и Осип видели Маяковского лишь однажды, на публичном выступлении. Когда в мае 1913года
в Россию после многих лет эмиграции вернулся поэт-символист Константин
Бальмонт, в его честь был устроен вечер, на котором выступал Маяковский,
приветствовавший Бальмонта «от имени его врагов». Маяковского ошикали,
и среди шикающих были Лили и Осип.Теперь, в 1915году, Маяковский считался обещающим поэтом, но широкая
слава к нему пока не пришла. Его немногочисленные стихи печатались в газетах и малоизвестных футуристических изданиях, а когда осенью 1913года
в Петербурге поставили пьесу «Владимир Маяковский», Лили и Осип жили
в Москве. На самом деле пока он был известен главным образом как устроитель футуристических скандалов.Чтение «Облака в штанах» мгновенно развеяло скепсис Лили и Осипа.
В сентябре 1915-го поэма вышла с окончательным посвящением «Тебе, Лиля»
на титульном листе, издательским именем ОМБ — инициалы Осипа — на обложке и новым жанровым определением: не «трагедия», а «тетраптих» — композиция из четырех частей, ассоциативно уводящая к «триптиху», трехчастной иконе. Тираж 1050 экземпляров. Строки, в которых цензура разглядела
богохульство или политическую крамолу, были заменены точками.Мы знали «Облако» наизусть, — вспоминала Лили, — корректуры ждали как
свидания, запрещенные места вписывали от руки. Я была влюблена в оранжевую обложку, в шрифт, в посвящение и переплела свой экземпляр у самого
лучшего переплетчика в самый дорогой кожаный переплет с золотым тиснением, на ослепительно белой муаровой подкладке. Такого с Маяковским еще
не бывало, и он радовался безмерно.Продажи, однако, шли вяло, согласно Маяковскому, потому что «главные потребители стихов были барышни и барыни, а они не могли покупать из-за заглавия».
Очень жалко, что книга Маяковского тебе не понравилась, — писал Осип
Олегу Фрелиху в сентябре, — но думаю, что ты просто в нее не вчитался.
А может быть, тебя отпугнула своеобразная грубость и лапидарность формы. — Я лично вот уже четвертый месяц только и делаю, что читаю эту книгу;
знаю его наизусть и считаю, что это одно из гениальнейших произведений
всемирной литературы <…> Маяковский у нас днюет и ночует; он оказался
исключительно громадной личностью, еще, конечно, совершенно не сформировавшейся: ему всего 22 года и хулиган он страшный.«Брики отнеслись к стихам восторженно», а Маяковский «безвозвратно полюбил Лилю» — так подвела итог Эльза после чтения «Облака». Будучи
младшей сестрой, она всегда пребывала в тени Лили, а порой, например
в случае с Гарри Блюменфельдом, даже наследовала ее увлечения. Тем не менее в этот раз вышло наоборот: отныне Маяковский не видел никого, кроме Лили.
1 Эти строки первоначально были вычеркнуты цензурой. В неподцензурном издании 1918г. Маяковский заменил «который-то» на «шестнадцатый». Он хотел показать, что предсказывал революцию, но не хотел, чтобы пророчество выглядело подозрительно точным.
Денис Драгунский. Мальчик, дяденька и я
- Денис Драгунский. Мальчик, дяденька и я. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 318 с.
Герой новой книги Дениса Драгунского «Мальчик, дяденька и я» вспоминает свою юность, прошедшую на Рижском взморье. Среди героев есть и реальные лица, и вымышленные. Перед читателем встает череда сложных и важных вопросов. Где кончается фантазия и начинается реальность? Когда прошлое вновь становится настоящим? И почему мы так часто любим не тех, кто нас любит, а совсем наоборот?
ДОЧЬ ПИСАТЕЛЯ
Один раз, когда мы с Олей ехали в Ригу из Юрмалы, с нами рядом на соседней скамейке ехала — а до этого вместе с нами покупала билет на 12:07 — молодая женщина с чемоданом на колесиках. Наверно, у нее кончился срок отдыха.
Одинокую женщину на отдыхе жальче, чем одинокого мужчину. Хотя, конечно, бывает по-разному. Но всё равно жальче. Я вспомнил дочку писателя Полубаринова. Это была странная история. Вернее, совсем не странная и даже не история, а просто кусочек курортной жизни.
Давным-давно, кажется, в лето имени Вари Бессарабовой, то есть году в семидесятом, мы с ребятами сидели на крыльце одного из деревянныхкорпусов, курили и болтали о том о сем. Слышно было, как подъехала электричка, постояла, а потом отошла. Было поздно, одиннадцать часов с минутами; может быть, это была последняя электричка или предпоследняя — не важно. Она уехала, стало тихо. Машин тогда было мало, а ночью их не было, можно сказать, вовсе. Поэтому стало совсем тихо. И в этой тишине мы услышали приближающийся звук каблучков по асфальту. Кто-то дошел до калитки нашего Дома творчества, открыл ее с тихим дачным скрипом. Легкое цоканье каблуков тут же сменилось шуршанием гравия, им была засыпана широкая подъездная дорога, по которой фургончики привозили еду в столовую. Шаги остановились. Мы затихли тоже. Потом кто-то что-то сказал, не относящееся к этим шагам. И вот тут снова раздалось цоканье каблуков, потому что гравийная дорога сменилась асфальтовой тропинкой, и буквально через три секунды мы увидели девушку, ну, то есть, в смысле, молодую женщину лет двадцати пяти или около того, с чемоданом в руке, коротко стриженную, большеглазую, рыжевато-блондинистую. Она подошла к крыльцу. Мы замолчали. Она смотрела на нас, мы на нее. Я был самый старший в компании, поэтому именно я сказал: — Добрый вечер. А вы, простите, кто?
Она сказала:
— Здравствуйте. Я дочь писателя Полубаринова.
Она понимала, наверное, что мы первый раз слышим о таком писателе.
О многих писателях мы слышали в первый раз. У нас даже была такая забава — играть в писателей. Дело в том, что почти в каждом писательском доме был справочник Союза писателей. Десять тысяч человек писателей было в СССР, страшное дело. Этот справочник переиздавался почти каждый год, и поэтому у разных людей были справочники разных лет. Игра же состояла вот в чем: мы ставили на кон деньги, например, по копейке или по две, и дальше кто-то говорил (или волчок вертели, или на пальцах выкидывали), и получалось, например, 145 и 6. Это значило: 145-я страница, 6-й писатель сверху. Как правило, выигрывал тот, кто мог сказать: «Да, я знаю этого писателя». Везло тому, кто случайно наталкивался на писателя, действитель но всем известного. Тут уж никто не сомневался, что этого писателя человек знает, потому что его знали все. Если же попадался писатель неизвестный, которого человек знает, вернее, утверждает, что знает, то это надо было доказать. Например, назвать одну-две книги. Врать не всегда получалось. Потому что попадется тебе какой-нибудь Иван Козлов, ты скажешь: «Конечно, знаю». Ведущий спроит: «Ну и что же ты этого Ивана Козлова читал?» Ты соврешь и скажешь: роман «Мать партизана» и повесть «На границе». Придумаешь такое типичное советское название, а тебе закричат: «Врешь, врешь, врешь!!!» И торжествующе прочтут: «Козлов Иван Петрович, поэт, переводчик с армянского». Поэтому добраться до известного писателя было довольно трудно. Ставки по копейке всё время повторялись, и победитель, бывало, уносил с собой рубль, а то и полтора.
В это же лето я разговорился с парнем лет на десять старше меня, очень худым и смуглым, с восточным лицом. Он отдыхал вместе с пузатым папашей, который выходил на пляж в кремовом летнем костюме и начинал раздеваться, демонстрируя сатиновые трусы до колена и лиловатую майку-фуфайку. Насколько представителен и джентльменист он был в костюме, настолько же нелеп и затрапезен в этих синих сатиновых трусах и линялой майке.
— Отец? — спросил я у парня.
— Ага, — сказал он и, отвечая на мой незаданный вопрос, добавил: — Классик.
— В смысле? — не понял я.
— Классик нашей литературы, — сказал он, — которая наследует великим творениям Востока, — у него подрагивали губы, он, наверное, старался не рассмеяться, — но расцвела новым цветом в лучах Октября.
— А что он пишет? — спросил я.
— В смысле? — теперь он повторил мой вопрос.
— Ну, поэт, прозаик, драматург?
— Кака разныца? — сказал парень, нарочно изображая среднеазиатский акцент. — Что хочет, то и пишет. Думаешь, я читаю? Сказано — классик, и все дела.
Спрыгнул со скамейки и помчался к воде. И долго бежал, поднимая брызги, потому что до глубины надо было идти метров сто, я же говорил. А классик живым монументом в сатиновых трусах стоял на берегу. Он вообще, мне кажется, никогда не садился.
Так вот, дочка писателя Полубаринова прекрасно понимала, что мало кто знает писателя Полубаринова, и поэтому добавила:
— Писателя Полубаринова из Читы.
— Вы из Читы? — спросили мы все хором.
— Да, — сказала она. — Вот, приехала отдыхать по путевке. А как здесь заселяться?
Мы всей гурьбой проводили дочку писателя Полубаринова до администрации, которая располагалась — не помню, говорил я об этом или нет, — в первом и единственном этаже недостроенного главного корпуса. Совершенно не помню, как ее зовут. Мы все с ней как-то не сдружились. Но не потому, что не нашли общего языка или, упаси боже, поссорились или не понравились друг другу. Всё проще: мы для нее были слишком молодыми. Нам было по восемнадцать лет, а некоторым и вовсе по четырнадцать, как уже упомянутой Варе. Вообще у нас было довольно много малышни. Наша компания была сфокусирована на этом прекрасном возрасте абитуриентов и старшеклассников. Даже я в свои двадцать сам себе казался для этой компании староват. Случай с Варей — прекрасное тому подтверждение. А дочке писателя Полубаринова было самое маленькое двадцать пять. А в этом возрасте каждый год весит гораздо тяжелее, чем в сорок или пятьдесят, сами понимаете. Поэтому в нашу компанию дочка писателя Полубаринова не вошла, а ко взрослой компании, там, где были люди от сорока и старше, тоже как-то не прибилась. Так и ходила она одна по аллейкам, ездила на экскурсии, лежала на пляже. Миленькая, беленькая, хорошенькая, с перламутровым лаком на пальцах рук и ног — совсем одна. Так и уехала.
Но, может быть, я вообще ничего не понимаю ни в жизни, ни в людях.
Может быть, она приехала в Ригу из Читы не за тем, чтобы развлекаться в шумной компании, или завести роман, или подцепить себе какого-нибудь писателя. Вовсе нет. Может быть, она приезжала отдохнуть, просто отдохнуть, в самом прямом и непосредственном смысле слова. Я, кстати, так и не спросил, кем она работает у себя в Чите. Может быть, она была школьной учительницей и до отчаяния устала от орущего класса, от бесконечного школьного галдежа, беготни по переменам, от классных собраний, дежурств и педсоветов. Может быть, она лежала на пляже, закрыв глаза, и думала: «Боже мой, какое счастье! Тишина, никто не пристает!»
Но, может быть, я просто был невнимателен, неприметлив, в общем, не разбирался в людях, в чем меня однажды упрекнул отцовский приятель, старый актер и театральный педагог Семен Гушанский. Я вспомнил одного нашего знакомого, тоже папиного товарища, и Семен сказал:
— Жуткий потаскун, страшный бабник.
Я сказал:
— Да-а-а??? — не просто из вежливости сказал, а в самом деле не мог и предположить, что этот папин друг, такой тонкий, хрупкий, седой и даже отчасти застенчивый, говорящий тихим голосом, мягкий, уступчивый, интеллигентный и всё такое, — что он, оказывается, страшный потаскун, бабник и вообще жеребец, как сказал Семен.
— Не может быть, — сказал я. — Так вроде и не скажешь.
— Эх ты, драматург! — сказал Семен.
Я как раз пришел к Семену, чтобы передать ему свою пьесу, которую он обещал передать своему старому приятелю Плятту.
Плятт пьесу прочитал, позвонил мне по телефону, выражал свои восторги, просил разрешение передать пьесу в дирекцию, вот прямо такими словами, с ума сойти. Потом мне звонил директор. Уже распределили роли, но в последний момент, разумеется, всё сорвалось. Но это так, к слову.
— Эх ты, драматург, — сказал Семен. Взял папку с моей пьесой и слегка стукнул меня по лбу. — Да какой же ты, к чертовой матери, драматург, если ты в людях совершенно не разбираешься? Да на нем же просто написано, какой он кобель!
Может быть, в моей пьесе и в самом деле недоставало знания людей, и вот поэтому ее все-таки не поставили. Хотя поначалу она всех поразила. Мне с годами начинает казаться, что в 99 % случаев пьесу не ставят — правильно, справедливо.
Впрочем, потом эту пьесу все-таки поставили.
В Болгарии. Но прошла она всего раз десять или пятнадцать, не больше. Один сезон. Так что всё правильно.
Так что, может быть, дочка писателя Полубаринова завела себе потрясающий головокружительный роман в нашем Доме творчества, может быть, она сломала судьбу какому-нибудь пожилому поэту или прозаику. Или жена какого-нибудь поэта или прозаика сломала о башку своего мужа пишущую машинку «Колибри» — были такие машинки-малютки, игравшие роль нынешних ноутбуков.
Но этого я не знаю. Всё это — мои домыслы, всё это — фантазии не слишком наблюдательного человека.
— Театр, театр! — сказал дяденька. — Вот мы тутжили в гостинице «Юрмала». В Риге в эти дни были гастроли театра «Ленком». Актеры жили в этой же гостинице. Это был то ли восемьдесят второй, то ли восемьдесят четвертый год. Завтраков, как теперь, типа «пти дежене», включено в стоимость тогда не было. Надо было ходить в буфет. Буфеты были в торце здания на каждом этаже. Может быть, даже в обоих торцах. То есть буфетов было много. Надо было ходить в буфет и там брать какой-то завтрак. Творог со сметаной, вареные яйца и что-то в этом роде. Приятно было стоять в очереди прямо за Инной Чуриковой. Какой я был тактичный тогда! Нет бы познакомиться или просто выразить свой восторг. Фильмы
«Начало», «Прошу слова», не говоря уже о «В огне брода нет», были, как сейчас говорят, культовыми.
И, конечно, был Янковский, невозможной красоты и обаяния. Каждое утро в течение двух недель я наблюдал такую картину: Янковский с цветной простынкой и полотенцем выходил на пляж, расстилал простынку, ложился на нее, надев темные очки, и загорал, то ли читая книгу, то ли просто подремывая. И немедленно рядом с ним, со всех четырех сторон, то есть справа, слева, в голове и ногах — крестом, а вернее, свастикой — укладывались четыре девушки. Обворожительные, в модных очках, с идеальными фигурами, с ухоженными личиками, в доведенных до минимума, почти что несуществующих купальниках. Они молча лежали вокруг и чего-то ждали. Потом Янковский, назагоравшись, поднимался, складывал свою простынку и уходил, перешагивая через одну из этих девиц. Девицы сквозь темные очки смотрели ему вслед, а потом меняли расположение. И вот так две недели подряд. Янковского давно уже нет. Есть ли эти девицы? Во что они превратились? Они были чуть моложе меня. Мне тогда уже было лет тридцать с маленьким хвостиком, а им лет по двадцать пять, но никак не меньше. Значит, они сейчас пенсионерки, бабушки. Очень бы хотелось на них посмотреть. Не растолстели ли они, не одрябли? Не покрылись ли морщинами, не появились ли венозные узлы и подагрические шишки на их чудесных стройно-бархатистых, отпедикюренных ножках? Иногда мне кажется, что я вижу их на сегодняшнем Юрмальском пляже: три крепких жилистых старухи, а четвертой уже нет. Или нет, пусть живет. А четвертая жирная, такая жирная, что ходит с двумя костылями-канадками. Фу! Фу, какая я сволочь! Пусть четвертая тоже будет подтянутая, жилистая и даже не старуха, а женщина, которая прекрасно выглядит.
В то лето было очень много ос и много странного мороженого. Двухсотграммовое эскимо, но зато без шоколада. Мы с дочкой почему-то объедались этим мороженым. Мороженое капало на голые колени. Осы слетались. Мы соскакивали со скамейки, бежали в другое место. Осы летели следом — или это были уже другие осы, осы из другого места. Вся Юрмала была в эти полосатых зудящих тварях. А мы через две недели переехали в другой пансионат, вернее, в другую гостиницу: из Майори, из гостиницы «Юрмала» — в Лиелупе, в гостиницу «Zinātnes nams», что в переводе значит «Дом науки». Как вы поняли, это был пансионат Академии наук. От этой гостиницы до моря было далековато, зато рядом была речка Лиелупе. Мы катались на лодках. Я уже рассказывал, как это было, — как нас чуть не утопила «Ракета», как нас чуть не утопил буксирный катер в камышовых островах. Это было ничем не замечательное место. Настолько ничем не замечательное, что даже удивительно, как в такой скукоте и вялой тишине могут отдыхать люди. Впрочем, нам там было неплохо. Ос, во всяком случае, было меньше. А десять минут пешком до моря даже приятны. Дорога шла по аллеям дачного поселка, в котором чуть ли не с тридцатых годов жили высокопоставленные персоны. И потом, в советское время, тоже.
— Мы гуляли по этому поселку, — вздохнул дяденька, — и кто-то нам показал бывшую дачу Балодиса, министра обороны в правительстве Ульманиса. Говорят, он был картежник, гуляка, пьяница и милейший человек.