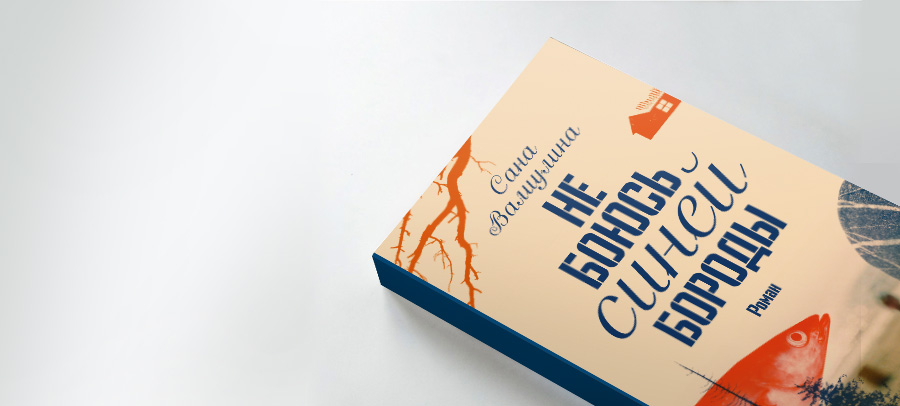- Пола Хокинс. В тихом омуте / Пер. с англ. В.В. Антонова. — М.: Издательство АСТ, 2017. — 384 с.
Пола Хокинс — многогранный автор. Она начала карьеру как бизнес-журналист крупнейшей британской ежедневной газеты The Times, написала книгу о финансовой грамотности для женщин, а также четыре романтические комедии под псевдонимом Эми Сильвер. Ее первый детективный роман «Девушка в поезде» побил все рекорды популярности: полтора миллиона проданных копий за первые два месяца продаж, тринадцать недель на первом месте в рейтинге The New York Times, почти сразу — кинофильм со звездным составом.
Успех «Девушки в поезде» можно объяснить камерностью романа. Действие разворачивается в вагоне электрички и уютных викторианских домиках. Всего шесть персонажей — с виду приличных обитателей лондонского пригорода. В каждом из них можно узнать себя. Но вместо того чтобы в миллионный раз воспользоваться привычной формулой «у каждого есть скелет в шкафу» и выстроить сложную геометрию преступления, Пола Хокинс подняла вопрос домашнего насилия — физического и эмоционального, газлайтинга. Сайт The Guardian писал в декабре 2016 года, что в период между 2009 и 2015 годами в Англии и Уэльсе (общее население которых составляет около 56 миллионов человек) более 900 женщин были убиты своими настоящими или бывшими партнерами или же сыновьями. Девятьсот человек — это примерно три вагона метро в час-пик, то есть половина поезда. Остальные три вагона занимают их убийцы.
Разобравшись с преступлением в уютном пригороде Лондона, Пола Хокинс отправилась в небольшой провинциальный городок на севере Англии. Бекфорд стоит на берегу реки, в водах которой неоднократно гибли женщины. Эта негативная аура притягивала внимание фотохудожницы Даниэлы Эбботт, которую все зовут Нел. Работая над книгой о жертвах Смертельной заводи, она сама становится одной из них. Разобраться с делами покойной и присмотреть за ее дочерью-подростком приезжает младшая сестра Нел по имени Джулс, с которой они не разговаривали несколько лет. Было ли это самоубийство? Есть ли связь со смертью школьницы, которая прыгнула с того же утеса несколько месяцев назад? Может быть, цепочка событий простирается еще дальше в прошлое? Так или иначе, связанными с гибелью женщины оказывается половина жителей Бекфорда.
Я сняла туфли и, оставшись в джинсах и футболке, немного постояла на берегу. Потом медленно двинулась вперед: первый шаг, второй, третий. Чувствуя, как ноги начали вязнуть в иле, я закрыла глаза, но не остановилась. Когда вода сомкнулась у меня над головой, я сквозь невольный ужас вдруг осознала, что на самом деле ощущение было приятным. По-настоящему приятным.
Пола Хокинс постоянно меняет рассказчика — история развивается по спирали, затягивая читателя в омут. Это не обычный детектив в том смысле, что здесь нет героя, который двигал бы сюжет, проводя расследование и сопоставляя разные взгляды, — это задача читателя. Каждый персонаж пытается разгадать свою загадку, поднятую со дна души трагедией в Смертельной заводи. Хокинс распыляет внимание читателя, постоянно отвлекая его от «главного вопроса», который разделяет свое главенствующее место с теми самыми «скелетами». Они оказываются не отступлениями от основного повествования, но, наоборот, открывают нам полную картину случившегося, приводят к истоку событий.
Детектив почему-то считается низким жанром, неприемлемым для «истинно интеллектуальных читателей». Это что-то для пассажиров электричек, метро, для скучающих на пляже клерков. Именно поэтому так важно, что написано в детективном романе помимо интриги. Конечно, интеллектуальное упражнение приносит читателю удовольствие. Уставшим от таблиц в «Экселе» людям надо щекотать себе нервы, чтобы удостовериться, что они все еще живы. Судьбы других — пропавших, найденных, неспасенных — разительно отличаются от наших. И это успокаивает. Поэтому, собственно, жанр детектива не умирает, хотя, казалось бы, все возможные способы и причины для убийства уже были названы и препарированы. Можно сказать, что детектив заставляет нас бояться выходить на улицу и ценить свою не всегда любимую работу. Охраняет наш мелкобуржуазный мир. Однако в то же время он оказывается уникальной площадкой для социальной пропаганды — за счет широкой аудитории. Убийца из «Девушки в поезде», которого, конечно, можно сразу заподозрить, — не маньяк, не сумасшедший, а обаятельный любимый мужчина. Он совершает убийство не по зову крови или дьявола, не от безумия, а из стремления сохранить свой уютный мирок. Все оказывается так обезоруживающе и леденяще просто.
Современные авторы детективов все дальше уходят от «криминальной» составляющей к «драме». В центре внимания — человек, а не преступление. Неслучайно многие авторы включают в текст внутренний монолог преступника, то есть дают ему право голоса. А личность детектива порой оказывается куда более сложной загадкой, чем свершенное злодеяние. Если выбросить из романа Роберта Гэлбрейта (псевдоним, под которым пыталась скрыться Джоан Роулинг) само расследование, объем книги сократится примерно процента на два, зато многообразие страданий не уменьшится ни на йоту. Персонажи книг «главного детективщика Скандинавии» Ю Несбё погибают при особо шокирующих обстоятельствах — благополучным северянам и раздражитель требуется посильнее.
В России два романа Хокинс пока выглядят свежо и даже несколько философично. Они опережают время: общественная дискуссия по вопросам защиты прав женщин только начала формироваться, причем в парадоксальной ситуации декриминализации домашнего насилия, которое в октябре 2012 года «Российская газета» назвала причиной гибели 12–14 тысяч россиянок ежегодно.
Таких кругом немало. Мой отец считался хорошим человеком. Уважаемым офицером полиции. Однако это не мешало ему избивать нас с братьями до полусмерти, когда он был не в настроении, но кого это волновало? Когда наша мама пожаловалась его коллеге, что он сломал брату нос, тот заметил: «Есть очень тонкая линия, милая, которую тебе лучше не переступать».