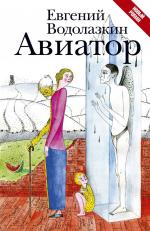- Мангель Альберто. Curiositas. Любопытство / Пер. с англ. А. Захаревич. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. — 472 с.
На обложке новой книги Альберто Мангеля красуется латинское слово. «Что оно значит?» — могут спросить некоторые. Отлично сыгранный издателями трюк с оформлением названия — многообещающее начало путешествия в книгу об искусстве вопрошания.
Альберто Мангель — исследователь, литератор и публицист, чей круг интересов охватывает едва ли не все культурное наследие человечества от античности до наших дней. Автор более двадцати исследований, нескольких десятков антологий и пяти романов. В 1992 году роман «Новость пришла из далекой страны» удостоился британской литературной премии МакКиттерика. Русский читатель может быть знаком с автором по таким произведениям, как «История чтения» и «Гомер. “Илиада” и “Одиссея”».
Мангель посвящает «Curiositas» близкому человеку, которого с очевидной нежностью называет именем героя сказки Киплинга — Слоненком, что не может не тронуть даже самого сдержанного читателя. В предисловии автор отсылает к сюжетам из младенчества и напоминает: первое, что мы начинаем так искусно использовать в речи — это вопрос «почему?». Мы хорошо помним, как сильно нас интересовало все: начиная с того, почему небо голубое, заканчивая тем, почему нам сегодня не достанется та дорогая красивая кукла с витрины. Ностальгические воспоминания о детстве задают эмоциональный фон с первых страниц книги.
Всем известная разница между терминами «любопытство» и «любознательность» предстает перед читателями в новом свете. Точнее, Мангель говорит этой разнице «нет», а взамен представляет свое новое «любопытство», играя его значениями, словно солнечным зайчиком, и отправляя нас из одной плоскости в другую. Сначала любопытство предстает перед нами как обычная тяга к познанию. Однако, говорит Мангель, не стоит забывать о грани дозволенного, перешагивая которую, мы ни больше ни меньше оказываемся на пороге грехопадения. Другими словами, знаниям должен быть предел. И если человек пользуется правом на тайну, то такое же право имеет и все окружающее.
Неубедительна задумка автора назвать главы в форме вопросов: «Глава 5. Как мы рассуждаем?», «Глава 7. Что есть я?». Складывается впечатление, что тебя ждет погружение в один из философских трактатов, которыми обычно любят мучить профессора на первых курсах университета. Но стоит отдать должное писателю: разбавляя свой научный труд личными воспоминаниями и мыслями, он позволяет нам узреть кого-то помимо Аристотеля, Данте и Сократа. И этот кто-то — он сам, Альберто Мангель — оказывается наиболее близким читателю персонажем.
Несмотря на то, что в целом книгу сложно назвать практически значимой (вряд ли после ее прочтения мы научимся задавать правильные вопросы и получать нужные ответы), автору все же удается удивить своими интересными наблюдениями. Так, например, любопытна его идея о том, какую роль в познании играет чтение и письмо:
Искусство чтения во многом противоположно искусству писания. Чтение — мастерство, которое обогащает текст, придуманный автором, углубляет его, делает более сложным, ориентирует на отражение личного опыта читающего и расширяет до самых дальних границ читательской вселенной, а то и выводит за их пределы. Письмо же, напротив, — искусство смирения. Писатель должен принять тот факт, что окончательный текст окажется лишь расплывчатым отражением задуманного им труда, менее поучительным, менее тонким и пронзительным, менее определенным. Воображение писателя всемогуще и способно порождать самые необычные творения во всем их желанном совершенстве. Когда же приходится снизойти до языка и обратиться от замысла к выражению, многое, очень многое теряется. Вряд ли из этого правила есть исключения. Написать книгу — значит обречь себя на неудачу — пусть и достойную, насколько достойной может быть неудача.
Мангель затрагивает такие вечные понятия, как «начало» и «конец», и приятно удивляет своей проницательностью, отмечая, что наше желание возвратиться к началу порождается полным отсутствием страха перед финалом, откуда возвращения нет:
Финал — нечто само собой разумеющееся; порой мы даже готовы до бесконечности его откладывать. Финалы обычно служат нам утешением: они позволяют подвести призрачный итог; потому мы и нуждаемся в memento mori — чтобы не забывать, что мы и сами не вечны. Проблема начала волнует нас изо дня в день. Мы хотим знать, где и как все начинается, ищем смысл в этимологии, нам нравится быть свидетелями рождения: видимо, причина этому в чувстве, будто пришедшее в этот мир первым оправдывает или объясняет все, что появляется следом. И мы создаем истории, в которых находим отправную точку, и, оглядываясь на нее, чувствуем себя увереннее, каким бы трудным и спорным ни был дальнейший ход событий.
«Сuriositas» можно считать переосмыслением того, что уже в какой-то степени известно каждому из нас. Автор на протяжении всей книги обращается к памятникам культуры (литературным произведениям, скульптуре), наследию эпохи географических открытий, религии и социальным институтам. Деньги, истина, образование, язык, «мужское» и «женское» — ничто не ускользнуло от «микроскопа» Альберта Мангеля. Другими словами, все это откровенно напоминает попытку разгадать тайну жизни, открывшуюся мужчине на закате лет. Неоспоримо, попытка стоила того: книга способна не только порадовать своей изумительной обложкой, но и, как это ни удивительно, пробудить любопытство к жизни.
Можно смело предположить, что «Любопытство» было задумано для того, чтобы отдать дань «Божественной комедии» Данте — произведению, которое Мангель считает для себя книгой книг. Сюжеты известной поэмы являются отправной точкой для всех размышлений в «Curiositas». Именно поэтому, прежде чем садиться за книгу с красивыми птицами на обложке, стоит, пожалуй, ознакомиться с самой «Божественной комедией». Понимать ее необязательно, но нужно попытаться полюбить, чтобы проникнуться впоследствии тем, о чем пишет Мангель.
Альберто Мангель убежден: каждый из нас открывает любую книгу с надеждой найти в ней ответы. Но мы заведомо обречены на разочарование, потому что вместо ответов возникают лишь очередные вопросы. Станет ли «Сuriositas» в руках читателей книгой книг, как стала «Божественная комедия» для писателя, — вопрос не только времени. Важна и вера в то, что ответ будет найден. Нужно лишь правильно задать вопрос.