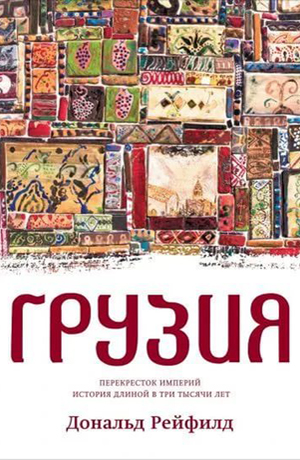- Андрей Степанов. Бес искусства: Невероятная история одного арт-проекта. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.
Кто продал искромсанный холст за три миллиона фунтов? Кто использовал мертвых зайцев и живых койотов в качестве материала для своих перформансов? Кто нарушил покой жителей уральского города, устроив у них под окнами новую культурную столицу России? Не знаете? Послушайте, да вы вообще ничего не знаете о современном искусстве! Эта книга даст вам возможность ликвидировать столь досадный пробел. Титанические аферы, шизофренические проекты, картины ада, а также блестящая лекция о том, куда же за сто лет приплыл пароход современности, — в сатирической дьяволиаде, написанной очень серьезным профессором-филологом.
А началось все с того, что ясным мартовским утром 2009 года в тихий город Прыжовск прибыл голубоглазый галерист Кондрат Евсеевич Синькин, а за ним потянулись и лучшие силы актуального искусства.
Глава 12
Утрите слезы
Белый трехэтажный ПДХ — Прыжовский Дом художника — был построен на берегу левитановской красоты озера и окружен шишкинской красоты лесом. На первом этаже располагался выставочный зал и «Лавка художника», на втором — кабинеты начальства, на третьем — мастерские с огромными окнами. Зайдя внутрь, Кондрат задержался в вестибюле у большой афиши:
ВОЗРАСТ СВЕРШЕНИЙ
юбилейная выставка
к 80-летию
ПДХ
Куратор приоткрыл дверь выставочного зала и секунд на пять просунул туда нос. Понюхав воздух и стрельнув глазами по полотнам, он кивнул каким-то своим мыслям и стал подниматься по лестнице.
У кабинета председателя правления не оказалось ни приемной, ни секретарши. Кондрат пнул обитую стареньким дерматином дверь, шагнул внутрь и громко объявил:
— Я пришел к вам с открытым забралом, в одиночку и без оружия!
В кабинете за маленьким журнальным столиком сидели и выпивали два старичка. Один — одуванчик с пушистыми белыми волосиками — с необыкновенной готовностью хихикнул в ответ на шутку. Другой — подтянутый, военно-отставного вида старик — криво усмехнулся и с ядовитой вежливостью парировал:
— Так ведь к нам, Кондрат Евсеич, с пистолетами никто и не ходит. А что забрало у вас открыто, это и по лицу видно.
— Ага, ага! — подхватил пушистый. — У них всегда всё наготове — и забрало, и хватало, и прихватизировало.
И снова захихикал, теперь уже над собственной шуткой.
Кондрат, решивший во что бы то ни стало держать курс на мирные переговоры, пропустил шпильку мимо ушей. Он подошел к столику, взглянул на бутылки — пили художники исключительно «путинку» — и спросил:
— Пьете?
— Пьем! — дружно ответили хозяева.
— А мне нальете?
Старички переглянулись, и суровый молча наполнил до краев стакан.
— За великое искусство, не ваше и не наше! — провозгласил Кондрат и разом влил в себя обжигающую жидкость.
Пушистый ухмыльнулся и поднес гостю огурчик на вилке. Синькин взял.
Суровый поправил галстук и сказал:
— Ну что ж, давайте знакомиться. Я — Редька Геннадий Андреевич, председатель правления, заслуженный художник РСФСР. А это Пухов Илья Ильич, баталист.
Пушистый старичок, чья внешность так подходила к его фамилии и так не подходила к жанру, подмигнул и наполнил сразу три стакана — правда, на этот раз лишь до половины. Деятели искусств выпили за знакомство, а потом Синькин, уже самостоятельно выковыривая из банки соленый огурец, задумчиво произнес:
— Прямо не знаю, с чего начать. Честно скажу вам, отцы: я только тут, в Прыжовске, обнаружил, что у нас в стране до сих пор есть Союз художников.
— А что, в Москве уже нету? — поинтересовался Редька.
— А в Москве они его чик по горлышку — и в колодец, — показал на себе пушистый.
— Да кто вам такие песни поет? — искренне возмутился Кондрат. — Я, граждане живописцы, в жизни не сделал вашему Союзу ни малейшего зла. И знаете почему? А потому что мы с вами никогда не пересекались. В параллельных мирах живем. Так что даже любопытно на вас посмотреть. С виду люди вы хорошие, пьете правильно. А огурцы у вас просто охренительные, я возьму еще.
В этот момент в кабинет просунулась чья-то кудлатая и бородатая голова.
— Пьете?
— Пьем!
— Шаманов-Великанов Алексей, анималист, — назвался во шедший чудо-богатырь, выставляя на столик бутылку путинки. — А вас я и так знаю, слух уже прошел.
Кондрат улыбнулся пошире:
— Фамилия у тебя, Леха, клевая, сразу видно, что художник, — бодро польстил он и тут же, не дав опомниться, спросил: — А чего вы все на вы да на вы? Может, пора сближаться, братья? Как насчет брудершафта?
На брудершафт художники пить отказались.
— Сближаться с вами, Кондратий Евсеевич, мы покамест погодим, — ответил за всех ядовитый Редька. — Мы тут, знаете ли, тоже интернет-машинами пользоваться научились и с биографией вашей ознакомились.
— А, вот в чем дело… — поморщился гость. — Ну и что пишут?
— Ох, много чего пишут, — ехидно вздохнул Редька. — Особенно насчет служебного собаководства. Однако поскольку оригиналов уличающих вас документов у нас нет, то и формальных обвинений предъявить не можем. А так — чего воду толочь? Мы не блогеры, мы художники. Давайте лучше об искусстве поговорим.
— Вот, а я о чем? Давайте! — весело сверкнул глазами Кондрат. — Ну что, отцы, научить вас жизни в искусстве?
— Спасибо вам, Кондратий Евсеевич, за доброту, но только мы о вашей науке уже догадываемся, — ответил председатель. — Вы собираетесь устроить у нас так называемую культурную революцию, освоить бюджет…
— …и отвалить, — закончил Пухов.
Он надул щеки, а потом с громким пукающим звуком вытолкнул воздух наружу. Редька посмотрел на него осуждающе. Пухов ничуть не смутился, тонко заржал и показал всем присутствующим свернутый в трубочку язык.
— Тут дело не в бюджете, — ответил Кондрат, с любопытством поглядывая на неприличного старичка. — Конечная цель — привлечь лучшие художественные силы для возрождения края, чтобы к вам потекли туристы и инвестиции.
— Ну что, желание благородное, — усмехнулся Редька.
— И бескорыстное! — влез Пухов и повторил свой фокус.
Анималист Шаманов разлил принесенную бутылку по стаканам. Участники переговоров приняли еще по сто граммов и потянулись за огурцами. Тут снова послышался вопрос:
— Пьете?
В дверях торчала новая голова — лысая и круглая, как бильярдный шар, но с большим носом.
— Пьем!
— Шашикашвили Шалва Георгиевич, — почти без акцента представился крупный мужчина, выставляя литровую путинку. — Монументалист.
— Лауреат премии Ленинского комсомола Грузинской ССР, — значительно добавил Редька.
— А почему не вино, дорогой? — спросил Синькин у монументалиста, показывая на бутылку.
— А потому что в России давно живем, дорогой, — кратко объяснил пришедший.
— Понял. Ну, за дружбу народов!
Когда повторили и закусили, Редька продолжил свою речь:
— Поскольку вы, Кондрат Евсеевич, пришли к нам с открытым забралом, то и мы, пожалуй, снимем на время забрало и поговорим откровенно. Скажу прямо: в мирное сосуществование с такими, как вы, я не верю. Но должность обязывает сделать шаг навстречу. Готовы вы к мирным переговорам?
— А как же? — пожал плечами Синькин. — Зачем я, спрашивается, сюда пришел?
— Так-так, хорошо. Тогда объясню нашу позицию. Во-первых, мы совсем не против культурной революции, хотя слово это и не из нашего лексикона. Но если реформы повысят в Прыжовском крае значение культуры, то мы за реформы. Дальше. Мы не против и помощи из центра, хотя ваша организация симпатий у нас не вызывает.
— Какая еще организация? — насупил брови Кондрат.
— Как это какая? А галерея?
— Э… Да я давно все продал. Жене продал и с ней же развелся. Уже год на пляже голый лежу и фиговым листком прикрываюсь. И ничего за мной нет, никаких структур. Вольный копейщик, вот я кто.
— Вольный рублёвщик, — скаламбурил Шашикашвили.
— Доллáрщик! — пробасил бородатый Шаманов-Великанов.
— Еврейщик! — пискнул Пухов и подавился смехом.
Кондрат не реагировал.
— Тише, тише, товарищи! — осадил разошедшихся коллег Редька. — Так вот, наша согласованная позиция состоит в следующем: мы не против реформ, но считаем, что надо выходить на мировой рынок со своим, родным, корневым искусством, а не с жалкими подражаниями Западу.
— Точно! В десятку! Золотые слова, Андреич! — загалдели художники.
— Пьете?
— Пьем, заходите!
К собранию присоединились завсекцией графики Бочкин и пейзажист Сенокосов.
После повторения ритуала Кондрат перекрыл своим зычным баритоном общий галдеж:
— Тише, граждане! Я все понимаю. Варяги вам не нравятся. Но что вы, прыжовцы, можете предъявить миру такого, чтобы всех завидки взяли? Кроме огурцов, конечно. Это я серьезно говорю, потому что огурцы охренительные.
— Шалва, будь другом, достань из холодильника еще банку, — распорядился Редька. — А мировому сообществу, господин Синькин, Прыжовск готов предъявить много чего.
Он встал и взял с письменного стола большой альбом.
— Ну что, товарищи, покажем приезжему наш край?
— Покажем!
— А на фига?
— А чтобы знал!
— Пьете?
— Пьем, заходи!
К собранию присоединилась женщина с большим бюстом — искусствовед Жарова. Ее встретили радостными криками:
— Смотри, как вовремя! В самый раз! Критик! Кандидат наук! Доцент! Анна Санна, расскажи гостю про наш край! Сначала повторить!
Когда повторили, доцент Жарова раскрыла альбом и показала Синькину большой, в два разворота, пейзаж: какая-то тропическая местность, на заднем плане скалистые горы, на переднем — пальмы, агавы и заросли папоротников. К этому открыточному виду очень подошли бы белые курортные павильоны и беседки, но вместо них в зарослях возились неповоротливые туши и высовывались жуткие зубастые морды.
— Перед вами прыжовский пейзаж времен раннего мезозоя, — тоном экскурсовода начала Жарова. — Здесь изображены динозавры, останки которых найдены на территории Краснопыталовского района. Вот это — старейший стиракозавр, живший в наших краях двести миллионов лет назад. Его копролиты были открыты в 1954 году.
— Чего открыто? — не понял Кондрат.
— Копролиты, окаменевший навоз. А вот самый страшный из наших земляков — игольчатый спинозавр. Он помоложе, чем стиракозавр, ему всего семьдесят миллионов лет.
— Этот посимпатичней будет, — кивнул Синькин. — Хотя сракозавр более стильный, что ли. Ну-ну, а еще что есть?
— А вот зверский стиль двенадцатого века.
— Погоди-ка, погоди! А что, между динозаврами и зверским стилем ничего не было? А куда вы семьдесят миллионов лет заныкали?
— Что-то наверняка было, — ответила доцент Жарова, — однако науке это неизвестно. Археологические раскопки ведутся недостаточно интенсивно.
— Финансирования не хватает, — пояснил Редька.
— Итак, Средневековье, — возвысила голос искусствовед. — Места тут отдаленные, и рука Москвы дотянулась до нас далеко не сразу. А правили здесь князья — сначала местные, а потом удельные русскоязычные. Вот портрет могульского князя Горзиллы, который разметал монгольские тумены в битве при Чемандорре.
— Зыко! — восхитился Кондрат. — Звучит! И морда зверская. Как у этого, у игольчатого спиногрыза.
— А вот последний удельный князь Гаврила, которого царь Иван Третий чуть было не посадил на кол.
— Тоже видный мужчина. А чего не посадил-то?
— Договорились, наверное. Науке неизвестно. Ну, пойдем дальше… Дальше ничего особенного не происходило, поскольку при царской власти тут были в основном места лишения. При Советах, в общем-то, тоже. Но зато в советское время расцвело искусство. В Прыжовске творили народный художник СССР Ярослав Семенович Пукиш, народные художники России Викентий Иннокентьевич Лежебоков и Савватий Мефодьевич Дно, заслуженные художники…
— Ладно-ладно, хватит! Я все понял. Давайте теперь за всех за них выпьем.
Синькин сам разлил путинку и поднял свой стакан:
— За славное прошлое вашего края и отдельно — за игольчатого спиногрыза!
— Спинозавра, — поправил Шаманов-Великанов.
— Пусть так.
Выпили.
— А теперь, отцы, слушайте меня внимательно, — сказал Кондрат Синькин, поднимая на вилке охренительный огурец. — Пришло вам время узнать истину. Сейчас я объясню, что такое искусство и как стать востребованным на его рынке.
Художники притихли. Пухов хотел сказать что-то ехидное, но Редька двинул его локтем под ребра, и бойкий баталист прикусил язык.
— Рынок современного искусства, — произнес Кондрат в наступившей тишине, — начинается со структурной самоорганизации комплексов социальных инстанций и механизмов, наделенных не только определенными функциями по актуализации символического капитала, но и обязывающей совокупностью конвенций. При этом цена, значение и признание произведений совриска основаны на собственных регулятивных механизмах отбора и канонизации, а не на вкусах потребителя, как то принято на рынке массового производства товаров. Поняли?
Анималист Шаманов мотнул головой, как лошадь. Остальные сидели неподвижно, словно парализованные, и молчали.
— Короче, перевожу, запоминайте, — отчеканил куратор. — Искусством в современной России считается только то, что я, Синькин Кондрат Евсеевич, назначу искусством. А востребованными вы можете стать, если будете меня слушаться.
Художники разом загомонили:
— А кто вас уполномочил?
— Да кто ты такой?!
— А ты знаешь, сколько у нас на юбилейной выставке народу побывало? Три тысячи! Три!
— Варяг!
— Спокойно, спокойно, граждане! — попытался перекричать их Кондрат. — Мнение публики, как я сказал, не учитывается! Мнение изготовителей сувениров тоже!
— Да ты прыщ на ровном месте, и будь моя воля…
— Граждане жанристы, анималисты, баталисты и маринисты! — до предела возвысил голос Кондрат. — Послушайте меня внимательно! Вся ваша маринистика на ближайшие год-полтора замораживается. Город объявляется территорией совриска. Призываю вас не дурить, не сопротивляться инновациям и мирно переходить к новой культурной парадигме!
Однако мирно переходить художники не желали. Они обступили приезжего со всех сторон, готовые броситься на него по первому знаку председателя. Лысина монументалиста Шашикашвили покраснела, как помидор. Искусствовед Жарова держала альбом двумя руками перед грудью, словно собираясь ударить им Синькина по голове.
— Погодите, товарищи! Переговоры не окончены, — охладил их пыл Редька. — Присядьте, пожалуйста! Присядьте!
Художники неохотно расселись по местам, и председатель спросил официальным тоном:
— Так что же вы нам предлагаете, господин Синькин?
— Я предлагаю вам полноправное сотрудничество, — ответил Кондрат. — Соединим ваши и наши возможности. У меня есть знание рынка, связи и деньги, а у вас…
Тут он сделал паузу и, хитро прищурившись, спросил:
— А как вы думаете, граждане Айвазовские, что у вас-то есть? Кроме спиногрыза?
Художники молчали.
— Ну… Да рисовать вы умеете! — торжественно провозгласил Кондрат. — Только поэтому я с вами и разговариваю. В Москве рисовать перестали лет двадцать назад, и теперь этот навык полностью утрачен. Про заграницу даже не говорю. А вы пока умеете — я же выставку видел внизу, когда шел сюда. Вот. А у нас скоро медвежья тема широко пойдет. Вечный символ России. Значит, понадобятся люди, способные худо-бедно нарисовать медведя. Ну, кто может?
Все посмотрели на Шаманова-Великанова.
— А, точно! — сообразил Синькин. — Ты же анималист, да? Слушай, а это ты пьяного орка на лосе нарисовал? Ну там, внизу?
— Сам ты пьяный орк, — обиделся Шаманов. — А это могул. Они на боевых лосях сражались.
— Ну, что я говорил! — хлопнул себя по коленям Кондрат. — Продадим вас со свистом по этнической квоте, вы и охнуть не успеете. Короче, господа Шишкины и Пышкины! Утрите ваши сиротские слезы и следуйте за мной! Каждому найдется место в проекте. Председатель, наливай давай! Утрите слезы, вам говорят! Я продаю вас на Запад!
Редька поднялся, взял бутылку путинки, но, вместо того чтобы наполнить стаканы, подошел к холодильнику и убрал ее на верхнюю полку. Потом вернулся к столу и в наступившей тишине очень спокойно и ровно сказал:
— Медведéй, Кондратий Евсеевич, мы вам рисовать не будем.
— Вы чего, граждане? — удивился Синькин. — Для вас же стараюсь. Вашему краю от меня сплошная польза, движуха и расслабление.
— Не надо нам движухи, — ответил Редька и тем же ровным тоном произнес: — Пошел вон!
Художники разом вскочили, словно ждали этого сигнала. Буря поднялась мгновенно.
— Все загадили!
— Варяги!
— Да какие варяги! Татаро-монголы! После их набега тут останется выжженная земля!
— Князя Гаврилу будить надо! В поход на них!
— Да мы же вам оплачиваем имидж! Городу вашему! — пытался перекричать их Кондрат.
— Вы — нам?! Это мы вам оплачиваем! Вас в Москве никто не покупает, вот вы сюда и полезли!
— Пусть рискнет с нами в одном зале выставиться! Пусть рискнет! Все сразу поймут, кто художник, а кто…
— Да что с ним разговаривать? Бейте его!
— Стойте! Стойте! — выкрикнул Пухов. — Бить не надо! Есть идея получше.
Художники остановились и посмотрели на него. Баталист хихикнул, а потом вдруг громко и противно заверещал:
— Внимание-внимание! Почтеннейшая публика! Сегодня в нашем цирке премьера нового перформанса! В программе — экологическая художественная акция «Золотая рыбка». В роли рыбки — заслуженный куратор и культуртехнолог из Москвы Кондратий Синькин… В озеро его!
Радостно взревев, живописцы подхватили Синькина и понесли вниз по лестнице. Кондрат не сопротивлялся. Он ехал на руках членов Союза гордо и величественно, как труп Гамлета, несомый четырьмя капитанами.
Выйдя на берег левитановской красоты озера, художники раскачали тело и на счет три швырнули его с двухметрового обрыва.
Столпившись у края, они с интересом смотрели, что будет дальше.
Однако ничего страшного не произошло. Кондрат вынырнул, отфыркнулся, как тюлень, и, мощно выбрасывая руки, поплыл кролем к противоположному берегу. Там он вылез на песок, отряхнулся по-собачьи, и, сложив ладони рупором, гром ко крикнул:
— Перформанс удался! Поздравляю! Все вы будете мастерами совриска!
На следующее утро на том месте, где Синькин вылез из воды, словно по мановению волшебной палочки выросли красные фанерные буквы, превосходно читавшиеся из всех кабинетов и мастерских Дома художника.
Явившись на работу ровно в десять утра, Геннадий Андреевич подошел к окну и прочитал:
ВСЕМ СНЯТЬ ШТАНЫ И ПРИГОТОВИТЬСЯ!