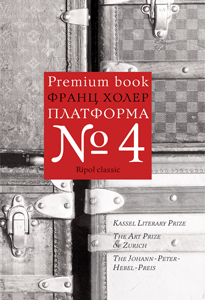- Энн Тайлер. Уроки дыхания / Пер. с англ. С. Ильина. М.: Фантом Пресс, 2016. — 416 с.
За роман «Уроки дыхания» Энн Тайлер получила Пулитцеровскую премию. Мэгги порывиста и непосредственна, Айра обстоятелен и нетороплив. Мэгги совершает глупости. За Айрой такого греха не водится. Они женат двадцать восемь лет. Их жизнь обычна, спокойна и… скучна. В один невеселый день они отправляются в автомобильное путешествие – на похороны старого друга. Но внезапно Мэгги слышит по радио, как в прямом эфире ее бывшая невестка объявляет, что снова собирается замуж. И поездка на похороны оборачивается экспедицией по спасению брака сына. Трогательная, ироничная, смешная и горькая хроника одного дня из жизни Мэгги и Айры – это глубокое погружение в самую суть семейных отношений, комедия, скрещенная с высокой драмой. «Уроки дыхания» – негромкий шедевр одной из лучших современных писательниц.
Глава 1
Мэгги и Айре Моран нужно было поехать на похороны в Дир-Лик, штат Пенсильвания. Умер муж школьной подруги Мэгги. Дир-Лик стоял на узком провинциальном шоссе милях в девяноста от Балтимора, похороны были назначены на десять тридцать субботнего утра; значит, выехать следовало, решил Айра, около восьми. Настроение из-за этого было у него сварливым — Айра был не из ранних пташек. К тому же суббота — самый бойкий в его работе день, а замену себе не найти. Да еще и машина находилась на станции техобслуживания. Машина нуждалась в серьезном ремонте, и получить ее назад раньше восьми часов субботнего утра (время, когда открывалась станция) было никак нельзя. Айра сказал, что, может, им лучше просто-напросто никуда не ехать, но Мэгги ответила: надо. Она и Серина дружили с младенчества. Или почти с младенчества — сорок два года, начиная с первого класса школы мисс Киммель.
Подняться они собирались в семь, однако Мэгги неправильно поставила будильник, и оба проспали. Одеваться пришлось второпях, а на завтрак обойтись наспех заваренным кофе и хлопьями. Проглотив их, Айра пешком отправился в свою мастерскую, чтобы прилепить к двери записку для клиентов, а Мэгги пошла за машиной. Она надела лучшее свое платье, синее с белым рисунком и рукавами наподобие пелерины, и новенькие черные туфли-лодочки — похороны все-таки. Каблуки у туфель были не очень высокие, тем не менее быстро идти не позволяли: Мэгги больше привыкла к каучуковым подошвам. А тут еще колготки как-то перекосились в промежности, отчего шажки ей приходилось делать мелкие, неестественно ровные, и по тротуару она продвигалась, точно какая-нибудь коренастая заводная игрушка.
На ее счастье, станция находилась всего в нескольких кварталах от дома. В этой части города все было перемешано — небольшие каркасные дома, такие же, как у Моранов, а рядом ателье фотографов-портретистов, маленькая, способная обслужить лишь одну клиентку за раз парикмахерская, водительская школа и ортопедическая клиника. Но погода была чудесная: теплый, солнечный сентябрьский денек, и ветерок такой приятный — в самый раз, чтобы освежить Мэгги лицо. Она шла, приглаживая свою челку, которая все норовила закурчавиться и обратиться в вихор. Шла, сжимая под мышкой нарядную сумочку. Шла, потом повернула налево — вот и станция, «Кузов и Крылья». Облупившаяся зеленая дверь уже поднята, за ней, в пещерном нутре, стоит резкий запах краски, наводящий на мысль о лаке для ногтей.
Чек у Мэгги был заготовлен заранее, управляющий сказал, что ключи в машине, ничто ее не задерживало. Автомобиль — пожилой серовато-си- ний «додж» — стоял у задней стены гаража. Выглядел он лучше, чем в последние несколько лет: задний бампер выпрямлен, покореженная крышка багажника отрихтована, с полдюжины вмятин тоже, пятна ржавчины на дверцах закрашены. Айра прав: в конце концов, покупать новую машину им ни к чему. Мэгги уселась за руль, включила зажигание, и тут же заработало радио — «АМ Балтимор» Мела Спрюса, ток-шоу «Звоните — отвечаем». Ладно, пусть немного поработает. Она подправила сиденье — кто-то, выше Мэгги, слишком отодвинул его назад, — наклонила слегка зеркальце заднего вида. Собственное лицо уставилось на нее, круглое, чуть лоснящееся, с некоторой неуверенностью и как будто тревогой в голубых глазах, хотя на самом деле она всего лишь прищурилась, чтобы лучше видеть в полумраке. Включив передачу, Мэгги плавно поплыла к выезду на улицу, рядом с которым стоял, мрачно созерцая прикрепленную к двери его офиса доску извещений, хозяин станции.
Сегодня на «АМ Балтимор» обсуждался вопрос: «Что делает брак идеальным?» Позвонившая в студию женщина сказала: общность интересов. «Типа, когда вы смотрите по телику одни программы», — пояснила она. Мэгги вопрос об идеальном браке интересовал меньше всего, она уж двадцать восемь лет как замужем. Опустив стекло, Мэгги крикнула: «Ну, пока!» — и хозяин станции оторвал взгляд от доски.
Мягкий голос сказал по радио: «А я вот снова замуж собралась. В первый раз вышла по любви. По настоящей искренней любви, и ничего из этого не получилось. В следующую субботу выйду ради уверенности в завтрашнем дне».
Мэгги взглянула на шкалу настройки и спросила:
— Фиона?
Она собиралась нажать на тормоз, а нажала на акселератор и вылетела из гаража на улицу. Накативший слева фургон «Пепси» вмазался в ее переднее левое крыло — единственную часть машины, с которой ничего хоть в малой мере дурного до сих пор не происходило.
В далеком детстве Мэгги играла с братьями в бейсбол и, если ей случалось пораниться, уверяла их, что все у нее хорошо, потому что боялась, как бы они не выкинули ее из игры. Собиралась с силами и бегала, не прихрамывая, несмотря на мучительную боль в колене. Теперь она вспомнила об этом, и когда хозяин станции подбежал к ней с криком: «Какого… Вы целы?» — Мэгги, величаво глядя вперед, ответила: «Разумеется. А почему вы спрашиваете?» — и отъехала еще до того, как водитель «Пепси» выбрался из кабины. Судя по его лицу, с ним тоже все было в порядке. Однако, сказать по правде, крыло издавало весьма неприятный звук, примерно как пустая консервная банка, когда ее волокут по гравию, и потому, свернув за угол (двое мужчин, один чесал в затылке, другой размахивал руками, исчезли из зеркальца заднего вида), Мэгги остановилась. Фионы в эфире больше не было. Вместо нее какая-то женщина скрипучим тенором проводила сравнительный анализ своих пяте- рых мужей. Мэгги выключила двигатель и вышла из машины. Причину неприятного шума она обнаружила сразу: крыло вдавилось внутрь и цепляло покрышку — удивительно, что колесо вообще вертелось. Мэгги присела на бордюрный камень, взялась обеими руками за край крыла и потянула его на себя. (И вспомнила, как сидела на корточках в высокой траве дальнего поля и воровато, наморщась, отлепляла штанину джинсов от окровавленного колена.) Несколько хлопьев серовато-синей краски упали на подол платья. Кто-то прошел за ее спиной по тротуару, однако она, притворившись, что ничего не замечает, снова потянула крыло. На сей раз оно поддалось — не так чтобы очень, но от покрышки отлипло, и Мэгги встала и отряхнула руки. Потом снова забралась в машину, но примерно минуту просто сидела в ней. «Фиона!» — повторила она. А когда запустила двигатель, радио уже рассказывало что-то о банковских ссудах, и Мэгги его выключила.
Айра ждал ее перед своей мастерской, непривычный и странно франтоватый в темно-синем костюме. Над ним покачивалась на ветерке железная вывеска: БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ СЭМА. РАМЫ, ПАС- ПАРТУ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОФРМЛЕНИЕ ВАШИХ ВЫШИВОК. Сэм был отцом Айры, но с тех пор, как обзавелся тридцать лет назад «слабым сердцем», бизнеса своего и пальцем не коснулся. Мэгги всегда брала «слабое сердце» в кавычки. И подчеркнуто игнорировала окна расположенной над мастерской квартиры, где Сэм влачил в тесноте свои праздные, брюзгливые дни в обществе двух сестер Айры. Наверное, он стоял сейчас у одного из окон, наблюдая за Мэгги. Она притормозила у бордюра и переползла на пассажирское сиденье.
Подходя к машине, Айра внимательно осматривал ее. Для начала он с довольством и одобрением окинул взглядом капот, однако, увидев левое крыло, остановился. Длинное, худое, оливковое лицо его вытянулось. Глаза, и без того настолько прищуренные, что трудно было сказать черные они или просто темно- карие, превратились в озадаченные, уставившиеся вниз щелки. Он открыл дверцу, сел и направил на Мэгги полный печали взгляд.
— Непредвиденная ситуация, — сказала Мэгги.
— Всего лишь между автостанцией и мастерской?
— Я услышала по радио Фиону.
— Каких-то пять кварталов! Всего-навсего пять или шесть.
— Айра, Фиона выходит замуж.
Машину он из головы выбросил, с облегчением отметила она. У него даже лоб разгладился. Несколько мгновений он смотрел на Мэгги, а потом спросил:
— Какая Фиона?
— Твоя сноха, Айра. Ты много Фион знаешь? Фиона, мать твоей единственной внучки, выходит замуж за какого-то совершенно неизвестного человека ради уверенности в завтрашнем дне.
Айра сдвинул сиденье назад и отъехал от бордюра. Казалось, он к чему-то прислушивался — возможно, к стуку колеса. Но, по-видимому, с крылом она надрывалась не зря.
— Где ты об этом услышала? — спросил он.
— По радио, пока вела машину.
— Теперь о таких штуках по радио объявляют?
— Она позвонила в студию.
—
Ну, если хочешь знать мое мнение, это свидетельствует о… несколько завышенной самооценке, — сказал Айра.
— Да нет, она просто… и потом Фиона сказала, что Джесси — единственный, кого она любила по- настоящему.
— Так прямо по радио и сказала?
— Это же ток-шоу.
— Не понимаю я, почему нынче каждый норовит раздеться догола на глазах у публики, — сказал Айра.
— Как по-твоему, Джесси мог ее услышать? — спросила Мэгги. До сих пор ей это в голову не приходило.
— Джесси? В такое-то время? Да если он просы-пается до полудня, так уже праздник.
С этим Мэгги спорить не стала, хоть и могла бы. На самом деле Джесси вставал рано, к тому же он по субботам работал. Айра просто хотел сказать, что Джесси лентяй, и вообще относился к сыну куда суровее, чем Мэгги. Не желал видеть даже половины его достоинств. Мэгги смотрела вперед, на скользившие мимо дома и магазины, на редких пешеходов с собаками. Нынешнее лето было самым сухим на ее памяти, тротуары белели, точно намазанные известкой. И в воздухе словно кисея повисла. Перед «Бакалеей для бедных» мальчик нежно протирал тряпочкой спицы своего велосипеда.
— Значит, ты выехала на Эмпри-стрит, — сказал Айра.
— Ммм.
— Там расположена станция.
— Ну да, на Эмпри-стрит.
— Потом направо на Даймлер…
— Он снова вернулся к крылу. Мэгги сказала:
— Все случилось, когда я выехала из гаража.
— Ты хочешь сказать, прямо там? Перед станцией?
— Хотела нажать на тормоз, а нажала на газ.
— Это как же?
— Просто услышала по радио Фиону и перепугалась.
— Я к тому, Мэгги, что о педали тормоза человеку и думать-то не приходится. Ты водишь машину с шестнадцати лет. Как же ты могла перепутать тормоз с газом?
— Ну вот перепутала, Айра. Тебя это устроит? Испугалась и перепутала. И хватит об этом.
— Я хотел сказать, что нажать на тормоз — это более-менее рефлекс.
— Если для тебя это так важно, оплати починку из моего жалованья.
Тут уж ему пришлось прикусить язык. Мэгги видела, он собирался сказать что-то, да передумал: жалованье-то у нее было смешное. Она ухаживала за стариками в доме престарелых.
Если бы нас предупредили пораньше, думала Мэгги, я бы хоть в машине прибралась. Приборная доска была завалена корешками парковочных квитанций; пол усеивали банки из-под прохладительных напитков и бумажные салфетки; под бардачком свисали петли черного и красного проводов. Зацепи их, перекрещивая ноги, — и отключишь радио. Она считала, что этим следовало заняться Айре. Мужчины, куда бы они ни попали, непонятно как сразу обрастают проводами, кабелями, изолентами. Иногда и сами того не замечая.
Машина уже ехала по Белэр-роуд на север. Окрестные виды постепенно менялись, спортивные площадки и кладбища чередовались со скоплениями небольших предприятий — винных магазинов, пиццерий, маленьких темных баров и кабачков, обращенных в карликов огромными тарелками антенн на их крышах. А следом вновь внезапно появлялась спортивная площадка. Движение с каждой минутой становилось плотнее. Все куда-то ехали в праздничном, не сомневалась Мэгги, подобающем субботнему утру настроении. В большинстве машин задние сиденья занимали дети. Время уроков гимнастики и бейсбольных тренировок.
— Пару дней назад, — сообщила Мэгги, — я умудрилась забыть выражение «совместная машина».
— А зачем тебе его было помнить? — спросил Айра.
— Вот и я про то же.
— Пардон?
— Я говорю о том, как летит время. Я хотела сказать одному пациенту, что его дочь сегодня не приедет. Сказала: «Сегодня ее очередь водить, э-э…» — и не смогла вспомнить, как это называется. А кажется, я только вчера везла Джесси на матч или в хоккейный лагерь, а Дэйзи — на слет девочек- скаутов… Господи, да я целые субботы за рулем проводила!
— Кстати, о руле, — сказал Айра.
— Ты в другую машину врезалась? Или просто в телеграфный столб?
Мэгги рылась в сумочке, отыскивая солнечные очки.
— В фургон, — сказала она.
— О господи. Сильно его покорежила?
— Не обратила внимания.
— Не обратила внимания.
— Просто не остановилась, чтобы посмотреть. Она надела очки, поморгала. Краски померкли,
все стало более изысканным.
— Мэгги, ты скрылась с места аварии?
— Да какая там авария! Обычное мелкое… ну,
происшествие, такие случаются сплошь и рядом.
— Так, давай посмотрим, правильно ли я все понял, — сказал Айра. — Значит, ты вылетаешь из
гаража, врезаешься в фургон и катишь дальше.
— Нет, это фургон в меня врезался.
— Но виновата была ты.
— Ну да, наверное, раз уж тебе непременно нуж
ны виноватые.
— И ты просто уехала.
— Да.
Он замолчал. Добра это молчание не предвещало.
— Это был здоровенный фургон «Пепси», — сказала Мэгги. — Практически танк бронированный! На нем и царапины не осталось, даже не сомневаюсь.
— Ты ведь не проверяла.
— Я боялась опоздать, — пояснила Мэгги. — Ты же сам твердил, что нам нужен запас времени.
— Ты понимаешь, что на станции есть твое имя и адрес, не так ли? Все, что нужно водителю, — спросить их. Когда мы вернемся, у двери нас будет поджидать полицейский.
— Айра, ты не мог бы оставить эту тему? — спросила Мэгги. — Мне и без того есть о чем подумать. Я еду на похороны мужа моей самой старой, самой близкой подруги, Серине с чем только сейчас справляться не приходится, а нас с ней целый штат разделяет. А тут я еще слышу по радио о предстоящем замужестве Фионы, хотя и ежу понятно, что они с Джесси по-прежнему любят друг друга. Всегда любили, не переставали любить, просто им почему- то не удается, ну, достучаться друг до друга. Мало того, моей единственной внучке придется вдруг прилаживаться к новоиспеченному отчиму. Мы с ней словно разлетаемся в разные стороны! Все мои подруги, все родственники улетают от меня, как… как в расширяющейся вселенной или еще где. Мы больше не увидим нашу девочку, хоть это ты понимаешь?
— Да мы ее и так не видим, — кротко ответил Айра. И остановился на красный свет.
— Откуда нам знать, может, этот ее новый муж — растлитель малолетних, — сказала Мэгги.
— Уверен, что Фиона выбрала бы кого-нибудь получше, Мэгги.
Она бросила на мужа косой взгляд. (Хорошо отзываться о Фионе — это на него не походило.) Айра смотрел на светофор. От уголков его прищуренных глаз расходились морщинки.
— Ну разумеется, она постаралась бы сделать выбор получше, — настороженно произнесла Мэгги, — но ведь даже самая разумная на свете женщина не способна предвидеть все проблемы до одной. Может быть, он такой, знаешь, вкрадчивый и льстивый. И будет ласков с ЛерОй — пока не пролезет в семью.
Светофор переключился. Айра повел машину дальше.
— Лерой, — задумчиво произнесла Мэгги. — Как по-твоему, сможем мы когда-нибудь привыкнуть к этому имени? Звучит совсем по-мальчишески. Такие имена у футболистов бывают. А как они его произносят: Лиирой. Совершенно по-деревенски.
— Ты прихватила карту, которую я оставил на кухонном столе? — спросил Айра.
— Я иногда думаю, что нам следует просто начать произносить его по-нашему, — сказала Мэгги. — Ле-рой.
И призадумалась.
— Карта, Мэгги. Ты взяла ее?
— Она у меня в сумочке. Ле Руа. — На сей раз она произнесла «Р» с французской раскатистостью.
— Как-то не похоже, что нам теперь удастся часто общаться с ней, — сказал Айра.
— А стоило бы. Мы могли бы навестить ее сегодня под вечер.
— Как это?
— Ты же знаешь, где они живут — в Картуиле, Пенсильвания. Практически по пути к Дир-Лику. — Мэгги копалась в сумочке. — Мы могли бы побыть на похоронах, понимаешь? — а потом… Да где же эта карта? Побыть на похоронах, а потом поехать по Первому шоссе к… Знаешь, похоже, карту я все-таки не взяла.
— Отлично, Мэгги.
— Наверное, оставила на столе.
— Я же спросил у тебя, когда мы собирались,
помнишь? Сказал: «Карту ты возьмешь или я?» И ты ответила: «Я. Положу ее в сумочку».
— Просто не понимаю, почему ты из-за нее такой шум поднимаешь, — сказала Мэгги. — Нам только одно и требуется — следить за дорожными знаками, а с этим кто угодно справится.
— Все немного сложнее, — ответил Айра.
— Кроме того, у нас есть указания, которые Серина дала мне по телефону.
— Мэгги. Ты действительно веришь, что указания Серины способны привести нас туда, куда мы должны попасть? Ха! Да мы скорее в Канаду заедем. Или в Аризону!
— Послушай, не надо так волноваться по пустякам.
— И никогда больше не увидим нашего дома, — пообещал Айра.
Мэгги вытряхнула из сумочки свой бумажник, пакетик салфеток «клинекс».
— По милости Серины мы на ее собственный свадебный обед опоздали, помнишь? — сказал Айра. — Нам пришлось целый час искать тот дурацкий банкетный зальчик.
— Нет, ну правда, Айра, ты всегда говоришь так, будто все женщины — пустоголовые болтуньи. — Поиски в сумочке Мэгги прекратила, ясно было, что и указаний Серины там нет. И добавила: — Я думаю о том, как облегчить Фионе жизнь. Мы могли бы взять девочку к себе.
— К себе?
— На медовый месяц.
— Айра бросил на нее взгляд, которого она не поняла.
— Она выходит замуж в следующую субботу, — объяснила Мэгги. — Нельзя же ехать в свадебное путешествие с семилетним ребенком.
Айра по-прежнему молчал.
Они уже миновали городскую черту, домов вокруг стало меньше. Проехали стоянку подержанных машин, реденькую рощицу, торговый пассаж с несколькими разбросанными по бетонной пустоши автомобилями ранних пташек. Айра начал насвистывать. Мэгги перестала теребить ремень сумочки и сидела неподвижно.
Бывали времена, когда Айра и десятка слов за день не произносил, а если и говорил что-то, понять, о чем он думает, было невозможно. Человеком он был замкнутым и нелюдимым — самый серьезный его недостаток. Но при этом не понимал, что его насвистывание способно много чего о нем рассказать. Однажды — не самый приятный пример — после жуткой ссоры в ранние еще дни их супружества они более-менее помирились, и Айра отправился на работу, насвистывая песенку, которую Мэгги узнала не сразу. Слова она вспомнила только потом. Уж так ли крепко я люблю, как любил тогда…*
* Песня американского дуэта «Эверли Бразерс», имевше- го огромный успех в 50—60-х гг. прошлого века. — Примеч. перев. и ред.