Марио Варгос Льоса. Скромный герой / Пер. с исп. К. Корконосенко. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 384 с.
Марио Варгас Льоса — выдающийся перуанский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе. Продолжая линию великих латиноамериканских писателей, таких как Хорхе Луис Борхес, Гарсиа Маркес, Хулио Кортасар, он создает удивительные романы, балансирующие на грани реальности и вымысла. В новом романе Варгаса Льосы «Скромный герой» в завораживающе изящном ритме маринеры виртуозно закручиваются две параллельные сюжетные линии. Главный герой первой — трудяга Фелисито Янаке, порядочный и доверчивый, который становится жертвой странных шантажистов; герой второй — успешный бизнесмен Исмаэль Каррера, который на закате жизни стремится отомстить двум сыновьям-бездельникам, ждущим его смерти. И Исмаэль, и Фелисито, конечно же, вовсе не герои. Однако там, где другие малодушно соглашаются, эти двое устраивают тихий бунт. На страницах романа мелькают и старые знакомые — персонажи мира, созданного Варгасом Льосой.
I
Фелисито Янакé, владелец компании «Транспортес Нариуалá», вышел из своего дома в то утро — как и каждый день с понедельника по субботу — ровно в полвосьмого, после того как посвятил тридцать минут гимнастике цигун, принял холодный душ и приготовил свой обычный завтрак: кофе с козьим молоком, тосты с маслом и капелькой меда. Дон Фелисито жил в центре Пьюры1, и на проспекте Арекипа уже бурлила утренняя толчея, высокие тротуары были заполнены горожанами, которые спешили на работу, на рынок или вели детей в школу. Благочестивые прихожанки направлялись к собору, чтобы успеть к восьмичасовой мессе. Бродячие торговцы надсаженными голосами предлагали медовые сласти, леденцы, жевательную резинку, пирожки и прочую снедь, а на углу под козырьком длинного дома в колониальном стиле уже расположился слепой Лусиндо с жестянкой для милостыни у ног. Все было, как и в прочие дни с незапамятных времен.
За одним лишь исключением. В это утро кто-то прикнопил на старую деревянную дверь, на высоте бронзового молотка, голубой конверт, на котором большими буквами было четко обозначено имя адресата: ДОН ФЕЛИСИТО ЯНАКЕ. Насколько помнил дон Фелисито, ему впервые доставляли письмо подобным образом, словно повестку в суд или квитанцию на штраф. Обычно почтальон просовывал письма в специальную щель на двери. Фелисито снял конверт, открыл и принялся читать, шевеля губами:
Сеньор Янаке!
Дела вашей компании «Транспортес Нариуала» идут очень хорошо, и это большая гордость для Пьюры и ее жителей. Но это также и риск, поскольку любое успешное предприятие может пострадать от вымогательства и вандализма людей озлобленных, завистливых и беспутных, каковых здесь, как вам хорошо известно, предостаточно. Однако не беспокойтесь. Наша организация возьмет на себя защиту «Транспортес Нариуала», а также вас и вашего достойного семейства от любой обиды, домогательства либо угрозы со стороны злоумышленников. Наше вознаграждение за эту работу исчисляется в пятьсот долларов в месяц (скромная сумма для вашей фирмы, как вы сами понимаете). Мы своевременно свяжемся с вами по поводу условий оплаты.
Нет необходимости напоминать, что это письмо следует сохранить в тайне. Все вышеизложенное должно остаться между нами.
И да хранит вас Бог.
Вместо подписи стоял неумелый рисунок — нечто вроде паучка.
Строки были написаны неровным почерком, с чернильными кляксами. Коммерсант был удивлен и заинтригован, впрочем ему показалось, что все это дурацкая шутка. Он смял письмо и конверт и чуть было не выбросил в урну рядом со слепым Лусиндо. Но передумал, разгладил бумагу и спрятал в карман.
Его дом на улице Арекипа и офис на проспекте Санчеса Серро2 разделяла всего дюжина куадр3. В то утро Фелисито по дороге не планировал свое рабочее расписание, как привык делать каждое утро, а продолжал прокручивать в голове письмо паучка. Принимать ли его всерьез? Может, заявить в полицию? Шантажисты предупреждали, что свяжутся с ним «по поводу условий оплаты». Быть может, лучше подождать, пока они этого не сделают, а уж потом обращаться в полицию? Возможно, все это было просто шалостью какого-нибудь лоботряса, решившего его напугать? Преступность в Пьюре с недавних пор действительно возросла: домовые кражи, уличные ограбления и даже похищения, организованные, как поговаривали, мафиозными семьями, в одной из которых заправлял Худышка, в другой — Горожане. Фелисито чувствовал себя растерянным, нерешительным, но в одном он точно был уверен: никогда, ни при каких обстоятельствах он не станет платить этим бандитам ни сентаво4. И снова, как бывало много раз в его жизни, Фелисито вспомнились предсмертные слова отца: «Сын, никогда не позволяй себя топтать. Этот совет — единственное наследство, которое ты получишь». Сын прислушался к отцовскому совету и никогда не позволял себя топтать. И теперь, прожив уже больше полувека, он не собирался менять свои привычки. Дон Фелисито настолько погрузился в эти размышления, что едва успел кивком поприветствовать поэта Хоакина Рамоса5 и тут же ускорил шаг; обычно он останавливался, чтобы переброситься парой слов с этим неисправимым гулякой, который, проведя ночь в каком-нибудь шалмане, плелся домой со стеклянным взглядом, с неизменным моноклем в правом глазу, подгоняя свою козочку, которую именовал газелью.
Когда Фелисито дошел до офиса «Транспортес Нариуала», в путь уже отправились, точно по расписанию, автобусы в Сульяну, Талару и Тумбес, в Чулуканас и Морропон, в Катакаос, Ла-Уньон, Сечуру и Байовар — все с достаточным числом пассажиров, так же как и маршрутки в Чиклайо, и грузотакси в Пайту. У окошек люди отправляли посылки или интересовались расписанием вечерних автобусов и маршруток. Секретарша Хосефита, такая востроглазая, с крутыми бедрами, в открытой блузке, уже положила на рабочий стол хозяина список предстоящих сегодня встреч и поставила термос с кофе, который он обычно выпивал в течение утра, до обеда.
— Что с вами, шеф? — возгласила Хосефита вместо приветствия. — Да на вас лица нет! Что, ночью кошмары снились?
— Так, мелкие проблемы, — буркнул Фелисито, снимая шляпу и пиджак, определяя им положенное место на вешалке. Но, сев за стол, он тотчас же вскочил и снова оделся, словно вспомнил о неотложном деле.
— Скоро вернусь, — бросил Фелисито секретарше, направляясь к выходу. — Иду в полицию подавать заявление.
— Вас что, ограбили? — Хосефита выпучила накрашенные глаза. — Теперь в Пьюре такое каждый день случается.
— Нет-нет, после расскажу.
Дон Фелисито уверенным шагом направился в комиссариат полиции, который располагался совсем недалеко от его конторы, на том же самом проспекте Санчеса Серро. Время было еще раннее и жара — терпимая, но коммерсант знал, что меньше чем через час тротуары перед туристическими агентствами и транспортными компаниями начнут плавиться и он вернется в свой офис весь в поту. Его сыновья, Мигель и Тибурсио, не раз говорили, что это просто безумие — носить пиджак, жилет и галстук в городе, где все — и бедняки, и богатеи — круглый год ходят в одних рубашках или безрукавках. Но Фелисито никогда не расставался с этими предметами гардероба с самого момента основания «Транспортес Нариуала», гордости всей его жизни; и зимой и летом он всегда надевал шляпу, жилетку, пиджак и галстук, завязанный крошечным узлом. Фелисито был мужчина невысокий и очень худой, немногословный и работящий; в Япатере, где он родился, и в Чулуканасе, где ходил в школу, он никогда не носил ботинок. Ботинки у него появились, только когда отец забрал его в Пьюру. В свои пятьдесят пять лет Фелисито оставался здоровым, энергичным и работящим. Он полагал, что своей хорошей физической формой обязан утренним упражнениям цигун; этой гимнастике коммерсант выучился у своего друга, покойного бакалейщика Лау. Это был единственный вид спорта, которым Фелисито занимался помимо прогулок, — если только можно назвать спортом эти движения словно в замедленной съемке, служащие вовсе не укреплению мускулов, — нет, то был иной, мудрый способ дыхания. Дон Фелисито добрался до участка в поту и в ярости. Шутка это или нет, но человек, написавший письмо, заставил его потерять целое утро.
Изнутри комиссариат напоминал плавильный котел, а поскольку все окна были закрыты, то двигаться приходилось в полутьме. При входе стоял вентилятор, но он не работал. Дежурный за столом, безбородый юнец, спросил Фелисито о цели прихода.
— Будьте добры, я хотел бы переговорить с вашим начальником. — Фелисито протянул дежурному свою визитную карточку.
— Комиссар в отпуске, будет через несколько дней, — ответил юнец. — Если хотите, вас может принять сержант Литума6, сейчас он здесь главный.
— Что ж, тогда я поговорю с ним, спасибо.
Коммерсанту пришлось прождать четверть часа, пока сержант не соизволил его принять. Когда дежурный проводил его в крохотную клетушку, весь платок Фелисито был мокрый от постоянного промакивания лба. Сержант не поднялся из-за стола, чтобы приветствовать посетителя. Он просто протянул дону Фелисито пухлую влажную пятерню и указал на стул перед столом. Литума был мужчина дородный, склонный к полноте, с добродушным взглядом и двойным подбородком, который он любовно оглаживал время от времени. Одет он был в пропотевшую под мышками рубашку цвета хаки, расстегнутую сверху. На столике перед Литумой стоял вентилятор, который действительно работал. Фелисито был благодарен сержанту за дуновение свежего воздуха, омывавшего его лицо.
— Чем могу быть вам полезен, господин Янаке?
— Я только что получил это письмо. Его прикрепили к двери моего дома.
Сержант Литума надел очки, которые придавали ему вид провинциального адвоката, и принялся изучать послание.
— Прекрасно, прекрасно, — изрек он наконец с совершенно непонятным для Фелисито выражением лица. — Таковы следствия прогресса.
Увидев растерянность на лице коммерсанта, сержант, не выпуская письма из рук, объяснился:
— Пока Пьюра была бедным городом, таких штучек не случалось. Кому тогда могло прийти в голову стричь купоны с коммерсанта? Но теперь, когда у людей завелись денежки, пройдохи показывают когти, они не прочь поживиться за чужой счет. Во всем этом, сеньор, виноваты эквадорцы. Поскольку они не доверяют своему правительству, то изымают свои капиталы и пытаются вложить деньги здесь. Они набивают карманы за счет нас, пьюранцев.
— Это меня никак не утешает, сержант. К тому же, если послушать вас, создается впечатление, что если в Пьюре дела сейчас идут хорошо, то это просто беда.
— Такого я не говорил, — высокомерно перебил сержант. — Речь только о том, что все в этой жизни имеет свою цену. И вот она, цена прогресса.
Литума снова помахал письмом паучка, и Фелисито показалось, что его смуглое округлое лицо скривилось в издевательской гримасе. В глазах Литумы поблескивали желто-зеленые огоньки, как у игуаны. Где-то в дальней комнате раздался пронзительный вопль: «Самые лучшие задницы Перу — здесь, в Пьюре. Вот так-то, мля!» Сержант улыбнулся и покрутил пальцем у виска. Фелисито нахмурился, он ощущал приближение приступа клаустрофобии. Среди этих деревянных панелей, увешанных объявлениями, сводками, фотографиями и вырезками из газет, почти не оставалось места на двоих. Пахло потом и сыростью.
— А у стервеца, который это написал, с орфографией полный порядок, — заметил сержант, еще раз пробежав глазами письмо. — Я, по крайней мере, грамматических ошибок не нахожу.
Фелисито почувствовал, как закипает его кровь.
— Я в грамматике не силен и не думаю, что это так уж важно, — неприветливо буркнул он. — И как, вы полагаете, теперь следует поступить?
— Пока никак, — безразличным тоном ответствовал сержант. — Я на всякий случай запишу сведения о вас. Возможно, этим письмом все и ограничится, если кому-нибудь из ваших знакомых просто пришло желание вам напакостить. А может быть, все это всерьез. Тут сказано, что они свяжутся с вами в отношении оплаты. Если так и будет, то приходите обратно к нам, мы разберемся.
— Вы как будто не придаете этому делу никакой важности! — возмутился Фелисито.
— А никакой важности пока и нет. — Сержант невозмутимо пожал плечами. — Передо мной всего лишь скомканный лист бумаги, сеньор Янаке. Может быть, это всего- навсего глупая шутка. Однако, если дело окажется серьезным, заверяю вас, полиция тотчас вмешается. А теперь — за работу.
Дону Фелисито пришлось еще долго диктовать сведения о себе и о своей конторе. Сержант Литума записывал их в тетрадь с зеленой обложкой, то и дело слюнявя карандашик. Коммерсант отвечал на излишние, по его мнению, вопросы с растущим чувством уныния. Приход в полицию с заявлением оказался пустой тратой времени. Этот фараон ради него и палец о палец не ударит. К тому же не зря ведь полицию называют самым продажным из всех государственных учреждений. Возможно, что и само письмо с паучком пришло к нему из этой зловонной пещеры. Когда Литума объявил, что письмо должно остаться в комиссариате полиции в качестве вещественного доказательства, Фелисито так и подпрыгнул на стуле:
— Вначале я хочу снять с него копию.
— Здесь у нас нет копира. — Сержант обвел взглядом по-спартански строгую обстановку. — Зато на проспекте вы найдете их сколько угодно. Сходите, сделайте копию и возвращайтесь, дон. Я буду ждать вас здесь.
Выйдя на проспект Санчеса Серро, Фелисито отыскал копировальный аппарат недалеко от продовольственного рынка. Пришлось дожидаться, пока какие-то инженеры снимали копии с целой стопки планов, и он решил не возвращаться на допрос к сержанту. Фелисито передал копию письма желторотому дежурному, сидевшему за столом в первой комнате, а сам, вместо того чтобы вернуться в офис, снова нырнул в толчею центральных кварталов, заполненных прохожими, автомобильными гудками, жарой, звуковой рекламой, машинами, мототакси и ревущими мотороллерами. Фелисито пересек проспект Грау7, прошел под сенью тамарисков на Пласа-де-Армас и, подавив искушение выпить фруктовый коктейль в кафе «Лошадник», направился в старинный квартал возле скотобойни у реки, в Гальинасеру, где прошла его юность. Фелисито молил Бога, чтобы Аделаида оказалась у себя в лавке. Ему сейчас очень хотелось с ней побеседовать. Эта беседа сильно бы его успокоила, а возможно, Святоша поможет добрым советом. Жара уже стояла невыносимая, а ведь еще не было и десяти. У Фелисито вспотел лоб, к затылку как будто приложили раскаленную пластину. Он двигался быстро, мелкими энергичными шажками, сталкиваясь с другими прохожими на узких тротуарах, пропахших мочой и пригоревшим мясом. Где-то рядом радио на полную мощь наяривало сальсу «Мерекумбе».
Фелисито иногда говорил сам себе — а несколько раз сообщил жене и сыновьям, — что Господь, дабы вознаградить его за труды и жертвы всей жизни, свел его с двумя людьми: бакалейщиком Лау и гадалкой Аделаидой. Без них он никогда не продвинулся бы в делах, не открыл бы транспортную контору, не создал бы достойную семью и не обладал бы железным здоровьем. Фелисито никогда не был человеком компанейским. С тех пор как беднягу Лау свела в могилу желудочная инфекция, только Аделаида оставалась его другом. По счастью, она оказалась на месте, сидела за прилавком, заваленным травами, вышивками, фигурками святых и разными безделушками, и разглядывала фотографии в журнале.
— Здравствуй, Аделаида. — Фелисито протянул женщине руку. — Ты мне пятерку не разменяешь? Как я рад, что тебя застал!
Аделаида была мулатка без возраста, крепенькая, толстозадая, сисястая, она всегда ходила по земляному полу своей лавочки босиком, с распущенными кучерявыми волосами до плеч, в одной и той же мешковатой рубахе землистого цвета, доходившей до самых щиколоток. У нее были огромные глаза, которые не просто смотрели, а буравили, но этот взгляд смягчался приветливым выражением лица, так что люди сразу ей доверяли.
— Если ты ко мне пришел, значит с тобой случилось или вскоре случится что-то нехорошее, — рассмеялась Аделаида, шлепая себя по пузу. — Ну и в чем же твоя проблема, Фелисито?
Коммерсант протянул ей письмо:
— Сегодня утром его прикрепили к моей двери. Не знаю, что делать. Я заявил в полицию, но думаю, это просто без толку. Фараон, с которым я разговаривал, не слишком со мной церемонился.
Аделаида ощупала письмо, а потом обнюхала: прорицательница как будто вдыхала аромат духов. Потом она поднесла бумагу к губам, и Фелисито почудилось, что Аделаида даже обсосала уголок письма.
— Прочитай-ка мне вслух, Фелисито, — попросила она, возвращая письмо. — Я вижу, это не любовная записка, вот жалость какая!
Аделаида слушала очень внимательно. Когда Фелисито дочитал до конца, она скроила смешную гримасу, раскинула руки и вопросила:
— И чего же ты от меня хочешь, куманек?
— Ответь, Аделаида, это вообще всерьез? Следует мне беспокоиться или нет? А может быть, это просто глупая шутка? Пожалуйста, объясни мне, в чем тут дело.
Святоша рассмеялась так, что все ее крепкое тело сотряслось под бурым балахоном.
— Я не Господь Бог, чтобы знать про такие вещи! — воскликнула она, пожимая плечами и всплеснув руками.
— А озарения тебе ничего не подсказывают, Аделаида? За все двадцать пять лет, что мы знакомы, ты ни разу не дала мне плохого совета, все твои слова пошли мне на пользу. Я вообще не знаю, кумушка, как бы жил без тебя. Так присоветуй мне что-нибудь и сейчас.
— Нет, дружочек, не могу, — ответила Аделаида делано печальным голосом. — Не приходит ко мне озарение. Прости, Фелисито.
— Ну ладно, что ж поделаешь, — согласился коммерсант и полез за бумажником. — Не приходит так не приходит.
— За что же ты платишь, если я ничего не посоветовала? — возмутилась женщина. Но в конце концов, повинуясь настоятельным уговорам Фелисито, спрятала в карман купюру в двадцать солей.
— Можно я чуток посижу здесь, в тенечке? Уж очень я набегался, Аделаида.
— Садись и отдыхай, куманек. Я принесу тебе холодной водички попить, фильтрованной. Давай располагайся.
1 Пьюра — город на северо-западе Перу, на побережье Тихого океана, место действия многих произведений Варгаса Льосы. — Здесь и далее примеч. перев.
2 Луис Мигель Санчес Серро (1889–1933) — военный и политический деятель родом из Пьюры, президент Перу с 1931 по 1933 год.
3 Куадра — мера длины, около 125 метров.
4 Перуанский соль составляет 100 сентаво.
5 Хоакин Рамос со своей козой-газелью упоминается на первых страницах повести Варгаса Льосы «Кто убил Паломино Молеро?» (1986).
6 Литума — персонаж многих произведений Варгаса Льосы.
7 Мигель Грау Семинарио (1834–1879) — адмирал, национальный герой Перу. Родился в городе Пайта, неподалеку от Пьюры; погиб в войне с Чили.
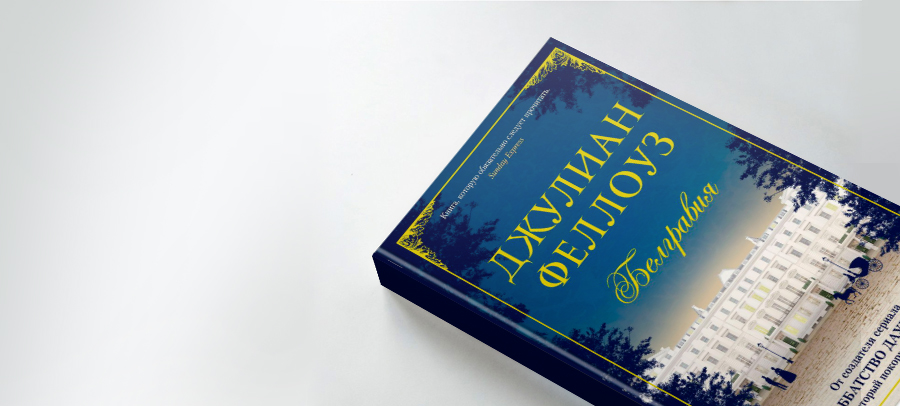


 Александр Жикаренцев
Александр Жикаренцев  Ольга Тублина
Ольга Тублина Леонид Янковский
Леонид Янковский 






