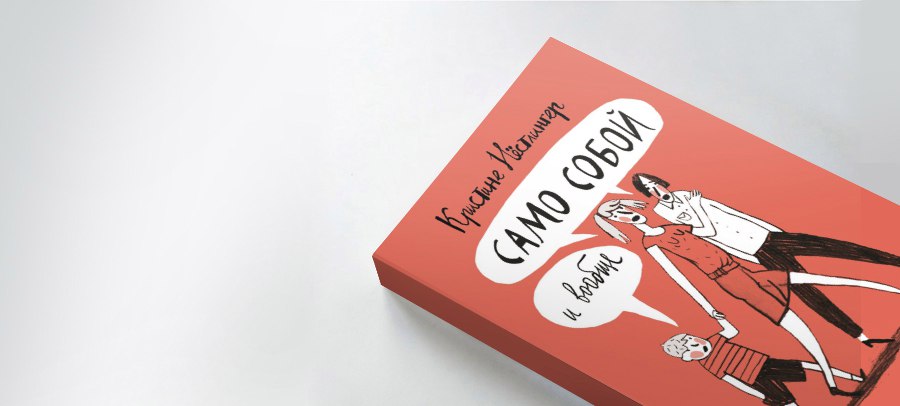Жозе Сарамаго — один из крупнейших писателей современной Португалии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1998 года, автор скандально знаменитого «Евангелия от Иисуса».
Раймундо Силва — корректор. Готовя к печати книгу по истории осады мавританского Лиссабона в ходе реконкисты XII века, он, сам не понимая зачем, вставляет в ключевом эпизоде лишнюю частицу «не» — и выходит так, будто португальская столица была отвоевана
у мавров без помощи крестоносцев. И вот уже история — мировая и личная — течет по другому руслу, а сеньора Мария-Сара, поставленная присматривать над корректорами во избежание столь досадных и необъяснимых ошибок в будущем, делает Раймундо самое неожиданное предложение…
Январь, смеркается рано. В кабинетике душно и сумрачно. Двери закрыты. Спасаясь от холода, корректор укутал колени одеялом и, почти обжигая щиколотки, придвинул калорифер к самому столу. Уже понятно, наверно, что дом — старый, не очень комфортабельный, выстроен был в те спартанские, в те суровые времена, когда еще считалось, что выйти на улицу в сильные холода — наилучшее средство согреться для тех, кто не располагал ничем иным, кроме выстуженного коридора, где можно было помаршировать, разгоняя кровь. Но вот на последней странице Истории Осады Лиссабона Раймундо Силва отыщет пламенное выражение ярого патриотизма, который, наверно, сумеет признать и принять, если уж его собственный от монотонного мирного и тихого житья-бытья остыл и увял, а сейчас корректора пробивает дрожь от того единственного в своем роде дуновения, что исходит из душ героев, и вот смотрите, что пишет историк: На башне замка в последний раз — и уже навсегда — спустился флаг с мусульманским полумесяцем, а рядом со знаком креста, который всему миру возвещает святое крещение нового христианского города, медленно вознесся в голубое небо лобзаемый светом, ласкаемый ветром, горделиво возвещающий победу штандарт короля Афонсо Эн рикеса с изображениями пяти щитов Португалии, ах ты, мать твою, и пусть никого не смущает, что корректор
обратил бранные слова к национальной святыне, это всего лишь законный способ облегчить душу того, кто, насмешливо укоренный за наивные ошибки собственного воображения, убедился вдруг, что нетронуты оказались другие, не им допущенные, и хотя у него есть и полное право, и сильное желание покрыть поля целой россыпью негодующих делеатуров, он, как мы с вами знаем, этого не
сделает, потому что указание на ошибки такого калибра послужит к посрамлению автора, сапожнику же надлежит судить не свыше сами знаете чего, а делать только то, за что ему платят, и таковы были последние, окончательные слова выведенного из терпения Апеллеса. Да, эти ошибки не чета той пустячной, ничего не значащей путанице с правильным обозначением баллист и катапульт, до которой сейчас нам, в сущности, мало дела, тогда как недопустимой несообразностью выглядят пять геральдических щитов — и это во времена короля Афонсо Первого, хотя они появились на флаге лишь в царствование его сына Саншо, да и тогда располагались неизвестно как — то ли крестообразно в центре, то ли один посередке, а прочие по углам, то ли, если верить серьезной гипотезе самых весомых авторитетов, занимали все поле. Пятно, да не единственное, навсегда испортило бы заключительную страницу Истории Осады Лиссабона, во всех прочих отношениях так щедро и выразительно оркестрованную грохотом барабанов и пением труб, восхитительной высокопарностью стиля, в котором описывался парад, так и видишь, как пешие латники и кавалеристы, выстроясь для церемонии спуска флага ненавистного и подъема христианского и лузитанского, единой глоткой кричат: Да здравствует Португалия, и в воинственном раже гремят мечами о щиты, и потом церемониальным маршем проходят перед королем, который мстительно попирает на обагренной мавританской кровью земле мусульманский полумесяц — вторая грубейшая ошибка, потому что
никогда флаг с подобной эмблемой не развевался над стенами Лиссабона, и историку полагалось бы знать, что полумесяц на знамени появился столетия на два-три позже, в Оттоманской империи. Раймундо Силва занес было острие шариковой ручки над пятью гербами, но потом подумал, что если удалит их и полумесяц в придачу, случится на странице нечто вроде землетрясения, история не получит финала, достойного значительности момента, а этот урок как нельзя лучше годится, чтобы люди осознали всю важность того, что на первый взгляд кажется всего лишь куском одно- или разноцветной материи с нашитыми на нее фигурами — башнями или звездами, львами или единорогами, орлами, солнцами, серпами с молотами, язвами, мечами, ножами, циркулями, шестеренками, кедрами или слонами, быками или шапками, руками, пальмами или конями или канделябрами или черт его знает чем еще, заплутает человек в этом музее без каталога или гида, а еще хуже, если к флагам додумаются присоединить гербы, благо это одна семейка, и вот тогда начнется нескончаемая череда лилий, раковин, леопардов, пчел, деревьев, посохов, митр, колосьев, медведей, саламандр, цапель, гусей с голубями, оленей, девственниц, мостов, воронов и каравелл, копий и книг, да, и книг тоже — Библии, Корана, Капитала, угадывайте, кто может, и из всего этого напрашивается вывод, что люди не способны сказать, кто они такие, если не соотнесут себя с чем-то еще, и это весьма основательный резон для того, чтобы оставить эпизод с обоими флагами — спущенным и поднятым, — но все же мы имели в виду, что эпизод этот — ложь и вымысел, хотя отчасти и небесполезный, а нам стыд и позор, что не набрались смелости ни вычеркнуть весь абзац, ни заменить его основательной истиной — побуждение, конечно, лишнее, но неистребимое, смилуйся над нами Аллах.
Впервые за многие годы своего дотошного ремесла Раймундо Силва не прочтет книгу сплошняком и полностью. Там, как уже было сказано, четыреста тридцать семь страниц, густо испещренных пометками, и на чтение это уйдет вся, ну или почти вся ночь, а он не готов к таким жертвам, потому что окончательно обуян неприязнью к этой книге и к ее автору, из-за которого завтра ведь читатели в невинности своей скажут, а школьники повторят, что у мухи четыре лапки, как утверждал Аристотель, а в ближайшую годовщину отвоевания Лиссабона у мавров, в две тысячи сто сорок седьмом году, если, конечно, будет еще этот самый Лиссабон и будут в нем португальцы, наверняка найдется президент, который напомнит о той высокоторжественной минуте, когда в синем небе над нашим прекрасным городом вместо нечестивого полумесяца триумфально вознеслись пять португальских гербов.
Тем временем профессиональная совесть требует от корректора, чтобы он по крайней мере просмотрел страницы, медленно скользя опытным глазом по словам и зная, что когда он изменит вот так уровень внимания, непременно обратится оно на какой-нибудь мелкий огрех, входящий в корректорскую компетенцию, заметит его, как замечаешь внезапную тень от смещенного светового фокуса, уже исчезающий образ, молниеносно ухваченный в последнее мгновение боковым зрением. Совершенно не важно, сумел ли Раймундо Силва вычистить все утомительные страницы, но стоит отметить, что он перечел обращенную к крестоносцам речь короля Афонсо Энрикеса, данную в версии Осберна и переведенную с латыни самим автором Истории, который не доверяется чужому уму, если речь о таких ответственных моментах, как ни больше ни меньше первая достоверно дошедшая до нас речь короля-основателя. Для Раймундо Силвы вся эта речь от первого до последнего слова есть чистейший абсурд, и не потому, что корректор позволил себе усомниться в точности перевода — видит бог, он не латинист, — а потому, что не может, ну вот просто не может, и все, поверить, что из уст короля, а не клирика какого-нибудь, прости господи, высокоученого лились замысловатые обо роты, больше похожие на претенциозные проповеди, которые зазвучат с амвона веков шесть-семь спустя, чем на те слабые достижения в изучении языка, на котором он только-только начал лепетать. Корректор язвительно улыбается, но тут вдруг сердце его вздрагивает при мысли о том, что если Эгас Мониз был таким хорошим воспитателем, каким рисуют его хроники, и если появился на свет не только затем, чтобы отвезти калеку-младенца в Каркере или позднее отправиться босиком и с вервием вкруг шеи в Толедо, наверняка его питомцу вдосталь хватало христианских и политических истин, а поскольку движителем усовершенствования в этих науках в основном была латынь, можно предположить, что царственный мальчуган изъяснялся не только по-галисийски, как ему и пристало, но и латынью владел квантум сатис, то есть в пределах, достаточных для того, чтобы в свой срок продекламировать пред лицом стольких и столь образованных крестоносцев вышеупомянутую торжественную речь, ибо они в ту пору из всех языков могли объясняться с помощью монахов-переводчиков только на родном, с колыбели им внятном, и на жалких начатках другого. Так что король Афонсо Энрикес все же, выходит, знал латынь и не должен был на высокоторжественном собрании выставлять себе замену и, весьма вероятно, сам был автором высокоторжественных слов, и эта гипотеза чрез- вычайно мила сердцу того, кто лично, собственноручно и на той же самой латыни написал Историю Покорения Сантарена, как объясняет нам Барбоза Машадо в своей Лузитанской Библиотеке, сообщая еще, что в свое время хранилась оная история в архиве монастыря Алкобасы, а написана была на чистых страницах Книги святого Фульгенция. Надо сказать, корректор не верит не то чтобы своим глазам, а тому, что глаза его видят, — не верит ни единому слову, дух скептицизма силен в нем, как он сам это декларировал, и, чтобы оборвать этот морок, а также отвлечься от тягомотины вынужденного чтения, он припадает к чистому роднику современных источников, ищет там и обретает искомое: Я так и думал, Машадо просто скопировал, не проверяя, сочиненное монахами Бернардо де Брито и Антонио Бранданом1, вот так и возникают исторические недоразумения: Некто сказал, что Такой-то сказал, что Сякой-то слышал, и три этих авторитета созидают историю, хотя в конце концов выясняется, что ту ее часть, которая относится к завоеванию Сантарена, написал брат-келарь из монастыря Санта-Круз в Коимбре, не оставивший векам даже своего имени и, значит, лишившийся права претендовать на приличествующее ему место в библиотеке, откуда в ином случае выкинули бы короля-узурпатора.
Теперь Раймундо Силва, в наброшенном на плечи одеяле, край которого при каждом движении волочится по полу, вслух, подобно что-то там оглашающему глашатаю, читает речь нашего государя перед крестоносцами, а речь примерно такова: Мы ведали, а теперь еще и воочию видели, что вы все — люди сильные, бесстрашные и поднаторелые в искусстве боя, и наши глаза подтверждают то, что слышали уши. И собрались мы здесь не для переговоров о том, сколько следует посулить вам, людям богатым, чтобы вы, обогатясь еще более нашими даяниями, примкнули к нам для осады этого города. Оттого что вечно не знаем покоя от мавров, нам не удается собрать сокровищ, как не удается и чувствовать себя в безопасности. Но поелику мы не хотим держать вас в неведении относительно наших средств, равно как и наших намеренинасчет вас, заявляем, что это не причина отвергать наше обещание, ибо мы предполагаем отдать вам во власть все, чем обилен наш край. И мы можем быть совершенно уверены в одном, а именно в том, что ваше благочестие сильнее привлечет вас к этим бранным трудам и подвигнет осуществить столь великое начинание, нежели наши посулы и обещания отблагодарить вас. И ради того чтобы не пошла катавасия, не началась сумятица, не поднялся шум и чтобы все это не омрачило торжества и не заглушило бы моих речей, предлагаю вам избрать из своей среды тех, кому доверяете, чтобы совместно с ними мы, отойдя в сторону, в спокойствии и благолепии определили размер нашей грядущей признательности и решили, что́ именно выделим вам, а затем сообщили о своем решении всем остальным, после чего обе стороны, придя к соглашению, принесут соответствующие клятвы, установят должные гарантии и утвердят свой договор.
Не верится, что эту речь сочинил начинающий монарх, не имеющий никакого дипломатического опыта, — тут чувствуется хватка и сметка высокопоставленного церковника, может быть, даже самого епископа Порто, дона Педро Питоэнса, и, без сомнения, архиепископа Браги дона Жоана Пекулиара, которые общими и согласными усилиями сумели убедить крестоносцев, плывших по реке Доуро, свернуть на Тежу и поспособствовать отвоеванию Лиссабона, говорили же они им примерно так: По крайней мере, послушайте, какие могут быть у вас основания оказать нам содействие. И поскольку плавание от Порто до Лиссабона длилось три дня, даже тот, кто не особо богато наделен природным воображением, легко себе представит, как два прелата по дороге обдумывали и вчерне набрасывали проект, подбирали аргументы, рассыпали многозначительные обиняки и околичности, предостерегали, давали щедрейшие посулы, завороченные в благопристойную обертку умственных спекуляций, как не скупились на лесть, без меры рассыпая ее в борозды речей своих и памятуя, что этот коварный злак обычно дает урожай сам-тысяча, даже если почва неплодородна и сеятель неумел. Раймундо Силва, воспламенясь, театральным жестом сбрасывает с плеч одеяло, улыбается невесело: Да, пожалуй, в такую речь не поверишь, такие речи больше пристали шекспировским персонажам, а не провинциальным епископам, возвращается к письменному столу и садится в изнеможении, качает головой: Подумать только, мы никогда, никогда не узнаем, что же на самом деле сказал дон Афонсо Энрикес крестоносцам, кроме: Добрый день, ну а что еще, да, что же еще, и слепящее сияние этой очевидности внезапно представляется ему просто несчастьем, он способен отринуть, ох, да не спрашивайте только, что именно и сколь многое, отрешиться от бессмертия души, если она имеется, от благ земных, если бы они у него были, лишь бы только обрести, желательно вот здесь, в той части Лиссабона, который в ту пору весь еще состоял из этой части, да, так вот, в той его части, где имеет Раймундо Силва жительство, обрести, говорю, кусок пергамента, обрывок папируса, клочок бумаги, газетную вырезку, запись на магнитной ленте или, может быть, надпись на надгробной плите — что-нибудь, словом, где сохранилось подлинное высказывание, оригинал, так сказать, пусть даже менее изящный с точки зрения искусства диалектики, нежели эта манерная его версия, где отсутствуют как раз крепкие слова, достойные произнесения по такому случаю.
Ужин был краток, а незамысловатой легкостью превос- ходил обед, но Раймундо Силва выпил не одну, как обычно, а две чашки кофе, чтобы отогнать сонливость, которая не замедлит предъявить свои права, упроченные полубессонной ночью накануне. В четком ритме страницы переходят из стопки в стопку, картины и эпизоды сменяют друг друга, а историк сейчас расцветил стиль изложения, описывая распрю, возникшую у крестоносцев по заслушании королевской речи и имевшую предметом вопрос, надо ли помогать нашим португальцам осаждать Лиссабон или не надо, задержаться ли там или, первоначальным планам следуя, следовать далее, в Святую землю, где в турецких оковах ждет их Господь наш Иисус Христос. Те, кого прельщала идея задержаться, утверждали, что выбить из Лиссабона нечестивых мавров, а город вернуть в лоно христианства — дело богоугодное не менее, чем освобождение Гроба Господня, а противники возражали им в том смысле, что, может, и богоугодное, да больно мелкое, не служба, так сказать, а службишка, а таким коренным, можно сказать, рыцарям, как те, что собрались здесь, пустяками заниматься не пристало, а надлежит действовать там, где ждут их наибольшие труды и трудности, там, а не в этой заднице мира, среди паршивых и шелудивых, и так надо понимать, что под одними имелись в виду португальцы, а под другими мавры, но кто есть кто, не уточнил историк, не видя, должно быть, смысла выбирать между двумя оскорблениями. Прости меня, Господи, страшно взревели воины, являя ярость словами своими и лицами, а те, кто предлагал продол- жить плавание в Святую землю, утверждали, что от встречи в море с кораблями, плывущими из Испании или из
Африки, и вот ведь какой вышел тут анахронизм, за который спрос должен быть только с автора, ибо какие там корабли в двенадцатом-то веке, да, так вот, добычи будет больше, нежели при взятии Лиссабона, а опасностей меньше, потому что стены его высоки, а гарнизон многочислен. Как в воду глядел наш государь Афонсо Энрикес, когда предрек, что при обсуждении его предложения поднимется страшнейшая катавасия, а слово это, будучи по национальности греческим, верно служит для обозначения скандального шума и крика и фламандцам, и болонцам, и британцам, и шотландцам с норманнами. Ну, так или иначе, противоборствующие стороны дискутировали весь Петров день, а на следующий, тридцатого то есть июня, представители крестоносцев, достигших согласия, сообщат королю, что, мол, ваше величество, мы поможем вам во взятии Лиссабона в обмен на имущество мавров, глядящих со стен, и на предоставление иных возможностей, прямых и косвенных.
Уже две минуты смотрит Раймундо Силва — и взгляд его так пристален, что кажется рассеянно-невидящим, — на страницу, где запечатлены эти неоспоримые и неколебимые исторические факты, но смотрит не потому, что подозревает последнюю ошибку, которая притаилась там незамеченной, какую-нибудь коварную опечатку, которая умудрилась запрятаться где-нибудь в складках местности, то бишь какого-нибудь грамматически извилистого периода, и теперь дразнит-заманивает, пользуясь тем, что глаза корректора утомлены и все его тело охвачено отупляющей истомой. А подозревать не приходится потому, что еще три минуты назад корректор был так бодр и свеж, словно принял таблетку бензедрина из своего лежащего за книгами запаса, купленного по рецепту доктора-идиота. В умопомрачении он читает, перечитывает и снова читает одну и ту же строку, а она снова и снова округло сообщает, что крестоносцы помогут португальцам взять Лиссабон. Случайно ли, по роковому ли стечению обстоятельств слова эти соединились во фразе и там обрели не только силу легенды, зазвучали дистихом, приговором, обжалованию не подлежащим, но еще и насмешливо-дразнящий тон, каким будто говорят: Если можешь, сделай из нас что-нибудь другое. Напряжение дошло до такой степени, что Раймундо Силва вдруг не выдержал, поднялся, оттолкнув кресло, и теперь в волнении ходит вперед-назад по ограниченному пространству, оставленному ему книжными полками, диваном и письменным столом, снова и снова твердя: Какая чушь, какая несусветная чушь, и, словно в подтверждение такого решительного заявления, снова берет лист, благодаря чему и мы можем теперь, отринув прежние сомнения, убедиться, что не такая уж там чушь, а очень даже вдумчиво и последовательно объясняется, что крестоносцы помогут португальцам взять Лиссабон, а доказательство того, что именно так и случилось, мы найдем на следующих страницах, там, где описываются осада, приступ, схватки на стенах, бои на улицах и в домах, исключительно высокая смертность, объясняющаяся резней и бойней, грабеж и: Скажите нам, сеньор корректор, да где же вы тут усмотрели чушь, притом еще несусветную, мы вот ошибки не заметили, нам, разумеется, далеко до вашей многоопытности, иногда мы смотрим, да не видим, однако читать все же умеем, хоть и, да-да, вы правы, конечно, не всегда понимаем прочитанное, и вы уже угадали, по какой причине, это недостатки технического, сеньор корректор, технического нашего образования, а кроме того, признаемся, нам лень заглянуть в словарь и проверить значения, ну да, сами виноваты. Чушь, чушь, стоит на своем Раймундо Силва, словно отвечая нам, я подобного не сделаю, корректор относится к своему труду серьезно, без шуточек, он не фокусник, он уважает то, что воздвигнуто в грамматиках и справочниках, он свято блюдет неписаный, но незыблемый кодекс профессиональной порядочности, он — консерватор, обязанный все влечения таить, а сомнения, если они порой возникают, хранить при себе, произносить про себя и уж подавно не писать нет там, где автор написал да, и этот корректор так не поступит. Слова, только что произнесенные доктором Джекиллом, пытаются противостоять другим, которые мы еще не успели услышать, а выговорил их доктор Хайд, и нет необходимости упоминать два этих имени, чтобы понять — здесь, в старом доме в квартале Кастело, мы присутствуем при очередной схватке между чемпионом ангелов и чемпионом демонов, меж этими двумя началами, из которых состоят и на которые разделены существа, человеческие, само собой, существа, не исключая и корректоров. Раунд, как ни печально, останется за мистером Хайдом, это явствует из того, как улыбается сейчас Раймундо Силва, а улыбается он так, как никак нельзя было ожидать от него, улыбается с откровенным злорадством, и бесследно стерлись с лица его черты доктора Джекилла, и стало очевидно, что он сию минуту принял некое решение, притом решение коварное, и вот, твердой рукой сжав шариковую ручку, прибавляет к тексту на странице одно слово — слово, которого в тексте у автора нет и во имя исторической истины быть не могло, а слово это — НЕ, и теперь получается, что крестоносцы не помогут португальцам взять Лиссабон, так написано и, стало быть, это станет истиной, пусть и другой, и то, что мы называем ложью, возобладало над тем, что мы называем истиной, заняло ее место, и кто-то должен будет рассказать новую историю, любопытно было бы узнать как.
За столько лет беспорочной службы никогда Раймундо Силва не дерзал намеренно и осознанно нарушить вышеупомянутые заповеди неписаного кодекса, предусматривающего все действия — и бездействия — корректора по отношению к идеям и мнениям авторов. Для корректора, знающего свое место, автор непогрешим. И вот, к примеру, даже если над текстом Ницше работает истово верующий корректор, он победит искушение вставить — да-да, не в пример кое-каким иным своим коллегам — слово НЕ в известную фразу насчет того, что Бог умер. Ах, если бы корректоры могли, если бы не были они связаны по рукам и ногам совокупностью запретов, более всеобъемлюще-суровых, нежели статьи уголовного уложения, они сумели бы преобразить наш мир, установить на земле царство всеобщего счастья, они напоили бы жаждущих, накормили голодных, умиротворили смятенных душой, развеселили бы унылых, приискали бы компанию одиноким, подали бы надежду отчаявшимся, уж не говоря о том, что несчастья и преступления они извели бы легко и просто, потому что совершили бы это, всего лишь заменив одно слово другим, а если кто усомнится в возможностях новоявленных демиургов, пусть припомнит, что именно так — словами, словами такими, а не сякими — сотворены были мир и человек, и стали они этими, а не теми.
Да сделается, сказал Бог, и все немедленно сделалось.
Раймундо Силва не станет больше читать. Он измучен и лишился сил, ушедших без остатка на это НЕ, за которое он, несмотря на свою незапятнанную профессиональную репутацию, отдал чистую совесть и мир в душе. С сегодняшнего дня он будет жить ради той минуты — а рано или поздно придет она неминуемо, — когда отчета и ответа за ошибку потребует с него то ли сам рассердившийся автор, то ли неумолимо насмешливый критик, то ли внимательный читатель, отправивший письмо в издательство, а то ли даже, да и прямо завтра, Коста, приехавший забрать гранки, ибо с него вполне станется явиться за ними с видом героического самопожертвования: Сам решил заехать, всегда ведь лучше, когда каждый делает больше, чем предписывает ему долг. А если Косте вздумается пролистать гранки, прежде чем сунуть их в портфель, а если в этом случае бросится ему в глаза страница, запятнанная ложью, если удивит его появление нового слова в сверке, то есть уже в четвертой корректуре, если он даст себе труд прочесть и понять, что́ напечатано на странице, то мир, теперь переправленный, переживет иначе одно краткое мгновение, и Коста, поколебавшись немного, скажет: Сеньор Силва, взгляните-ка, нет ли тут ошибки, и он притворится, что глядит, и ему останется лишь согласиться: Ах, я растяпа, как же это я мог, не понимаю, как такое могло произойти, прозевал от недосыпа, что есть, то есть. И не придется рисовать значок удаления, чтобы истребить негодное слово, достаточно будет просто зачеркнуть его, как поступил бы ребенок, и мир вернется на прежнюю спокойную орбиту, и что было, то и будет дальше, а отныне и впредь у Косты, пусть и предавшего забвению странный эпизод, появится еще один повод возглашать, что Производство превыше всего.
Раймундо Силва прилег. Он лежит на спине, закинув руки за голову, и еще не чувствует холода. Ему трудно размышлять о том, что он сделал, он не может признать всю серьезность своего поступка и даже удивляется, почему же это раньше не додумывался изменять смысл книг, над которыми работал. Внезапно ему кажется, что он раздваивается, отдаляется от себя самого, наблюдает за собой, и немного пугается таких ощущений. Потом пожимает плечами и отстраняет заботу, которая уже начала было проникать в душу: Ладно, видно будет, завтра решу, оставить слово или убрать. Собрался уж было повернуться на правый бок, спиной к пустой половине кровати, но тут вдруг понял, что сирена молчит — и неизвестно, как давно. Нет, я же слышал ее, произнося королевскую речь, точно помню, как между двумя фразами сипло ревела она потерявшимся в тумане, отставшим от стада быком, что взывает к мутно-белесому небу, как странно, что нет морских животных, способных голосами заполнить пустыню моря или вот этой огромной реки, пойду взгля-ну, что там на небе. Он встал, набросил на плечи толстый халат, которым зимой всегда укрывается поверх одеяла, и распахнул окно. Туман исчез, и не верилось, что и на склоне внизу, и на другом берегу скрывалось такое множество желтых и белых огней, искрящихся, дрожащих на воде светлячков. Похолодало. Раймундо Силва подумал в пессоальном2 стиле: Если бы я курил, закурил бы сейчас, глядя на реку, думая, как смутно все, как разно, но раз уж я не курю, то подумаю, подумаю всего лишь, как все смутно, как разно, и без сигареты, хотя сигарета, если бы я курил, сама сумела бы выразить разнообразие и неопределенность многого, вот хоть этого самого дыма, который выпускал бы сейчас, если бы курил. Корректор задерживается у окна, и никто не скажет ему: Простудишься, отойди скорее, и он пытается представить, что его нежно позвали, но задерживается еще на миг для мыслей смутных и разнообразных, но вот наконец словно его снова позвали: Отойди от окна, прошу тебя, уступает, снисходит к просьбе и, закрыв окно, возвращается в постель, ложится на правый бок в ожидании. В ожидании сна.
1 Бернардо де Брито (1569–1617) и Антонио Брандан (1584–1637) — монахи ордена цистерцианцев, португальские историографы.
2 Имеется в виду Фернандо Пессоа (1888–1935) — крупнейший португальский поэт ХХ в. В этом фрагменте автор имитирует характерный стиль некоторых его верлибров.