- Марина Костюхина. Записки куклы. Модное воспитание в литературе для девиц конца XVIII — начала XX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 304 с.
Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII — начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем — шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой. В кукольных «записках», как и во всей литературе для девиц, велика роль предметного мира: вещам и деталям туалета придается статус жизнеопределяющего и духовно значимого. Столь же говорящими являются наряд куклы, форма тела и выражение ее лица. Предлагаемое исследование предметно-вещевого мира в русской литературе для девиц конца XVIII — начала XX века — первый опыт в этой области.
Кукла в мужских руках
Пока молодые люди развлекались с потенциальными невестами и их куклами, младшие братья ломали игрушки своих сестер. Эта житейская ситуация нашла подробное отражение в назидательной литературе. В изданиях XVIII— XIX веков распространены рассказы о том, как мальчики безжалостно ломают ручки-ножки кукол, разрывают лайковое тело, разбивают фарфоровые головы. Жизненный опыт показывал, что разбитые куклы вызывают у мальчиков не меньшее горе, чем у их сестер. Одна из мемуаристок вспоминала, как получила от крестного в подарок «прелестную восковую куклу с белокурыми локонами, голубыми, как незабудки, глазами, в белом, из альмага, платье, с розовыми лентами» . Это была первая настоящая кукла в жизни девочки. Четырехлетний брат попросил подержать игрушку и уронил ее: от восковой головки ничего не осталось, кроме мелких кусочков. Горе брата и сестры было взаимным. Горючими слезами заливались дети Татьяна и Илья Толстые, нечаянно разбившие куклу во время игры.
В назидательной литературе нарочито грубое отношение братьев к куклам сестер трактуется как естественное для мужчины, а интерес (или симпатия) к ним как противоестественное. Исключение составляли куклы, специально предназначавшиеся для мальчиков. Набор таких кукол был традиционным и скупым: полишинель (с подвижными частями тела на тесемках), Горбунчик (разновидность игрушки Ванька-Встанька) и обязательный для того времени игрушечный кучер. Такие игрушки годились для мальчишеской забавы, но не для игры в куклы. Между тем играть в куклы хотели не только девочки, но и мальчики. Множество тому свидетельств обнаруживается в опубликованных родительских дневниках. Выйдя из раннего возраста, мальчик под влиянием взрослых начинает скрывать любовь к куклам сестер как постыдную. Представление о том, что мальчику не должно играть в куклы, было повсеместным. Описывая особенности семейного воспитания во Франции, педагоги отмечали привязанность маленьких французов к куклам их сестер. Окружающие относились к этому с осуждением, считая игру в куклы недостойным или даже порочным занятием для мальчика. Социальные и семейные предрассудки поддерживались педагогами и морализаторами. «Мальчик, вырастающий между сестрами, научается играть в куклы; но если в известном возрасте не запретить ему эту игру, то женственность эта останется в нем на всю жизнь». Считалось также, что мальчишеские игры вредно сказываются на формировании женственности у девочек. Только к началу XX века педагогика освободилась от требований гендерной детерминированности в игре (пионерами в этом были амери канские и советские педагоги).
С высоты прожитых лет мемуаристы признавались в детской любви к куклам своих сестер. Трогательный эпизод описан в воспоминаниях графа Михаила Бутурлина. Вернувшись из-за границы после многих лет отсутствия в родовое имение, восемнадцатилетний юноша стал разыскивать по дому предметы, связанные с годами детства. «В детской каморке сестры Елизаветы Дмитриевны (она была моя любимая и особо любящая меня сестра) наткнулся на гардероб ее кукол; тут я не выдержал: прослезился как ребенок и побежал показать г. Слоану одно кукольное платьице«. Француз был смущен взрывом эмоций, вызванным у его воспитанника предметами для кукольной игры. Так же эмоционально относился к куклам Сережа, брат Татьяны Сухотиной-Толстой. Он с радостью играл с куклой Женей, носившей имя сестры гувернантки-англичанки, которую дети очень любили. У куклы были черные фарфоровые волосы и нарисованные голубые глаза. Играл с этой куклой мальчик всегда один. «Как только Сережа замечал, что за ним наблюдали, он конфузился, замолкал и, отложив Женю в сторону, делал вид, что он никакого внимания на нее не обращает. Графиня Камаровская в детстве играла с братом в куклы, трогательное внимание к этим играм проявлял ее отец, профессор Московского университета. «У нас как бы было два дома кукол: у брата и у меня. Между куклами бывали свадьбы, крестины, даже похороны, но последнее было тайной для всех. Он всегда присутствовал при этом, советовал, интересовался и т.д.»
Играть с куклами сестры любил брат Е. Андреевой-Бальмонт. «В куклы я никогда не играла, отдавала их Мише, как и все кукольные принадлежности: кровать, мебель, платья, и он играл в куклы целыми часами. Играл с ними, когда был уже во втором классе гимназии. Он говорил с ними по-французски, одевал, переодевал, причесывал их. У них у всех были имена: Iulie, Zoe. Они лежали в ящике его письменного стола, и он только при мне не стеснялся играть с ними между уроками». Когда дети отправлялись в игрушечную лавку, чтобы потратить деньги из копилки, Миша выбирал куклу (якобы для сестры), а та покупала лошадь или кнут (девочка обожала изображать кучера, который сидит на козлах и правит лошадками). Детям нравилось выбирать в игре противоположные гендерные роли, меняться одеждой, копировать манеру поведения противоположного пола. Такие игры всегда велись тайком от старших.
Литература же строго следовала гендерному разделению: девочкам всегда предназначались куклы, а мальчикам — лошадки и плетка. Мать подарила Оле «нарядную куклу в шелковом розовом платье», а отец купил Саше «серую лошадку с красивым седлом и, вместе с лошадкой, дал ему щегольскую шелковую плетку и кирасирскую каску». Мальчика призывают бережно обращаться с лошадкой. «Кто так хорошо обходится с деревянной лошадкой, заслуживает того, чтобы ему дали настоящую». Но поберечь надо не только лошадку, но и сестру, которой отводится в игре роль лошадки. Войдя в образ, мальчики не только понукали сестер, но и били их кнутом. Девочкам приходилось терпеливо сносить эти издержки ролевой игры. В «Детском собеседнике» (1791), изданном с посвящением малолетним великим князьям Александру и Константину, описан разговор Резвона и Упрямы — оценки героев отражены в их именах:
Резвон. Давай играть в лошади: ты будешь лошадь, а я извозчик.
Упряма. Как же не так; опять станешь бить меня, как и прежде, своею плеткою. Нет, ведь я еще того не забыла.
Резвон. Да я бью за дело; зачем ты так тихо бежишь?
Упряма. Тихо бежишь? Да ведь мне больно. Нет, нет, не хочу так играть. Знать тело не твое.
В описаниях игры, где в роли кучера выступает мальчик, а в роли лошадки — девочка, воспроизводилась гендерная иерархия: мальчику предстоит распоряжаться и править, а девочке быть покорным исполнителем. Рассказы об игре в лошадки вошли в тексты для первоначального чтения, что служило показателем распространенности в быту и социальной значимости ситуации. «Володя играл в лошадки со своей сестрой Катей. Катя представляла лошадь, а Володя был кучером. Володя погонял свою лошадку и ударил ее кнутом. Катя заплакала. Не плачь, Катя, твой братец тебя ударил не нарочно. Он забыл, что ты невправду лошадка. Он другой раз будет играть поосторожнее. Помиритесь, поцелуйтесь. Надо прощать друг другу обиды и жить дружно, без ссоры и спора». Другой брат так ударил кнутом свою сестренку, что на теле у нее остались рубцы («Что надо и не надо делать. Советы Дяди-ворчуна»). В реальной жизни далеко не всегда игры брата и сестры закачивались так печально. Более того, самим девочкам нравилось быть лошадками и носиться вместе с мальчиками, тем более что это позволялось им не часто. Однако в детских изданиях принято было упоминать о ранах, полученных несчастными сестрами от братьев. Цель таких описаний в том, чтобы призвать мальчиков быть осторожнее в обращении с «лошадками», а девочек — привыкать к тяжелой мужской руке.
Гендерная дифференциация в отношении к кукле — повод для нравоучительного разговора с детьми на тему мужского и женского предназначения. Матери убеждают дочерей, что мальчики, если и ломают игрушку, то всегда «с пользой для дела». Движимые познавательным интересом, они хотят узнать устройство кукольного механизма: «…я имею страсть все знать… не могу удержаться. Когда дадут мне игрушку, я непременно должен тотчас сломать ее, чтоб узнать, как она сделана. <…> Скучно быть маленьким мальчиком и не иметь ничего, что можно было бы разбить, разобрать, сломать».
О познавательных потребностях мальчика писали и авторы материнских дневников: мальчики разбирают игрушку, чтобы «усовершенствовать» ее, а в итоге ломают. «Оставалось только удивляться, откуда у такого маленького мальчика оказалось столько силы, чтобы совершить разрушительный подвиг». «Разрушительные подвиги» совершают и девочки, которые не меньше мальчиков хотят узнать, что у куклы внутри. Педагог Елизавета Водовозова с откровенностью описала в книге для родителей, как они с сестрой безжалостно ломали кукол. Когда мать подарила дочерям по кукле, девочки поначалу были рады подаркам, водили кукол друг к другу «в гости», но это вскоре им надоело. Мемуаристке «смертельно хотелось» узнать, что у куклы внутри. Чтобы не разбивать кукле голову, она воспользовалась вязальной иглой, затем пустила в ход перочинный ножик. «Тут я, забыв всякие предосторожности, запустила свой палец; видя это, сестра не стерпела и, как коршун, бросилась на добычу, с остервенением отрывала кусок за куском. Скоро у куклы совсем головы не стало: сохранилась только шея и часть носа. Голова куклы была из толстой бумаги, значит, внутри было пусто, только стенки оклеены серой бумагой». «Разрушительный подвиг» так захватил обеих девочек, что за первой сломанной куклой последовала вторая.
В детских книгах причины проступка всегда имели гендерное объяснение и в соответствии с ним оценивались. Мальчик движим не только страстью познать мир, но и благородным стремлением завоевать и преобразовать его. Об этом разумные матери напоминают дочерям, обиженным гендерной несправедливостью. Девочка «желала остаться век ребенком… чтобы не иметь нужды бороться со злом, которое существует в свете», а мальчик «желал бы уже быть взрослым, чтобы бороться с ним и побеждать». Успех мужчины в обществе зависит от проявления его способности быть храбрым, от девочек же требуется умение стойко переносить горести и страдания.
Благоразумные сестры, героини назидательных нарративов, готовы признать превосходство братьев: «Вам, мальчикам, надобно больше видеть и знать, а нам, как я слышала от дедушки, лучше сидеть дома и заниматься чем-нибудь полезным, находить счастие в себе. Мы, девочки, родимся для простой домашней жизни и с малых лет должны так все улаживать, чтобы дома было весело не только одним нам, но чтобы и другие с нами не скучали, тогда только можем мы быть счастливыми…» Поэтому игры девочек должны отличаться от шумных мальчишеских забав. Любящая мать дает дочери строжайший наказ: «Ты не должна участвовать в шумных играх твоих братьев, играх, которые для тебя не под каким видом не приличны». Навязанная девочке тихая боязливость является обязательным атрибутом женского поведения. Мальчикам же предлагается относиться к девичьей трусости снисходительно: «Бедные сестрицы не виноваты, если рождены такими боязливыми! Они в свою очередь оказывают нам услуги, за которые мы отплатить не в состоянии».
Снисхождение требуется и к занятиям девочек кукольной игрой. Мальчики пытаются вразумить сестер, слишком увлеченных куклами. Но девочки, в силу упрямства и «дурного нрава», не следуют увещеваниям братьев. В роскошно изданной М. Вольфом книге «Виновата ли кукла?» рассказана история о том, как «глупая» привязанность к кукле заменила девочке общение с братом и подругой. Брат пытался доказать сестре, что нелепо проводить досуг с куклой. Иное дело собака, веселая участница подвижных мальчишеских игр («собачка — живое существо, она умеет и веселиться, и печалиться, и дом стеречь, и играть; у нее жизнь есть, хоть своя жизнь, а все-таки жизнь… А у куклы какая же жизнь? Все равно, что у камня…»). Пока девочка играет с куклой, мальчик познает окружающий мир и призывает сестру разделить с ним этот интерес. Живая птица не интересна сестре, занятой игрушкой («пташечкой» она называет свою куклу). Брат, обиженный невниманием девочки, восклицает: «Пойдем со мной, Азорка, видишь, твоя барышня нынче сама в куклу обратилась». Не случайно и название одной из глав: «Юра теряет терпение». Терпение теряют верная подруга и любящая мать. Приговор близких суров: «Ты на нее [куклу. — М.К.] променяла тех, кто так любит тебя». Прозрение наступает тогда, когда по неосторожности разбивается голова куклы. Теперь девочка начинает понимать, сколь много она потеряла из-за пустоголовой фарфоровой игрушки: «Я знала, что глупо делала, что глупо привязалась к кукле и навязывала ее и Кате, и Юре. Я ведь скоро поняла, что кукла только мешает нам, нашим разговорам и нашим играм. Я даже разлюбила ее за это, но не могла расстаться с нею, и знаете почему? Просто из-за каприза…» Брат снисходительно прощает покаявшуюся сестру и даже приносит ей новую головку для куклы. Историю про неразумную привязанность девочки к игрушке издатель сопроводил превосходными иллюстрациями, изображающими в подробностях кукольную игру. Они призваны были напомнить читательницам, что дорогая и нарядная кукла является безусловной ценностью, требующей бережного отношения.
Авторы произведений старались объяснить мальчикам причины неразумности их сестер. Непонимание девичьего характера может привести к большой беде, подчеркивают писатели. Кузен спрятал куклу своей сестры и позабыл об этом. Бедная девочка молча переживает потерю любимой игрушки. Только в период болезни она решается рассказать о причине своего страдания. Отец, человек просвещенный, напоминает мальчику о его играх с картонными лошадками. «И ты, как был мал, тоже думал, что твоя деревянная лошадь живая, и требовал, чтобы ей купили овса. Но теперь тебе уже девять лет; ты знаешь, что такое жизнь, и ты покинул всякое ребячество; куклы для тебя все равно, что кусок дерева; однако наши прежние ошибочные мысли должны быть для нас поводом к снисхождению к тем, кто менее нас знает». Говорит он и о свойственной мужчинам способности «разрывать, разрушать, без всякой жалости связи, сильные и священные привычки». «Священной привычкой» была для девочки кукла («Это была ее подруга, ее дочь!»). Слова родителя вызвали раскаяние мальчика, а чудесная случайность помогла найти пропавшую игрушку. В финале повести «Юлинька нашла себе награду за молчаливую скорбь свою; а Саша, после чистосердечного раскаяния, прыгал от радости, чувствуя, что у него отвалил от души камень, — камень, который тяготит тех, кто должен говорить себе: я сделал зло!».
Несчастная девочка вознаграждена за терпеливое страдание — таков образец поведения для сестер. Но иногда их обида или боль бывает слишком велика. Одна из детских историй повествует о том, как брат по неосторожности ударил сестру хлыстом. Обиженная девочка не хочет простить виновника. И тогда рассказчица вспоминает историю о том, как крестный стал виновником гибели ее птички. Уходя на войну, он просит извинения, но девочка упрямится. Во время военных действий офицер погибает, и его сослуживец привозит девочке жаворонка по завещанию умирающего (Макарова С. «Поздно»). Писательница создает образы не только отрицательных, но и положительных персонажей. Так, в рассказе «Сестра Нина» младший брат бьет в гневе кукол сестры. Но случается так, что он ломает руку и попадает в больницу. Сиделкой больного становится сестра Нина. С бесконечным терпением она выносит капризы мальчика («Убирайся, я не хочу тебя видеть!» — кричит он. Она посмотрит на него грустно и серьезно своими прелестными любящими глазами, и ему станет совестно»). Так маленькие героини смиряют добротой и терпением неукротимые порывы своих братьев.
Но есть ситуации, которые переживаются девочками особенно болезненно, поскольку оскорбляют их стыдливость. Речь идет о желании мальчиков забросить куклу на дерево. Девочки не могут достать ее, ведь залезать на деревья строжайше запрещалось. При виде задравшегося платья и панталон куклы мальчики приходят в радостное возбуждение, в то время как девочки сгорают от мучительного стыда. Сердце юной Татьяны Кузминской было разбито, когда молодые люди, бывшие в гостях, забросили на дверь ее куклу. «Мими висела на двери с безжизненно опущенными ногами в клетчатых башмачках и опущенными длинными руками. Ее накрашенные глаза, как мне казалось, укоризненно глядели на меня из-под круглых бровей». С такой же укоризной глядела на обидчиков хозяйка куклы, не решаясь выразить свое недовольство.
Авторы детских книг не торопятся осудить баловников. Генрих, брат маленькой Луизы, сломал куклу сестры. Горю сестры не было предела, но в случившемся оказалась виновата сама девочка, которая не захотела простить брата. А вот маленькая Анюта повела себя иначе. «Мальчики начали подбрасывать куклу вверх, и она вся разлетелась по частям, чему дети также много смеялись, даже и сама Анюта, которая не была скупа и не стала плакать и огорчаться за куклу». Огорчаться особо и не стоит, ведь кукла — это всего лишь набитая отрубями игрушка. С какой издевкой смотрят мальчики на сломанную куклу, когда из нее высыпаются отруби. То ли дело игрушечная лошадь, на которой так весело скакать! (девочки при этом иронично заявляют, что «твоя лошадь, сколько ее не бей, далеко с ней не уедешь», да и в луже она размокла до безобразия). Играя в лошадки, маленькие кадеты размахивают игрушечными саблями и наносят кукле увечья. Лиза предлагает своей младшей кузине Машиньке поиграть в куклу-цветочницу. Но, увы, у куклы отломана рука. На упреки Лизы в небрежении девочка отвечает: «Это не я сделала. Братец отрубил у ней руку своею саблею». Но можно ли обижаться на мальчика, который готовиться стать кавалеристом! Лиза, забыв свою рассудительность, восхищается кузеном: «Прекрасно! Тогда вы будете носить мундир, облитый золотом; будете греметь шпорами; будете иметь усы! Фи, фи, фи!.. ведь нельзя же кавалеристу без усов!.. Как это будет прелестно!» В ответ на эти слова будущий кавалерист рассыпается в комплиментах: «Вам, сестрица, я отдам пред всеми другими дамами преимущество. Я знаю, вы и ныне прелестно танцуете» и обещает, став взрослым, не забыть на балах про свою кузину. Этикетные формулы примиряют девочку с потерей игрушки.
Репетицией этикетных отношений с женским полом служит танец мальчика с куклой (на детских балах парт нершу мальчику могла заменить кукла). По тому, как кавалер обращается с игрушкой, мож но судить о его воспитанности и уме нии танцевать. В «записках куклы» обязательно присутствует эпизод, рассказывающий о том, как грубый мальчик небрежно подкидывает свою фарфоровую «партнершу», вызывая крики ужаса у девочек. По словам самой куклы, «старший Жорж, девяти лет, шалун, только и мечтает, что о саблях и трубах. Он меня поднял на ужасающую высоту, стал вертеть и кричать: поглядите, какое чудо привезли!» Зато другой будущий кавалерист оказался добрым малым и отличным танцором: он ловко поддерживал куклу, говорил к месту вежливые слова и всячески старался угодить дамам, демонстрируя образец поведения мальчика в приличном обществе. В эпоху женской эмансипации на страницах художественных произведений перестали осуждать стремление девочек играть с мальчиками на равных. Выбор такой игры свидетельствует о решительном характере будущей женщины, ее отказе от навязанных гендерных ролей. Героиня А. Алтаева (псевдоним писательницы М.В. Ямщиковой) мечтает о равноправном участии в приключенческих играх братьев (в Робинзона, индейцев, разбойников). Игры, в которые она играла с куклами, тоже отличались от тех, во что играли девочки ее круга: «Мои куклы не были барынями и не ездили в гости; они были принцессами, пажами, рыцарями; их увозили тайно в чужие замки; они попадали в плен к разбойникам, они чахли в неволе и все поголовно отдали свои сердца красавцу пажу, которого изображал у меня всегда один и тот же мальчик в матросской куртке с фарфоровой кудрявой головкой». Ради игры в индейцев и разбойников маленькая любительница приключений была готова отказаться от всех своих кукол разом.



 Уже в середине июня Петербург ждет наплыва футбольных болельщиков — в городе пройдут матчи Кубка конфедераций, который является «репетицией» Чемпионата мира 2018 года. Так что сборник рассказов, повестей и даже двух поэм о футболе придется кстати. В списке авторов обнаруживается как давний любитель московского «Динамо»
Уже в середине июня Петербург ждет наплыва футбольных болельщиков — в городе пройдут матчи Кубка конфедераций, который является «репетицией» Чемпионата мира 2018 года. Так что сборник рассказов, повестей и даже двух поэм о футболе придется кстати. В списке авторов обнаруживается как давний любитель московского «Динамо»  «Каннские хроники» — это сборник бесед трех критиков, ранее рассуждавших об одном из самых престижных фестивалей на страницах журнала «Искусство кино». К сожалению, один из авторов, Даниил Дондурей, скончался незадолго до выхода книги. Тем ценнее становятся эти стенограммы дискуссий специалистов о парадоксах, отчаянии и выходах за пределы нормы, ставшие основой сборника. Книга отслеживает десятилетие из жизни фестиваля, а также подводит промежуточные итоги: специально для этого издания «Каннских хроник» Дондурей, Карахан и Плахов написали по статье.
«Каннские хроники» — это сборник бесед трех критиков, ранее рассуждавших об одном из самых престижных фестивалей на страницах журнала «Искусство кино». К сожалению, один из авторов, Даниил Дондурей, скончался незадолго до выхода книги. Тем ценнее становятся эти стенограммы дискуссий специалистов о парадоксах, отчаянии и выходах за пределы нормы, ставшие основой сборника. Книга отслеживает десятилетие из жизни фестиваля, а также подводит промежуточные итоги: специально для этого издания «Каннских хроник» Дондурей, Карахан и Плахов написали по статье. Антуан Володин — французский писатель и переводчик с русского — публикует произведения под разными псевдонимами и не желает, чтобы его тексты соотносили с какими-либо литературными течениями. Потому создает в них абсурдную вселенную, населенную шаманами, революционерами и другими маргиналами. Все так и в «Бардо иль не Бардо», который критики называют одним из самых смешных романов Володина. Смешного в привычном понимании тут, правда, мало: в каждой из семи частей умирает один герой, он попадает в место под названием Бардо, где будет двигаться к своему перерождению — и даже может стать буддой.
Антуан Володин — французский писатель и переводчик с русского — публикует произведения под разными псевдонимами и не желает, чтобы его тексты соотносили с какими-либо литературными течениями. Потому создает в них абсурдную вселенную, населенную шаманами, революционерами и другими маргиналами. Все так и в «Бардо иль не Бардо», который критики называют одним из самых смешных романов Володина. Смешного в привычном понимании тут, правда, мало: в каждой из семи частей умирает один герой, он попадает в место под названием Бардо, где будет двигаться к своему перерождению — и даже может стать буддой. Сборник итальянского писателя Леонардо Шаши посвящен в первую очередь Сицилии — это неудивительно, потому что сам автор родом с этого острова и прожил там большую часть жизни. Однако тексты посвящены не мафиозным разборкам, с которыми принято ассоциировать эти территории, а жизни во время Второй мировой войны, восприятию Америки и СССР у сицилийцев, быту простых итальянцев. Сам Шаша считал Сицилию, вобравшую проблемы не только Италии, но и всей Европы, метафорой мира. Глядя на это из 2017 года, особенно убеждаешься в правоте автора.
Сборник итальянского писателя Леонардо Шаши посвящен в первую очередь Сицилии — это неудивительно, потому что сам автор родом с этого острова и прожил там большую часть жизни. Однако тексты посвящены не мафиозным разборкам, с которыми принято ассоциировать эти территории, а жизни во время Второй мировой войны, восприятию Америки и СССР у сицилийцев, быту простых итальянцев. Сам Шаша считал Сицилию, вобравшую проблемы не только Италии, но и всей Европы, метафорой мира. Глядя на это из 2017 года, особенно убеждаешься в правоте автора. Роман Олега Ермакова — пятисотстраничный сложный и стилистически интересный текст, действие которого происходит в окрестностях Байкала. Один из главных героев — мальчик-эвенк Мальчакитов, тунгус, бегущий от цивилизации, города, промышленности. Его судьбой обеспокоен лесничий Олег Шустов, по случайности не вернувшийся в Смоленск. Эта пара героев дополняется и другими — животными Сибири. У них тоже есть имена, однако это не придает книге сходства со сказкой, а скорее обостряет различия между двумя типа жизни — в городе и на природе.
Роман Олега Ермакова — пятисотстраничный сложный и стилистически интересный текст, действие которого происходит в окрестностях Байкала. Один из главных героев — мальчик-эвенк Мальчакитов, тунгус, бегущий от цивилизации, города, промышленности. Его судьбой обеспокоен лесничий Олег Шустов, по случайности не вернувшийся в Смоленск. Эта пара героев дополняется и другими — животными Сибири. У них тоже есть имена, однако это не придает книге сходства со сказкой, а скорее обостряет различия между двумя типа жизни — в городе и на природе.

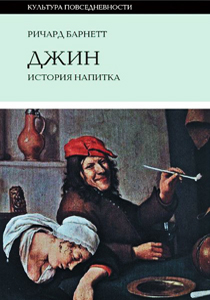


 Московский Центр авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся» и проект «Тогда» начали выпуск книг в серии «Незамеченный авангард». По задумке авторов, каждая книга будет посвящена отдельным малоизвестным памятникам московского авангарда. Первый выпуск серии был посвящен Купальне-бане Рогожско-Симоновского района и стал победителем национального конкурса книжного дизайна «Жар-книга». Издание, посвященное Даниловскому Мосторгу, раскрывает историю «самого европейского здания» Москвы 1920-х. Помимо чертежей и редких архивных кадров в книге представлена история советской торговли 1920-x – середины 1930-х годов с воспоминаниями покупателей.
Московский Центр авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся» и проект «Тогда» начали выпуск книг в серии «Незамеченный авангард». По задумке авторов, каждая книга будет посвящена отдельным малоизвестным памятникам московского авангарда. Первый выпуск серии был посвящен Купальне-бане Рогожско-Симоновского района и стал победителем национального конкурса книжного дизайна «Жар-книга». Издание, посвященное Даниловскому Мосторгу, раскрывает историю «самого европейского здания» Москвы 1920-х. Помимо чертежей и редких архивных кадров в книге представлена история советской торговли 1920-x – середины 1930-х годов с воспоминаниями покупателей. Классический труд Владимира Паперного, который на сегодняшний день выдержал уже четыре переиздания, до сих пор остается самым актуальным чтением для всех, кто интересуется советской архитектурой, да и советской культурой в целом. В своем труде, написанном еще в 1970-е годы в качестве диссертации, Паперный вводит в оборот смелую концепцию о культуре 1 и культуре 2. Культура 1 – понятие, которое автор использует, когда говорит о материале 1920-х годов. Культура 2 – понятие, которое описывает период 30–50-х гг. Применяя междисциплинарный подход, Паперный, наряду с архитектурой, анализирует газетные заметки, литературу и кинофильмы.
Классический труд Владимира Паперного, который на сегодняшний день выдержал уже четыре переиздания, до сих пор остается самым актуальным чтением для всех, кто интересуется советской архитектурой, да и советской культурой в целом. В своем труде, написанном еще в 1970-е годы в качестве диссертации, Паперный вводит в оборот смелую концепцию о культуре 1 и культуре 2. Культура 1 – понятие, которое автор использует, когда говорит о материале 1920-х годов. Культура 2 – понятие, которое описывает период 30–50-х гг. Применяя междисциплинарный подход, Паперный, наряду с архитектурой, анализирует газетные заметки, литературу и кинофильмы. Недавно ушедший от нас Селим Хан-Магомедов также давно известен всем любителям советской архитектуры. Доктор искусствоведения и академик архитектуры, долгое время он являлся научным руководителем серии «Творцы авангарда», в которой вышло около 30 изданий. Это небольшие, хорошо оформленные книги, каждая из которых посвящена одному имени: архитектору, дизайнеру или фотографу – всем тем, кто создавал русский авангард. В серии вышли книги о Варваре Степановой, Алексее Гане, Владимире Шухове и многих других. Сложно выделить какое-то одно издание. Они все увлекательнонаписаны и легко читаются – своего рода архитектурный ликбез для начинающих.
Недавно ушедший от нас Селим Хан-Магомедов также давно известен всем любителям советской архитектуры. Доктор искусствоведения и академик архитектуры, долгое время он являлся научным руководителем серии «Творцы авангарда», в которой вышло около 30 изданий. Это небольшие, хорошо оформленные книги, каждая из которых посвящена одному имени: архитектору, дизайнеру или фотографу – всем тем, кто создавал русский авангард. В серии вышли книги о Варваре Степановой, Алексее Гане, Владимире Шухове и многих других. Сложно выделить какое-то одно издание. Они все увлекательнонаписаны и легко читаются – своего рода архитектурный ликбез для начинающих. Эта книга – богато иллюстрированный альбом французского фотографа Фредерика Шобена, изданный в 2011 году, который сложно назвать научным трудом в полном смысле этого слова. Альбом посвящен позднесоветской архитектуре, от брежневской эпохи до периода распада СССР. Всю историю советской архитектуры Шобен делит на три периода. Первый период: авангардная архитектура, вдохновленная энтузиазмом первых послереволюционных лет. Второй период – послевоенной архитектуры – он связывает с монументальными пристрастиями Сталина. Третий период начинается после смерти Сталина, приходится на правление Хрущева с его знаменитым постановлением «Об установлении излишеств в проектировании и строительстве». Здания, которым он посвятил свою книгу, Шобен называет «Четвертой архитектурой». Это заброшенные санатории,старые театры, здания научных институтов, будто вдохновленные мечтой о космосе и новых территориях. В них фотограф видит последний всплеск великой империи.
Эта книга – богато иллюстрированный альбом французского фотографа Фредерика Шобена, изданный в 2011 году, который сложно назвать научным трудом в полном смысле этого слова. Альбом посвящен позднесоветской архитектуре, от брежневской эпохи до периода распада СССР. Всю историю советской архитектуры Шобен делит на три периода. Первый период: авангардная архитектура, вдохновленная энтузиазмом первых послереволюционных лет. Второй период – послевоенной архитектуры – он связывает с монументальными пристрастиями Сталина. Третий период начинается после смерти Сталина, приходится на правление Хрущева с его знаменитым постановлением «Об установлении излишеств в проектировании и строительстве». Здания, которым он посвятил свою книгу, Шобен называет «Четвертой архитектурой». Это заброшенные санатории,старые театры, здания научных институтов, будто вдохновленные мечтой о космосе и новых территориях. В них фотограф видит последний всплеск великой империи. Книга Ирины Чепкуновой посвящена интенсивному периоду возведения в Москве и Подмосковье профсоюзных клубов. Константин Мельников, Илья Голосов, братья Веснины и многие другие архитекторы успели поработать в этом новом для себя жанре. Большинство этих необычных зданий оказались сегодня заброшены. В книге провинциальныеклубы рассматриваются наряду со столичными зданиями в рамках единой системы клубного наследия конца 1920-х годов.
Книга Ирины Чепкуновой посвящена интенсивному периоду возведения в Москве и Подмосковье профсоюзных клубов. Константин Мельников, Илья Голосов, братья Веснины и многие другие архитекторы успели поработать в этом новом для себя жанре. Большинство этих необычных зданий оказались сегодня заброшены. В книге провинциальныеклубы рассматриваются наряду со столичными зданиями в рамках единой системы клубного наследия конца 1920-х годов. Иван Жолтовский был патриархом русской архитектуры, прожившим долгую жизнь. До революции он состоялся как мастер нео-ренессанса и неоклассицизма, в советское время стал одним из старейшин сталинской архитектуры. Трудно себе представить, но он родился через шесть лет после отмены крепостного права, а умер спустя шесть лет после смерти Сталина. Жолтовский пользовался доверием самых высокопоставленных лиц государства от Ленина и Сталина до Хрущева. Он вошел в историю советской архитектуры как самый преданный поклонник АндреаПалладионе только потому, что перевел на русский язык его «Четыре книги об архитектуре», но и потому, что наследовал принципам итальянского архитектора в своем творчестве. Авторы рассказывают, как развивалась карьера Жолтовского, ианализируют причины его возвышения.
Иван Жолтовский был патриархом русской архитектуры, прожившим долгую жизнь. До революции он состоялся как мастер нео-ренессанса и неоклассицизма, в советское время стал одним из старейшин сталинской архитектуры. Трудно себе представить, но он родился через шесть лет после отмены крепостного права, а умер спустя шесть лет после смерти Сталина. Жолтовский пользовался доверием самых высокопоставленных лиц государства от Ленина и Сталина до Хрущева. Он вошел в историю советской архитектуры как самый преданный поклонник АндреаПалладионе только потому, что перевел на русский язык его «Четыре книги об архитектуре», но и потому, что наследовал принципам итальянского архитектора в своем творчестве. Авторы рассказывают, как развивалась карьера Жолтовского, ианализируют причины его возвышения. Журнал «Современная архитектура», заботливо переизданный несколько лет назад, лучше любых книжек поможет проникнуться духом этого странного и загадочного явления – советской архитектуры. Ведь 1920-е годы были не только временем бурного строительства, но и эпохой смелых мечтаний. «Современная архитектура» мыслила себя интернациональным проектом: на обложке красуется название на трех языках: русском, немецком и французском, внутри – статьи об американском строительном хозяйстве соседствуют с фантастическими проектами архитектора Ивана Леонидова.
Журнал «Современная архитектура», заботливо переизданный несколько лет назад, лучше любых книжек поможет проникнуться духом этого странного и загадочного явления – советской архитектуры. Ведь 1920-е годы были не только временем бурного строительства, но и эпохой смелых мечтаний. «Современная архитектура» мыслила себя интернациональным проектом: на обложке красуется название на трех языках: русском, немецком и французском, внутри – статьи об американском строительном хозяйстве соседствуют с фантастическими проектами архитектора Ивана Леонидова.
