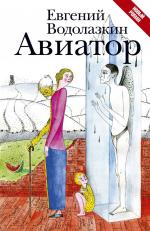Обозреватель «Прочтения» Вера Ерофеева продолжает серию статей, посвященную профориентации детей, рассказом о книгах для юных кулинаров.
Когда у меня родился первый ребенок, из Петербурга была выписана бабушка. Так повелось — для укрепления материнских позиций. Она, человек активный и неэтичный, учила меня не только определять необходимое количество слоев младенческой одежды для прогулки в соотношении с температурой за бортом, но и давала настоятельные рекомендации по поводу моей едва занявшейся супружеской жизни.
Ключевым моментом, ударным слогом этой жизни, в ее учении была встреча мужа с работы. На плите, в одеялке, должен был стоять сытный и экономно приготовленный ужин, а я на низком старте, предварительно позвонив («Ты уже едешь? А когда будешь? А поточнее? Ужин греть?»), прислушиваться к шагам на лестничной клетке. Вот ключ в замке (звонить нельзя — у нас ребенок спит!) — я срываюсь, откидывая задними конечностями комья свежепропылесошенного ковролина и истово цокая подстриженными ногтями (длинные нельзя — у нас ребенок!), мчусь к входной двери, опережая момент открытия. Волосы развиваются, дыхание сбивается от восторга, на пол (свежепротертый) падает прозрачная струйка радостной и чистой слюны. Дальше, приняв портфель и куртку и услужливо подставив тапочки, нужно было продолжить действо на кухне: «Ой, у меня же картошечка стынет/курочка горит! Руки — и за стол!» — причитала молодая хлопотунья, ворочала ухватами хозяюшка…
Так выглядело самоотверженное исполнение супружеского долга в глазах моей бабушки. Но бабушка была активна и неэтична, я юна и вредна — я презирала это все. Отказывалась звонить («Ты где?», «Уже греть?»), саботировала ужин в одеялке и встречу мужа с работы. В ответственный момент у дверей оказывалась только бабушка, а я, вцепившись в книгу, изображала безразличие. Но в конце все выжили: и вредная я, и не чуткий к условностям муж, и даже активная и неэтичная бабушка, и, что немаловажно, брак. И в ретроспективе хочу сказать, что идея с ужином в одеялке была не такой уж провальной. Да что там — отличная была идея. Но потенциал ее был до конца не раскрыт. Если бы ужин был не только: а) горячий б) сытный и в) экономно состряпанный, — можно было бы деформировать сам момент встречи, сместить акцент. Вот двери лифта открываются, и муж, окруженный интригующими запахами пищи уже на лестничной площадке, влеком в квартиру. Отбросив портфель и куртку в прихожей, наскоро помыв руки, он, истекая слюной, переминается у плиты, в глазах — предчувствие и благодарность и предчувствие благодарности. Так можно было бы убить двух зайцев разом: и выполнить долг, и избежать унизительного действа с цоканьем по линолеуму. Но если бы я обучилась этому искусству в возрасте бессознательного, мне не нужно было бы так травматично эволюционировать в своей роли жены и матери.
Тому, какие книги могли бы в этом помочь, посвящен этот обзор.

Дагмар фон Крамм, Ротраут Сузанна Бернер. Большая кулинарная книга Городка. — М.: Самокат, 2015. — 144 с.
Полноценная кулинарная книга, написанная немецким гастрономическим критиком и специалистом по правильному питанию Дагмар фон Крамм и героями книг о Городке Ротраут Сюзанны Бернер, популярность которых трудно переоценить. Как и многотомник о Городке, книга делится на разделы по сезонам. Весной едят зелень, летом — молодой картофель, осенью делают упор на тыкву, зимой — на мясо и рождественское меню. Объемную и богато проиллюстрированную книгу можно с удовольствием рассматривать и читать и в отрыве от кухни.

Свен Нурдквист, Кристин Самуэльсон. Готовим вместе с Петсоном и Финдусом. — М.: Издательство «Белая ворона», 2015. — 56 с.
Еще одна книга рецептов для фанатов Нурдквиста и его героев — Петсона и Финдуса. Так же поделенная на сезоны, она представляет традиционные скандинавские блюда (вроде черничного пирога, киселя и имбирного печенья), собранные бывшим главредом «Gourmet» и автором путеводителя по датской кухне Кристин Самуэльсон. Каждому рецепту предшествует отрывок из серии книг про старика и котенка или короткие побасенки по теме.

Гелия Певзнер, Мария Марамзина. Варенье Нострадамуса. — М.: Арт-Волхонка, 2015. — 72 с.
Тот самый Нострадамус — средневековый мистик, предсказатель, врач и ученый — был знаменит среди своих современников тем, что варил роскошное варенье, например из тыквы и смородины. Книга, проиллюстрированная Татьяной Никитиной и Ольгой Золотухиной, рассказывает о трагической жизни Мишеля де Ностредама, о его борьбе с чумой, поисках эликсира долголетия и отношениях с Екатериной Медичи и включает в себя переведенные со старофранцузского рецепты Нострадамуса. Точнее, те из них, которые можно повторить и сегодня. Эта книга открывает серию издательства «Арт-Волхонка» — «Из истории еды».

Димитри Делма, Гийом Рейнар. Вкусная история. — М.: Пешком в историю, 2016. — 64 с.
В этой книге, предисловие к которой написала историк Светлана Яцык, рассказывается о том, как на нашем столе появились бананы и кофе, перец и чай, какао и картофель — продукты, без которых трудно представить современную кухню. Кто и когда их привез в Европу, благодаря чему это стало возможно (например, благодаря тому, что новый тип кораблей — каравеллы — мог идти против ветра!). Всего одиннадцать драматических и полных сюрпризов историй.

Ларс Клинтинг. Кастор печет пирог. — М.: Издательство «Мелик-Пашаев», 2015. — 36 с.
Московское издательство «Мелик-Пашаев» перевыпустило популярную серию книг о бобре Касторе. По-скандинавски сдержанный, приветливый, терпеливый одинокий бобер средних дает уроки домоводства своему младшему товарищу Фриппе. Он шьет, клеит, красит, чинит велосипед, выращивает фасоль и, в частности, печет пирог. Книга эта, как и другие из серии, обладает ярко выраженным терапевтическим эффектом, объяснить природу которого сложно. На каждой странице — подробное описание процесса в картинках, которое будет понятно даже нечитающему кулинару.