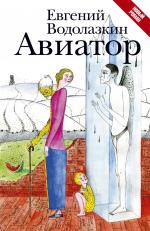Евгений Водолазкин. Авиатор. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 416 с.
В апреле в Редакции Елены Шубиной выходит роман лауреата премии «Большая книга» Евгения Водолазкина. «Авиатор», без сомнений, является одной из самых ожидаемых книг 2016 года.
В центре повествования — человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счётом ничего — ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре — 1999 год?..
— Что вы всё пишете?
— Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.
— Мир Божий слишком велик, чтобы рас- считывать здесь на успех.
— Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, частицу этого мира… Хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк.
— Например?
— Например, авиатор.
Разговор в самолете
Часть первая
Говорил ей: в холода носи шапку, иначе отморозишь уши. Посмотри, говорил, сколько сейчас прохожих без ушей. Она соглашалась, мол, да-да, надо бы, но не носила. Смеялась над шуткой и продолжала ходить без шапки. Такая вот картинка всплыла в памяти, хотя о ком здесь идет речь — ума не приложу.
Или, допустим, вспомнился скандал — безобразный, изнурительный. Непонятно где разыгравшийся. Обидно то, что начиналось общение хорошо, можно сказать, доброжелательно, а потом слово за слово все переругались. Главное, самим же потом стало удивительно — почему, зачем?
Кто-то заметил, что часто так бывает на поминках: часа полтора говорят о том, каким покойник был хорошим человеком. А потом кто-то из пришедших вспоминает, что был покойник, оказывается, не только хорошим. И тут, как по команде, многие начинают высказываться, дополнять — и мало-помалу приходят к выводу, что был он, вообще-то, первостатейным мерзавцем.
Или совсем уж фантасмагория: кому-то дают по голове куском колбасы, и вот этот человек катится по наклонной плоскости, катится и не может остано- виться, и от этого качения кружится голова…
Моя голова. Кружится. Лежу на кровати.
Где я?
Шаги.
Вошел неизвестный в белом халате. Стоял, положив руку на губы, смотрел на меня (в дверной щели еще чья-то голова). Я же, в свою очередь, смотрел на него — не открываясь как бы. Из-под неплотно сомкнутых ресниц. Он заметил их дрожание.
— Проснулись?
Я открыл глаза. Приблизившись к моей кровати, неизвестный протянул руку:
— Гейгер. Ваш врач.
Я вытащил из-под одеяла правую руку и почувствовал бережное рукопожатие Гейгера. Так касаются, когда боятся сломать. На мгновение он оглянулся, и дверь захлопнулась. Не отпуская моей руки, Гейгер наклонился ко мне:
— А вы — Иннокентий Петрович Платонов, не так ли?
Я не мог этого подтвердить. Если он так говорит, значит, имеет на то основания. Иннокентий Петрович… Я молча спрятал руку под одеяло.
— Вы ничего не помните? — спросил Гейгер.
Я покачал головой. Иннокентий Петрович Платонов. Респектабельно. Немного, может быть, литературно.
— Помните, как я сейчас подошел к кровати? Как назвал себя?
Зачем он так со мной? Или я действительно совсем плох? Выдержав паузу, говорю скрипуче:
— Помню. — А до этого?
Я почувствовал, как меня душат слезы. Они вырвались наружу, и я зарыдал. Взяв с прикроватного столика салфетку, Гейгер вытер мне лицо.
— Ну что вы, Иннокентий Петрович. На свете так мало событий, о которых стоит помнить, а вы расстраиваетесь.
— Моя память восстановится?
— Очень на это надеюсь. У вас такой случай, что ничего нельзя утверждать наверное. — Он поставил мне градусник. — Знаете, вы вспоминайте побольше, здесь важно ваше усилие. Нужно, чтобы вы сами всё вспомнили.
Вижу волосы в носу Гейгера. На подбородке царапины после бритья.
Спокойно смотрит на меня. Высокий лоб, прямой нос, пенсне — будто кто-то его нарисовал. Есть лица настолько типичные, что кажутся выдуманными.
— Я попал в аварию?
— Можно сказать и так. В открытой форточке воздух палаты смешивается с зимним воздухом за окном. Становится мутным, дрожит, плавится, и вертикальная планка рамы сливается со стволом дерева, и ранние сумерки — где-то я уже это видел. И влетающие снежинки видел. Тающие, не долетев до подоконника… Где?
— Я ничего не помню. Только мелочи какие-то — снежинки в больничной форточке, прохлада стекла, если к нему прикоснуться лбом. Событий — не помню.
— Я бы мог вам, конечно, напомнить что-то из происходившего, но жизнь во всей полноте не перескажешь. Из вашей жизни я знаю только самое внешнее: где вы жили, с кем имели дело. При этом мне неизвестна история ваших мыслей, ощущений — понимаете? — Он вытащил у меня из под- мышки градусник. — 38,5. Многовато. Понедельник
Вчера еще не было времени. А сегодня — понедельник. Дело было так. Гейгер принес карандаш и толстую тетрадь. Ушел. Вернулся с подставкой для письма.
— Всё, что произошло за день, записывайте. И всё, что из прошлого вспомните, тоже записывайте. Этот ежедневник — для меня. Я буду видеть, как быстро мы в нашем деле продвигаемся.
— Все мои события пока что связаны с вами. Значит, писать про вас?
— Abgemacht. Описывайте и оценивайте меня всесторонне — моя скромная персона потянет за собой другие нити вашего сознания. А круг вашего общения мы будем расширять постепенно.
Гейгер приладил подставку над моим животом. Она печально приподнималась с каждым моим вздохом, словно сама вздыхала. Гейгер поправил. Открыл тетрадь, вставил мне в пальцы карандаш — что, вообще говоря, лишнее. Я хоть и болею (спрашивается — чем?), но руками-ногами двигаю. Что, собственно, записывать — ничего ведь не происходит и ничего не вспоминается.
Тетрадь огромная — хватило бы для романа. Я кручу в руке карандаш. Чем же я все-таки болею? Доктор, я буду жить?
— Доктор, какое сегодня число?
Молчит. Я тоже молчу. Разве я спросил что-то неприличное?
— Давайте так, — произносит наконец Гейгер. — Давайте вы будете указывать только дни недели. Так мы легче поладим со временем.
Гейгер — сама загадочность. Отвечаю: — Abgemacht. Смеется. А я взял и записал всё — за вчера и за сегодня.
Вторник
Сегодня познакомился с сестрой Валентиной. Стройна. Немногословна.
Когда она вошла, прикинулся спящим — это уже входит в привычку. Потом открыл один глаз и спросил:
— Как вас зовут?
— Валентина. Врач сказал, вам нужен покой.
На все дальнейшие вопросы не отвечала. Стоя спиною ко мне, драила шваброй пол. Торжество ритма. Когда наклонялась, чтобы прополоскать в ведре тряпку, под халатом проступало ее белье. Какой уж тут покой…
Шучу. Сил — никаких. Утром мерил температ ру — 38,7, Гейгера это беспокоит.
Меня беспокоит, что не получается отличать воспоминания от снов.
Неоднозначные впечатления сегодняшней ночи. Лежу дома с температурой — инфлюэнца. Бабушкина рука прохладна, градусник прохладен. Снежные вихри за окном — заметают дорогу в гимназию, куда я сегодня не пошел. Там, значит, дойдут на перекличке до «П» (скользит по журналу, весь в мелу, палец) и вызовут Платонова.
А Платонова нет, докладывает староста класса, он остался дома в связи с инфлюэнцей, ему, поди, «Робинзона Крузо» читают. В доме, возможно, слышны ходики. Бабушка, продолжает староста, прижимает к носу пенсне, и глаза ее от стекол велики и выпуклы. Выразительная картинка, соглашается учитель, назовем это апофеозом чтения (оживление в классе).
Суть происходящего, говорит староста, если вкратце, сводится к следующему. Легкомысленный молодой человек отправляется в морское путешествие и терпит кораблекрушение. Его выбрасывает на необитаемый остров, где он остается без средств к существованию, а главное — без людей. Людей нет вообще. Если бы он с самого начала вел себя благо- разумно… Я не знаю, как это выразить, чтобы не впасть в менторский тон. Такая как бы притча о блудном сыне.
На классной доске (вчерашняя арифметика) уравнение, доски пола хранят влагу утренней уборки. Учитель живо представляет себе беспомощное барахтанье Робинзона в его стремлении достичь берега. Увидеть катастрофу в ее истинном размахе ему помогает картина Айвазовского «Девятый вал». Молчание потрясенного учителя не прерывается ни единым возгласом. За двойными рамами едва слышны колёса экипажей.
Я и сам нередко почитывал «Робинзона Крузо», но во время болезни не очень-то почитаешь. Резь в глазах, строки плывут. Я слежу за бабушкиными губами. Перед тем как перевернуть страницу, она подносит к губам палец. Иногда прихлебывает остывший чай, и тогда на «Робинзона Крузо» летят едва заметные брызги. Иногда — крошки от съеденного между главами сухаря. Выздоровев, я внимательно перелистываю прочитанное и вытряхиваю хлебные частицы, высохшие и сплющенные.
— Помню много разных мест и людей, — сообщил я, волнуясь, Гейгеру, — помню какие-то высказывания. Но хоть убей — не помню, кто именно какие слова произносил. И — где.
Гейгер спокоен. Он надеется, что это пройдет. Он не считает это существенным.
А может, это и вправду несущественно? Может, имеет значение только то, что слова были произнесены и сохранились, а уж кем и где — дело десятое? Надо будет спросить об этом у Гейгера — он, кажется, всё знает.
Среда
А бывает и так: слова не сохранились, но картинка — в совершенной целости. Сидит, например, человек в сумерках. В комнате уже полумрак, а он всё не включает света — экономит, что ли? Скорбная неподвижность. Локоть упирается в стол, лоб покоится на ладони, мизинец на отлете. Даже в темноте видно, что одежда его в складках, вся бурая такая до бесцветности, и одним белым пятном лицо и рука. Человек как бы в задумчивости, хотя на самом деле ни о чем и не думает, просто отдыхает. Может, даже говорит что-то, только слов не слышно. Мне, собственно, его слова неважны, да и с кем ему говорить — с самим собою? Он ведь не знает, что я за ним наблюдаю, а если что и говорит, то не мне. Шевелит губами, смотрит в окно. Капли на стекле отражают свечение улицы, переливаются огнями экипажей. Форточка скрипит.
До сих пор я видел в палате лишь двух человек — Гейгера и Валентину. Врач и медсестра — а кто еще, собственно, нужен? Собрался с силами, встал, подошел к окну — во дворе пусто, снег по колено. Один раз, держась за стенку, вышел из палаты в коридор — тут же появилась Валентина: у вас постельный режим, вернитесь в палату. Режим…
Кстати: оба выглядят старорежимно. Гейгер если не в халате, так обязательно в тройке. Напоминает Чехова… Я-то всё думал — кого он мне напоминает? Чехова! Еще и пенсне носит. Из ныне живущих пенсне я видел, по-моему, только у Станиславского, но тот — человек театра… Впрочем, я бы сказал, что в лечащей меня паре есть какая-то театральность. Валентина — вылитая сестра милосердия военного времени. 1914-й. Уж не знаю, как они отнесутся к моему впечатлению — Гейгер ведь это прочтет, так мы условились. В конце концов, он сам просил меня писать без утайки всё, что замечаю, вспоминаю, думаю, — пожалуйста, я так и пишу.
Сегодня у меня сломался грифель, сказал об этом Валентине. Она из кармана достает что-то вроде карандаша, протягивает мне.
— Забавно, — говорю, — металлический грифель, никогда не видел такого.
Валентина покраснела и быстро забрала у меня эту штуку обратно. Принесла потом другой карандаш. Отчего она покраснела? В туалет меня водит, для уколов кальсоны с меня стягивает — не краснеет, а тут карандаш, видите ли. В моей жизни сейчас масса мелких загадок, которые я не в силах разгадывать… Но краснеет она очаровательно, до кончиков ушей. Уши — тонкие, изящные. Вчера, когда слетела ее белая косынка, я ими любовался. Точнее, одним. Валентина наклонилась над лампою, спиной ко мне, и ухо ее розово просвечивало, хотелось прикоснуться. Не посмел. Да и сил не было.
Странное какое-то ощущение, будто лежу на этой койке целую вечность. Пошевелю рукой или ногой — боль в мышцах, а уж если встану без посторонней помощи — ноги как ватные. Зато температу- ра чуть снизилась — 38,3. Спрашиваю у Гейгера:
— Так что же со мной все-таки случилось?
— Это, — отвечает, — вы сами должны вспомнить, иначе ваше сознание заменится моим. Разве вы этого хотите?
А я и сам не знаю, хочу ли я этого. Может, у меня окажется такое сознание, что лучше бы его заменить.
Пятница
К вопросу о сознании: я его вчера терял. Гейгер с Валентиной сильно перепугались. Очнувшись, видел их опрокинутые лица — похоже, им было бы жаль меня потерять. Приятно, когда по какой-то причине в тебе нуждаются, — даже если эта причина не личная, а чистое, так сказать, человеколюбие. Весь вчерашний день Гейгер не возвращал мне мои листы. Боялся, видимо, что накануне я в своих писаниях перенапрягся. Я лежал, следил за тем, как падали хлопья снега за окном. Следя, заснул. Проснулся — хлопья всё еще падали.
У моей постели сидела на стуле Валентина. Влажной губкой вытерла мне лоб. Поцелуй, хотел сказать я, поцелуй меня в лоб. Не сказал. Потому что получилось бы, что она вытирала мой лоб, прежде чем поцеловать. Да и вообще — понятно, кого в лоб целуют… А вот взял ее за руку — не отняла. Только положила наши соединенные руки мне на живот, чтобы не держать на весу. Ее ладонь покрывала мою кисть домиком — так учат держать руку при игре на фортепиано. Вероятно, меня тоже учили когда-то, если я знаю такие вещи. Перевернув руку, указательным пальцем я провел по потолку этого домика и ощутил, как он вздрогнул, распался, растекся по моей ладони. И я ощутил его тепло.
— Лягте рядом со мной, Валентина, — попросил я. — У меня нет дурных мыслей, и я совершенно безопасен — вам это известно. Мне только нужно, чтобы рядом со мною кто-то был. Совсем рядом, иначе я никогда не согреюсь. Я не могу этого объяснить, но это так.
Я с усилием подвинулся на широкой кровати, и Валентина легла рядом со мной — поверх одеяла. Я был уверен, что она выполнит мою просьбу, — сам не знаю почему. Наклонила голову к моей голове. Я вдыхал ее запах — настой глаженого, крахмального, белоснежного в соединении с ароматом духов и юного тела. Она делилась этим со мной, а я не мог надышаться. В открывшейся двери показался Гейгер, но Валентина осталась лежать. Что-то в ней напряглось (я это чувствовал), но не встала. Она, наверное, покраснела — не могла не покраснеть.
— Очень хорошо, — сказал, не входя, Гейгер, — отдыхайте.
Замечательная по-своему реакция.
Вообще-то, я не собирался этого описывать, это не меня одного касается, но раз уж он всё видел… Пусть Гейгер правильно поймет суть происходящего (да он, конечно, и так понимает). Я хочу, чтобы это повторялось — хоть по нескольку минут в день.
Воскресенье
Проснувшись, прочел мысленно «Отче наш». Оказалось, молитву воспроизвожу без запинки. Я, бывало, по воскресеньям, если не мог пойти в церковь, хотя бы «Отче наш» про себя читал. Шевелил губами на влажном ветру. Я жил на острове, где посещение служб не было делом само собой разумеющимся. И остров не то чтобы необитаемый, и храмы стояли, но так как-то всё сложилось, что посещать их было непросто. Подробностей сейчас уже и не вспомнишь.
Церковь — большая радость, особенно в детстве. Маленький, значит, держусь за юбку матери. Юбка под полушубком длинная, по полу шуршит. Мать ставит свечу к иконе, и юбка чуть приподнимается, а с ней — моя в варежке рука. Берет меня осторожно, подносит к иконе. Поясницей чувствую ее ладони, а мои валенки и варежки свободно перемещаются в воздухе, и я как бы парю в направлении иконы. Подо мною десятки свечей — праздничные, колеблются, — я смотрю на них и не могу отвести от этой яркости взгляда. Потрескивают, воск с них стекает, застывая тут же причудливыми сталактитами. Навстречу мне, распахнув руки, Матерь Божья, и я целую Ее в руку неловко, потому что полет мой не мной управляем, и, поцеловав, прикасаюсь, как положено, лбом. На мгновение чувствую прохладу Ее руки. И вот так я парю себе в церкви, проплываю над священником, машущим кадилом, — сквозь ароматный дым. Над хором — сквозь его песнопения (замедленные взмахи регента и его же гримасы на высоких нотах). Над старухой свечницею и заполнившим храм (обтекая столпы) народом, вдоль окон, за которыми заснеженная страна. Россия? У неплотно прикрытой двери зримо клубится стужа, на ручке — иней. Щель резко расширяется, в возникшем прямоугольнике — Гейгер.
— Доктор, мы ведь в России? — спрашиваю.
— Да, некоторым образом. Обрабатывает мне руку для капельницы.
— Тогда почему вы — Гейгер?
Он смотрит на меня удивленно:
— Потому что я русский немец. Deutschrusse. А вы волновались, что мы в Германии?
Нет, не волновался. Просто теперь я могу считать, что точно знаю наше местоположение. До сегодняшнего дня оно было, в сущности, не очень понятно.
— А где сестра Валентина?
— У нее сегодня выходной.
Поставив капельницу, Гейгер измеряет мне температуру. 38,1.
— И что, — интересуюсь, — нет других сестер?
— Вы ненасытны.
А мне другая сестра не нужна. Я только не понимаю, что это за учреждение такое, где один врач, одна сестра и один пациент. Что ж, в России всё возможно. В России… Распространенная, должно быть, фраза, если сохранилась даже в моей разрушенной памяти. Есть в ней свой ритм. Не знаю, что за этим стоит, а фразу вот помню.
Таких неизвестно откуда всплывших фраз у меня уже несколько. У них есть, наверное, своя история, а я произношу их как в первый раз. Чувствую себя Адамом. Или ребенком: дети часто произносят фразы, еще не зная их смысла. В России всё возможно, м-да. Есть в этом осуждение, что ли, даже приговор. Чувствуется, что это какая-то нехорошая безграничность, что всё направится известно в какую сторону. В какой мере эта фраза касается меня?
Подумав, сообщаю фразу Гейгеру как немцу и прошу ее оценить. Слежу за движением губ его и бровей — так пробуют вино. Он шумно вдыхает, словно для ответа, но после паузы — так же шумно выдыхает. Как немец, он решил промолчать — чтобы, допустим, не травмировать меня. Вместо этого просит меня показать язык, что, на мой взгляд, по-своему оправданно. Мой язык действует еще в значительной степени самостоятельно: произносит то, что привык произносить, как это бывает у говорящих птиц. Видимо, Гейгер всё понял про мой язык и просит его показать. Когда я показываю, качает головою. Не радует его мой язык.
Подойдя к двери, Гейгер оборачивается:
— Да, вот еще… Если вам хочется, чтобы сестра Валентина лежала рядом — даже, допустим, под одним с вами одеялом, — говорите, не стесняйтесь. Это нормально.
— Сами знаете, что она в полной безопасности.
— Знаю. Хотя, — он щелкнул пальцами, — в России ведь всё возможно, а?
В данный момент — не всё… Чувствую это как никто другой.
Пятница
Все эти дни не было сил. Их и сегодня нет. В голове крутится странное: «Авиатор Платонов». Тоже — фраза?
Спрашиваю у Гейгера:
— Доктор, я был авиатором?
— Насколько мне известно — нет…
* Договорились (нем.).