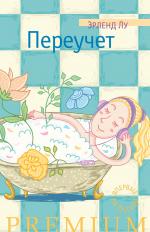- Линор Горалик. Это называется так (короткая проза). — М.: Dodo Magic Bookroom, 2014. — 384 с.
Описывая содержание одной из своих повестей, Линор Горалик, финалистка премии «НОС» 2014 года, как-то сказала, что это «фольклор, собранный в аду». Для прозы, включенной в сборник «Это называется так», — а в него входят циклы «Короче:» и «Говорит:», повести «Валерий» и «Вместо того» и пьеса «Свидетель из Фрязино» — это определение подходит как нельзя кстати.
Циклы жизненных оксюморонов «Короче:» и «Говорит:» становятся воплощением феномена короткой прозы. В очень небольшой промежуток времени — в текстовом эквиваленте: от нескольких строк до нескольких страниц — укладывается сильное впечатление. От такого концентрата и смеешься громче, и плачешь горше. Отличие этих циклов друг от друга — в способе подачи информации.
«Говорит:» построен на имитации спонтанной речи. Для него ведущим приемом становится сказовая манера повествования. Каждая зарисовка начинается с диалогового тире и отточия, символизирующих существование этих текстов в более широком контексте. Линор просто придумывает отрывки из диалогов, которые так никогда и не прозвучали, изредка опираясь на чьи-то слова, произнесенные в реальности. Впечатление от цикла такое же, как от фильма Бориса Хлебникова «Пока ночь не разлучит»: наша жизнь — это фарс, наша жизнь — это фарш.
В «Короче:» главным средством выразительности является предельная детальность изображения. Этот цикл составляет девяносто один маленький рассказ, у каждого из которых есть название и повествователь; и зачастую именно его манера вызывает ощущение постороннего, отстраненного наблюдения, но при этом проникновения во все разговоры и чувства героя.
Уже потом, в раю, им довелось побеседовать о том, имело ли это смысл, и по всему получалось, что — нет, не имело.
Подобные высказывания вызывают у каждого исключительно личные воспоминания и приближаются к стихам, имеющим такой же механизм воздействия: текст опирается не на содержание, а на переживание этого содержания. Если рассматривать рассказы с формальных позиций, например сюжета, то суть всего сборника сведется к описанию какого-то бессердечного бреда. На самом же деле литературу более человеческую, чем у Линор Горалик, надо еще поискать. Это становится понятно, когда вдруг тоскливо засосет под ложечкой: вроде и люди дурные, и ведут себя безобразно, а все равно жалко их всех до невозможности. Оттого эту прозу так сложно читать, что она строится на бесконечном парадоксе малой формы и большого содержания, сюжетов триллера и переживаний драмы, грустного и веселого — из огня да в полымя — в соседних текстах. От подобного авторского блицкрига дух захватывает.
–…в общем, пятнадцать лет. То есть она ходила еще в high school. А у них как раз начали преподавать старшим классам Safe Sex and Sexual Health, когда она на седьмом месяце была. И всем — и девочкам, и мальчикам, — надо было носить с собой куклу круглые сутки, чтобы понять, что такое ответственность за ребенка. Вот она и носила — в одной руке живот свой, в другой куклу.
Мир, выжатый до театра абсурда, — это и есть декорации к книге Горалик. Но если у театра абсурда своя особенная, по специальным законам построенная вселенная, в которую читателю-зрителю нужно погрузиться, то у Горалик реальность та же, что за окном. Дистанция сокращена до минимума, поэтому сознанию приходится вынести удар даже большей силы, чем при знакомстве с творчеством абсурдистов. Это бесконечная жизнь на грани нервного срыва.
–…когда он меня любил, я не ревновала, а когда не любил — ревновала. Начинала звонить ему, доставать себя и его, пока один раз за мной скорая не приехала.
Короткая проза Линор Горалик удобна в употреблении: перечитывание не отнимет много времени. По ее книгам можно отследить степень собственного взросления и развития: непонятное через несколько лет неожиданно разъяснится, а в прежде абсолютно конкретных зарисовках обнаружатся новые коннотации. Это очень плотные и насыщенные тексты, даже тесные: от них сложно убежать, но если не сделать этого вовремя, возможна передозировка. Частое сердцебиение, головная боль, слезоточивость — таковы симптомы, сопровождающие чтение текстов Горалик.
Повесть «Валерий» объемом чуть более полусотни страниц, например, лучше читать в течение месяца, не меньше; никто ведь не хочет сойти с ума преждевременно. Не стоит предпринимать и марш-бросок по всему сборнику: «Вместо того (военная повесть)» и «Свидетель из Фрязино (пьеса, задуманная как либретто оперы)» провоцируют не самые патриотические мысли о сущности войны и ежегодных государственных праздников. Каждый элемент этого сборника самоценен, поэтому перемешивание всего и сразу противопоказано.
Иногда перед демонстрацией некоторых объектов современного искусства делают предупреждение: «Беременным женщинам, особо впечатлительным лицам, а также людям с неустойчивой психикой вход запрещен». На обложке этой книги стоило бы поместить подобную надпись — во избежание несчастных случаев.
Метка: Современная литература
Евгений Шкловский. Точка Омега
- Евгений Шкловский. Точка Омега.— М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 400 с.
В издательстве «НЛО» вышел новый сборник прозы писателя и литературного критика Евгения Шкловского. В центре внимания автора человек, ищущий себя в бытии, во времени, в самом себе, человек на грани чего-то иного даже в простых житейских ситуациях… Реалистичность и фантасмагория, драматизм и ирония создают в «Точке Омега» причудливую атмосферу полусна-полуяви, где ясность и четкость картинки лишь подчеркивают непредсказуемость жизни.
Поющая душа
1 Я вижу, как она плачет.
Плачет, вытирает глаза то платочком, то тыльной стороной ладони, низко наклоняет голову, стесняясь своего
плача. Интересно все-таки устроен человек. Кто бы мог
подумать, что завяжется такая ниточка, протянется через годы и страны, через… Даже трудно сказать, через
что… Впрочем, если угодно, то и через смерть, и через
пустоту…Мне видится тьма, изредка разрываемая звездными
сполохами, туманная млечность, и внезапно — круг ослепительного света, как на сцене, когда тебя выхватывает
из темноты мощный луч юпитера и ты один на один
с замершим залом, пока еще почти не различимым. Уже
прозвучали первые аккорды, уже родилась мелодия, ты
с волнением готовишься взять первую ноту, разорвать эту
набухшую тишину… Связки напряглись, откуда-то из глубины на двигается, нарастает первый, самый важный, самый
главный звук, которому назначено отдернуть завесу, опрокинуть плотину немоты, осенить, покорить пытающуюся
жить самостоятельно музыку. Слиться с ней, чтобы вместе
сотворить чудо гармонии.Музыка — не от мира, а человеческий голос — прорыв
туда, в запредельное, полет в стратосферу, в неизведанные пространства, которые вдруг оказываются близкими
и одушевленными.Да, голос в согласии с музыкой способен творить чудеса.
Я видел это, еще когда пел в нашей маленькой синагоге
в Черновцах. Лица прихожан буквально преображались —
столько в них появлялось нового, трогательного, возвышенного, печаль перемежалась с надеждой, радость
с грустью, глаза загорались любовью… Люди становились
нежными и кроткими, как ягнята, а то вдруг в их лицах
возникали алые отблески пламени — не того ли самого,
каким вспыхнул перед Моисеем терновый куст, сполохи
огненного столпа, что вел ночью народ Израилев через
пустыню из египетского плена?Добро бы еще она слышала мое пение в реальном исполнении — без шорохов, потрескиваний и прочих изъянов
старой записи. Только в живом голосе первозданная чистота и глубина, только в нем можно расслышать душевную самость, которая доверчиво и страстно открывается миру.Увы, время нанесло на звук свою окалину. Но эта женщина слышит. Душа слышит душу даже через время и не-бытие, не это ли и есть прообраз вечной жизни, ее отсвет
для тех, кто еще влачит земное существование?Впрочем, не так. Не влачит — живет! В этом слове кроется великая и сладчайшая тайна. Жизнь, какая ни есть,
так ненадолго дарованная человеку, — прекрасна. Я это
понял, впервые услышав музыку и ощутив прилив звука
к горлу, звука, который должен был стать и стал песней.
Только жизнь, только явь и свет! Даже когда музыка печальна и исторгает слезы, а песнь вторит ей тоскующими,
безысходными словами, этот свет все равно пробивается,
окрыляет душу, уносит ее в те волшебные сферы, где над
всем торжествуют великое «есмь» и великое «да».Не знаю, что уж произошло у этой женщины, но в том
крохотном зальце в гигантском незнакомом городе, где
мне не привелось побывать, среди немногих собравшихся послушать записи моих выступлений она выглядела
растерянной. Судя по всему, она оказалась здесь впервые.
Видимо, ей нужно было куда-то выйти из своего одиночества, оторваться от семейных или каких-то других неурядиц, просто побыть среди людей.Возможно, она уже кое-что слышала про эти музыкальные лекции, да и не столь важно. Ну что ей до моей так
и несложившейся жизни, до всех моих удач и поражений,
которых было гораздо больше и которые, покатившись
снежной лавиной, в конце концов слились в одну-единственную, все обрушившую катастрофу? Что ей до нее?Впрочем, это я так, пустое брюзжание. На самом
деле тут-то, возможно, и кроется загадка человеческой
души — в способности раскрываться и откликаться навстречу далекому, принимать его в себя поверх всяких
барьеров. Конечно, музыка — великая вещь, в основном
это ее заслуга. Ну и, не буду скромничать, мой голос тоже
чего-то стоил, им восхищались многие, с нетерпением
ждавшие моих выступлений, готовые за любые деньги
покупать билеты на концерты, даже не раз смотревшие
жалкие (сам это понимаю) фильмы с моим участием.Воистину неисповедимы пути. Робко ступает она на порог Еврейского общинного дома. Что делает здесь эта крещеная православная русская? Она поднимается по широкой
лестнице на третий этаж в читальный зал библиотеки, она
спрашивает у худощавой приветливой библиотекарши
материалы не о ком-нибудь, а обо мне.Ей мало слушать записи. Ей хочется побольше узнать:
каким я был, как жил, чему отдавал предпочтение? Про все,
что сопровождает нас в земных странствиях. Голос трудно
отделить от человека. Не значит ли это, что и в самом певце,
в глубинах его существа кроется первоисточник? Вроде как
и сама личность должна быть какой-то необыкновенной.Еще одна иллюзия.
Но ведь откуда-то же берется в этом голосе, в его
тембре, в его поразительных модуляциях, в его объемности, силе и свободе нечто, к физиологии не имеющее
отношения?А может, она хочет ближе узнать мою религию, почувствовать мою веру, где, помимо природной одаренности, как
она предполагает, таятся ключи к моей певческой уникальности. Она хочет узнать ближе нашего Б-га, хотя разве Он
только наш?А был ли я таким уж верующим? Не знаю. Моей верой
была музыка, в самые лучшие, самые вдохновенные минуты, когда душа вся растворялась в пении (тоже своего
рода транс), когда буквально сгораешь в охватившем тебя
пламени и вправду ощущаешь себя в единении с чем-то
великим и непостижимым.Незабываемое, неповторимое переживание, которое
хочется длить и длить сколько хватит сил! И откуда-то эти
силы берутся, словно их черпаешь из какого-то поистине
чудесного кладезя.Наверно, это состояние может передаваться, заражать
других. Женщины вообще эмоциональней, чувствительней,
восприимчивей к такого рода вещам. Она же способна слушать мое пение бесконечно — возясь на кухне, пришивая
оторвавшуюся пуговицу, занимаясь привычными обыденными делами. Или, наоборот, замерев и закрыв глаза,
словно что-то видит там, в облаках своих чувств и мыслей.
Лица ее в эти минуты будто касается луч солнца.Кто-то скажет: типичный фанатизм, кто-то усомнится
в правильности такого слушания — ведь музыка требует
определенного настроя, внутреннего сосредоточения.И тем не менее.
2 Голосом природа действительно одарила меня редкостным. Знатоки сравнивали с самыми великими певцами,
но, увы, при этом я был лишен прочих далеко не лишних
качеств. Маленький рост и вообще невзрачность отняли
у меня возможность петь в опере — несколько спектаклей,
и всё, а ведь я обожал оперу, восхищался знаменитыми
певцами, мечтал петь на сцене…Не сложилось.
Продюсеры и режиссеры, отдавая должное моим уникальным вокальным данным, так и не смогли преодолеть
диктата зрелищности. Не подходил я им. Утешением стали
сольные концерты и, конечно, радио, при, увы, тогдашнем
акустическом несовершенстве.И все-таки я познал вкус славы, хотя, честно говоря, не
очень к этому стремился. Конечно, любой артист жаждет
признания, настоящего, безраздельного. А чего больше
всего мог хотеть низкорослый некрасивый еврей из провинциального захолустья? Еврей, запуганный историей
своего богоизбранного народа, народа-изгоя, постоянно
опасающийся очередного унижения или даже зверства.
Тошнотный, тлетворный дух кровавых кишиневских погромов еще носился в воздухе — об этом помнили и те, кто
слушал мое пение в черновицкой синагоге, где все начиналось, помнили и забывали, молились и черпали забвение.
Голос уводил их в другой, чудный мир. Страх и отчаянье
отступали.А мне, мне тоже хотелось, может, даже и не признания…
просто — любви. Да, именно любви, большой, безраздельной, самопожертвенной. Такой, какую может дать, наверно,
только женщина. Или любовь Б-га, но не суровая ветхо-
заветная, а кроткая и всепрощающая. Такая, для которой
несть ни эллина, ни иудея.Влекло и другое — мысль, что мой голос, этот бесценный и, увы, преходящий, как все смертное, дар, принадлежит не только мне, что он нужен другим, жаждущим
преображения, причащения чему-то высшему.В какое-то мгновение помстилось, а, впрочем, возможно, именно так и было: вся Германия, родина великой
музыки и великих музыкантов, утонченная ценительница
искусств, у моих ног. Взыскательный Берлин, где я появился незваный-непрошеный, сдался, уступил. Музыка
сама по себе страсть, а с голосом она больше, чем страсть,
она — молитва.Да, был миг, когда так и показалось: мой голос, мое пение зажгли пламя в душах слушателей, в нем должны были
расплавиться все различия между людьми — здоровыми,
больными, немцами, евреями, поляками, русскими… Одна
общая человеческая душа — возвышенная, прекрасная,
какая только и могла быть угодна Б-гу. Только такая и способна исполнить свое предназначение.Увы, как же я заблуждался!
Ходил слух, что мое пение слушал даже главный изверг,
сумевший погрузить сытую, благополучную Европу в мрак
и хаос. Он еще только подбирался к власти, только раскидывал свою паутину, еще только варил в своем дьявольском
котле ядовитый дурман.Между тем уже нельзя было петь ни на сцене, ни на
радио — нужно было срочно бежать из сатанеющей Германии, где начинались гонения и расправы. Успех, слава?
Пустяки, тлен… Зверю крови и почвы требовались жертвы.
Гекатомбы жертв.Увы, здесь уже верховенствовала другая музыка. Гимны,
марши и под сурдинку бесовской хохоток с подвизгом,
подвыванием и кряком. Ночь и шабаш…Хорошо, нашлись люди, которые поняли это и помогли вовремя уехать. Франция, Швейцария… Однако даже
в свободной Швейцарии не удалось избежать лагеря —
пусть и не концентрационного, не лагеря смерти, где людей
превращали в жалких рабов, мучили и педантично стирали
в прах. Но и лагерь для беженцев, для перемещенных лиц
не был пансионом. Все, кто оказался здесь, томились и бедовали, чувствуя себя шлаком, который не выбрасывают
только из милости.За меня хлопотали: как же, все-таки известный певец!
Но тех, кто заправлял делами, не слишком это волновало.
А когда я, изнуренный всеми передрягами, серьезно занемог,
увы, никто не поспешил с помощью…Так все и кончилось, остались только голос и песни…
С шипением и хрипотцой старых звукозаписей, которым
эта женщина так вдохновенно внимает. Иного слова, пожалуй, и не подберешь. Именно вдохновенно. Ей не помеха
потрескиванья, шуршание, шорох… Она внимает самому
важному — именно тому, что способна услышать только
одаренная, поющая душа.
Дина Рубина. Русская канарейка. Блудный сын
- Дина Рубина. Русская канарейка. Блудный сын. — М.: Эксмо, 2014.
В середине ноября на книжных полках магазинов появится заключительная книга трилогии «Русская канарейка» Дины Рубиной — «Блудный сын». Герои романа — Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник израильских спецслужб, и Айя, глухая бродяжка, — вместе отправляются в лихорадочное странствие через всю Европу. В центре повествования трилогии — поколения двух очень разных семейств: открытых одесситов и замкнутых алма-атинцев. Два этих разных мира связывает один виртуозный маэстро — кенарь Желтухин и его потомки.
Луковая роза
1 Невероятному, опасному, в чем-то даже героическому путешествию Желтухина Пятого из Парижа в Лондон в дорожной медной клетке предшествовали несколько бурных дней любви, перебранок, допросов, любви, выпытываний, воплей, рыданий, любви, отчаяния и даже одной драки (после неистовой любви) по адресу рю Обрио, четыре.
Драка не драка, но сине-золотой чашкой севрского фарфора (два ангелочка смотрятся в зеркальный овал) она в него запустила, и попала, и ссадила скулу.
— Елы-палы… — изумленно разглядывая в зеркале ванной свое лицо, бормотал Леон. — Ты же… Ты мне физиономию расквасила! У меня в среду ланч с продюсером канала Mezzo…
А она и сама испугалась, налетела, обхватила его голову, припала щекой к его ободранной щеке.
— Я уеду, — выдохнула в отчаянии. — Ничего не получается!
У нее, у Айи, не получалось главное: вскрыть его, как консервную банку, и извлечь ответы на все категорические вопросы, которые задавала, как умела, — уперев неумолимый взгляд в сердцевину его губ.
В день своего ослепительного явления на пороге его парижской квартиры, едва он разомкнул наконец обруч истосковавшихся рук, она развернулась и ляпнула наотмашь:
— Леон! Ты бандит?
И брови дрожали, взлетали, кружили перед его изумленно поднятыми бровями. Он засмеялся, ответил с прекрасной легкостью:
— Конечно, бандит.
Снова потянулся обнять, но не тут-то было. Эта крошка приехала воевать.
— Бандит, бандит, — твердила горестно, — я все обдумала и поняла, знаю я эти замашки…
— Ты сдурела? — потряхивая ее за плечи, спрашивал он. — Какие еще замашки?
— Ты странный, опасный, на острове чуть меня не убил. У тебя нет ни мобильника, ни электронки, ты не терпишь своих фотографий, кроме афишной, где ты — как радостный обмылок. У тебя походка, будто ты убил триста человек… — И встрепенувшись, с запоздалым воплем: — Ты затолкал меня в шкаф!!!
Да. В кладовку на балконе он ее действительно затолкал, — когда Исадора явилась наконец за указаниями, чем кормить Желтухина. От растерянности спрятал, не сразу сообразив, как объяснить консьержке мизансцену с полураздетой гостьей в прихожей, верхом на дорожной сумке… Да и в кладовке этой чертовой она отсидела ровно три минуты, пока он судорожно объяснялся с Исадорой: «Спасибо, что не забыли, моя радость, — (пальцы путаются в петлях рубашки, подозрительно выпущенной из брюк), — однако получается, что уже… э-э… никто никуда не едет».
И все же вывалил он на следующее утро Исадоре всю правду! Ну, положим, не всю; положим, в холл он спустился (в тапках на босу ногу) затем, чтобы отменить ее еженедельную уборку. И когда лишь рот открыл (как в песне блатной: «Ко мне нагрянула кузина из Одессы»), сама «кузина», в его рубахе на голое тело, едва прикрывавшей… да ни черта не прикрывавшей! — вылетела из квартиры, сверзилась по лестнице, как школьник на переменке, и стояла-перетаптывалась на нижней ступени, требовательно уставясь на обоих. Леон вздохнул, расплылся в улыбке блаженного кретина, развел руками и сказал:
— Исадора… это моя любовь.
И та уважительно и сердечно отозвалась:
— Поздравляю, месье Леон! — словно перед ней стояли не два обезумевших кролика, а почтенный свадебный кортеж.
На второй день они хотя бы оделись, отворили ставни, заправили измученную тахту, сожрали подчистую все, что оставалось в холодильнике, даже полузасохшие маслины, и вопреки всему, что диктовали ему чутье, здравый смысл и профессия, Леон позволил Айе (после грандиозного скандала, когда уже заправленная тахта вновь взвывала всеми своими пружинами, принимая и принимая неустанный сиамский груз) выйти с ним в продуктовую лавку.
Они шли, шатаясь от слабости и обморочного счастья, в солнечной дымке ранней весны, в путанице узорных теней от ветвей платанов, и даже этот мягкий свет казался слишком ярким после суток любовного заточения в темной комнате с отключенным телефоном. Если бы сейчас некий беспощадный враг вознамерился растащить их в разные стороны, сил на сопротивление у них было бы не больше, чем у двух гусениц.
Темно-красный фасад кабаре «Точка с запятой», оптика, магазин головных уборов с болванками голов в витрине (одна — с нахлобученной ушанкой, приплывшей сюда из какого-нибудь Воронежа), парикмахерская, аптека, мини-маркет, сплошь обклеенный плакатами о распродажах, брассерия с головастыми газовыми обогревателями над рядами пластиковых столиков, выставленных на тротуар, — все казалось Леону странным, забавным, даже диковатым — короче, абсолютно иным, чем пару дней назад.
Тяжелый пакет с продуктами он нес в одной руке, другой цепко, как ребенка в толпе, держал Айю за руку, и перехватывал, и гладил ладонью ее ладонь, перебирая пальцы и уже тоскуя по другим, тайным прикосновениям ее рук, не чая добраться до дома, куда плестись предстояло еще черт знает сколько — минут восемь!
Сейчас он бессильно отметал вопросы, резоны и опасения, что наваливались со всех сторон, каждую минуту предъявляя какой-нибудь новый аргумент (с какой это стати его оставили в покое? Не пасут ли его на всякий случай — как тогда, в аэропорту Краби, — справедливо полагая, что он может вывести их на Айю?).
Ну не мог он без всяких объяснений запереть прилетевшую птицу в четырех стенах, поместить в капсулу, наспех слепленную (как ласточки слюной лепят гнезда) его подозрительной и опасливой любовью.
Дэйв Эггерс. Сфера
- Дэйв Эггерс. Сфера / Пер. с англ. Анастасии Грызуновой. — М.: Фантом Пресс, 2014.
В начале ноября в издательстве Фантом Пресс выйдет роман американского писателя и сценариста Дэйва Эггерса «Сфера» – антиутопия о человеке, запутавшемся в социальных сетях. С помощью интернета компания «Сфера» строит общество, в котором власти подотчетны гражданам, а те в свою очередь сообща улучшают абсолютно прозрачный мир, где не осталось вообще никаких тайн. Ну в самом деле: если ты не совершаешь ничего дурного, зачем тебе что-то скрывать? Если же ты хочешь побыть один, берегись. Человечество не позволит тебе такой роскоши, а то и вовсе объявит социапатом.
В половине пятого Дэн прислал сообщение: «Пока великолепный день! Зайдешь в пять?»
Мэй зашла. Дэн поднялся, усадил ее в кресло, закрыл дверь. Посидел за столом, постучал по стеклянному экрану планшета.
— 97. 98. 98. 98. Замечательные средние показатели на этой неделе.
— Спасибо, — сказала Мэй.
— Просто блеск. Особенно если учесть нагрузку с нубами. Тяжко было?
— Первые пару дней — да, пожалуй, но теперь они обучены, и я им не очень-то нужна. Они все хороши, и вообще-то стало чуть легче — больше народу работает.
— Отлично. Приятно слышать. — Дэн поднял голову, заглянул ей в глаза: — Мэй, тебе хорошо в «Сфере»?
— Абсолютно, — сказала она.
Лицо его просветлело.
— Хорошо. Это хорошо. Прекрасная новость. Сейчас я тебя позвал, чтобы, ну, соотнести это с твоим социальным поведением, с тем, что оно транслирует. Видимо, я не очень понятно все тебе объяснил. И я виню себя за то, что плохо поработал.
— Нет-нет. Ты поработал замечательно. Ни малейших вопросов.
— Спасибо тебе, Мэй. Я это ценю. Но нам с тобой нужно поговорить о… в общем… Ладно, давай иначе. Ты ведь понимаешь, что наша компания работает, так сказать, не от звонка до звонка. Разумно?
— Да нет, я знаю. Я бы не… Я разве дала понять, что я считаю…
— Нет-нет. Ты ничего такого не давала понять. Но мы редко тебя видим после пяти и интересуемся, не рвешься ли ты, ну, уйти отсюда.
— Вовсе нет. Мне надо уходить попозже?
Дэн поморщился:
— Не в том дело. Ты прекрасно справляешься с работой. Но вечером в четверг на «Диком Западе» была тусовка, важный тимбилдинговый ивент, на тему продукта, которым мы все очень гордимся, и ты не пришла. Ты пропустила минимум два ивента для нубов, а в цирке мне показалось, что тебе не терпится улизнуть. По-моему, ты ушла минут через двадцать.
Дэн поцокал языком и покивал, словно раздумывал, откуда у него пятно на рубашке.
— Все это копится, и, в общем, мы переживаем, что как-то тебя отталкиваем.
— Да нет же! Ничего подобного.
— Ладно, поговорим про четверг, семнадцать пятнадцать. Было собрание на «Диком Западе» — это где работает твоя подруга Энни. Полуобязательная встреча с группой потенциальных партнеров. Тебя не было в кампусе, и я в растерянности. Ты как будто сбежала.
Мысли у Мэй заскакали. Почему она не пошла? Где была? Она даже не знала про этот ивент. Он на другом конце кампуса, на «Диком Западе» — как она умудрилась прохлопать полуобязательное мероприятие? Объявление, наверное, закопалось в недра ее третьего монитора.
— Боже мой, прости, — сказала она, наконец вспомнив. — В пять я уехала в Сан-Винченцо — в магазин здоровой пищи, за алоэ. Отец просил особый сорт…
— Мэй, — снисходительно перебил Дэн, — в магазине компании есть алоэ. Наш магазин обеспечен лучше любой лавки, и продукты качественнее. У нас за этим тщательно следят.
— Прости. Я не знала, что здесь будет алоэ.
— Ты сходила в наш магазин и не нашла алоэ?
— Да нет, я не ходила. Я сразу поехала в город. Но я так рада, что, оказывается…
— Давай-ка тут мы притормозим, потому что ты интересно выразилась. Ты не пошла в наш магазин первым делом?
— Нет. Прости. Я просто подумала, что таких вещей там не будет, и…
— Послушай. Мэй, я, признаться, в курсе, что в наш магазин ты не ходила. И об этом я тоже хотел поговорить. Ты не бывала в нашем магазине ни разу. Ты в колледже занималась спортом, а в наш спортзал ни разу не заглянула. Ты почти не исследовала кампус. Ты, по-моему, воспользовалась примерно одним процентом наших возможностей.
— Извини. Очень все закрутилось.
— А вечером в пятницу? Тоже был большой ивент.
— Прости. Я хотела пойти, но пришлось мчаться домой. У отца был приступ — оказалось, что нестрашный, но это выяснилось, когда я уже доехала.
Дэн посмотрел на стеклянную столешницу и салфеткой потер пятнышко. Довольный результатом, перевел взгляд на Мэй.
— Это вполне понятно. Уверяю тебя, я считаю, что проводить время с родителями — это очень, очень круто. Я лишь подчеркиваю, что наша работа тесно завязана на сообщество. Наше рабочее пространство — это сообщество, и все, кто здесь работает, — часть этого сообщества. И чтобы все было хорошо, требуется некий градус участия. Это, знаешь, как в детском саду, у одной девочки день рождения, а пришло только полгруппы. Каково ей, по-твоему?
— Так себе. Я понимаю. Но я же была в цирке, и он был хорош. Прекрасен.
— Вот скажи, да? И прекрасно, что ты там была. Но об этом не осталось никаких сведений. Ни фотографий, ни кваков, ни отзывов, ни записей, ничего. Почему?
— Не знаю. Видимо, я увлеклась…
Дэн шумно вздохнул.— Ты же знаешь, что мы любим обратную связь, да? И ценим мнение сфероидов?
— Конечно.
— И что «Сфера» в немалой степени базируется на вкладе и участии, в том числе твоих?
— Я знаю.
— Послушай. Вполне разумно, что ты хочешь побыть с родителями. Они же твои родители! Очень достойное поведение. Говорю же: очень, очень круто. Но еще я говорю, что нам ты тоже сильно нравишься, мы хотим узнать тебя получше. И, может быть, ты задержишься еще на пару минут и поговоришь с Джосией и Дениз? Ты их, наверное, помнишь — они проводили первую экскурсию? Они бы хотели продолжить нашу с тобой беседу, немножко углубиться. Ничего?
— Само собой.
— Тебе не надо бежать домой или?..
— Нет. Я в вашем распоряжении.
— Хорошо. Хорошо. Это приятно. Вот и они.
Мэй обернулась — Дениз и Джосия помахали ей из-за стеклянной двери.
— Как твои дела, Мэй? — спросила Дениз, когда они двинулись в конференц-зал.
— Садись-ка сюда, — Дениз кивнула на кожаное кресло с высокой спинкой.
Они с Джосией уселись напротив, выложили планшеты и подрегулировали кресла, будто готовясь к многочасовой и почти наверняка муторной работе. Мэй выдавила улыбку.
— Как ты знаешь, — сказала Дениз, заложив за ухо темную прядь, — мы из отдела кадров, и сейчас у нас просто рутинная беседа. Мы каждый день беседуем с новыми членами сообщества по всему кампусу и особенно рады повидаться с тобой. Ты такая загадка.
— Я загадка?
— Еще какая. Я много лет не встречала сотрудника, настолько, как бы это выразиться, окутанного тайной.
Мэй не знала, что ответить. Она бы не сказала, что окутана тайной.
— И я подумала, может, нам стоит для начала поговорить о тебе, а потом, когда побольше о тебе узнаем, обсудить, как тебе комфортнее влиться в жизнь сообщества. Нормально?
Мэй кивнула:
— Конечно. — Она поглядела на Джосию — тот пока ни слова не сказал, только наяривал на планшете, печатал там и что-то двигал.
— Хорошо. И, пожалуй, первым делом нужно сказать, что ты нам очень нравишься.
Сверкнув голубыми глазами, наконец заговорил Джосия:
— Еще как. Очень нравишься. Ты суперкрутой член команды. Все так считают.
— Спасибо, — сказала Мэй, уверившись, что ее увольняют. Она переборщила, попросив добавить родителей в страховку. Как ее угораздило, ее же саму только что наняли?
— И работаешь ты замечательно, — продолжала Дениз. — Средний рейтинг — 97, и это великолепно, особенно для первого месяца. Ты удовлетворена своими показателями?
— Да, — наугад ответила Мэй.
Дениз кивнула:
— Хорошо. Но, как ты знаешь, у нас тут дело не только в работе. Точнее говоря, не только в рейтингах и одобрении. Ты не винтик в машине.
Джосия с жаром потряс головой — мол, нет, ни в коем случае.
— Мы считаем, что ты полноценный, познаваемый индивид с бесконечным потенциалом. И ключевой член нашего сообщества.
— Спасибо, — сказала Мэй, уже усомнившись, что ее увольняют.
Дениз болезненно улыбнулась:
— Но, как ты знаешь, с позиций сцепления с сообществом у тебя была пара глюков: ты почти не ходишь на ивенты вечерами и по выходным — разумеется, это абсолютно по желанию. Мы знаем, что ты уехала из кампуса в 17:42 в пятницу и вернулась в 8:46 в понедельник.
— А что, в выходные была работа? — Мэй порылась в памяти. — Я что-то пропустила?
— Нет-нет-нет. В выходные не было никакой, ну, обязательной работы. Но это не означало, что тысячи людей не тусовались в субботу и воскресенье, не развлекались в кампусе и не занимались сотней разных дел.
— Я понимаю, да. Но я была дома. Папа заболел, я ездила помочь.
— Мне очень жаль, — сказал Джосия. — Это связано с его РС?
— Да.
Джосия сочувственно скривился, а Дениз склонилась к Мэй:
— Понимаешь, тут-то и возникают вопросы. Мы об этом эпизоде не знаем ничего. Ты обратилась к другим сфероидам в тяжелую минуту? Ты знаешь, что в кампусе есть четыре группы для сотрудников, которые столкнулись с рассеянным склерозом? Из них две — для детей больных. Ты туда обратилась?
— Пока нет. Я собиралась.
— Ладно, — сказала Дениз. — Давай на секундочку отложим, потому что это поучительно: ты знала о группах, но обращаться туда не стала. Ты ведь понимаешь, как важно делиться информацией об этом недуге?
— Понимаю.
— И как важно делиться знаниями с теми, у кого больны родители, — ты же сознаешь, в чем польза?
— Абсолютно.
— К примеру, узнав, что у отца приступ, ты проехала сколько? Около сотни миль, и за всю поездку даже не попыталась собрать сведения в своей «ТропоСфере» или шире, в «СтратоСфере». Ты понимаешь, что это упущенная возможность?
— Теперь понимаю, конечно. Я расстроилась, и нервничала, и мчалась как ненормальная. В отсутствующем состоянии.
Дениз подняла палец:
— Ага, отсутствующем. Чудесное слово. Я рада, что ты к нему прибегла. Как ты считаешь, обычно ты присутствуешь?
— Стараюсь.
Джосия улыбнулся и заколотил пальцами по планшету.
— А каков антоним присутствию? — спросила Дениз.
— Отсутствие?
— Да. Отсутствие. Давай здесь тоже поставим закладочку. Вернемся к твоему отцу и выходным. Отцу получше?
— Да. Оказалось, ложная тревога.
— Хорошо. Я так рада. Но любопытно, что ты больше ни с кем не поделилась. Ты постила что-нибудь про этот эпизод? Квак, коммент?
— Нет, — сказала Мэй.
— Хм. Ладно, — сказала Дениз и вдохнула поглубже. — Как ты считаешь, твой опыт мог бы кому-то пригодиться? Скажем, другому человеку, которому предстоит два-три часа мчаться домой, пригодилось бы узнать то, что знаешь ты, а именно, что это был мелкий псевдоприступ?
— Абсолютно. Я понимаю, что это полезно.
— Хорошо. И каков должен быть твой план действий?
— Я, наверное, запишусь в клуб по рассеянному склерозу, — сказала Мэй, — и что-нибудь напишу. Я понимаю, что людям это пригодится.
Дениз улыбнулась:
— Великолепно. Теперь поговорим о выходных в целом. В пятницу ты выяснила, что отцу получше. Но остаток выходных — пустота. Ты как будто испарилась! — Она округлила глаза. — В выходные те, у кого низкий Градус Интереса, могут, если хотят, исправить ситуацию. Но твой ИнтеГра даже упал — на две тысячи пунктов. Я на цифрах не повернута, но в пятницу он у тебя был 8625, а к вечеру воскресенья — 10 288.
— Я не знала, что все так плохо, — сказала Мэй, ненавидя себя — ту себя, которая все не могла выбраться из наезженной колеи. — Видимо, я приходила в себя после папиного эпизода.
— Расскажи, чем занималась в субботу?
— Даже неловко, — ответила Мэй. — Ничем.
— В каком смысле ничем?
— Ну, сидела у родителей, смотрела телик.
Джосия просветлел:
— Интересное что-нибудь?
— Да какой-то женский баскетбол.
— В женском баскетболе нет ничего плохого! — вскинулся Джосия. — Я обожаю женский баскетбол. Ты мои кваки по женской НБА читаешь?
— Нет. Ты квакаешь про женскую НБА?
Джосия кивнул, обиженный, даже потерянный.
Вмешалась Дениз:
— И вот опять же, любопытно, что ты предпочла ни с кем не делиться. Ты поучаствовала в какой-нибудь дискуссии? Джосия, сколько у нас участников в глобальной группе по женской НБА?
Джосия, явно потрясенный тем, что Мэй не читает его баскетбольную ленту, все же отыскал на планшете число и пробубнил:
— 143 891.
— А квакеров, которые пишут про женскую НБА?
Джосия быстро нашел:
— 12 992.
— И тебя там нет, Мэй. Это почему?
— Видимо, я не до такой степени интересуюсь женской НБА, чтобы вступать в группы или подписываться на ленты. Я не так уж страстно люблю женский баскетбол.
Дениз сощурилась:
— Интересное словоупотребление. Страсть. Ты слыхала про СУП? Страсть, Участие и
Прозрачность?
Мэй видела буквы СУП по всему кампусу, но прежде не различала в них этих трех слов. Вот дура.
Дениз ладонями оперлась на стол, будто собралась встать.
— Мэй, ты ведь понимаешь, что мы технологическая компания, да?
— Конечно.
— И что мы считаем себя лидерами в области социальных медиа, на переднем крае?
— Да.
— И ты понимаю, что значит «прозрачность»?
— Само собой. Абсолютно.
Джосия покосился на Дениз, надеясь ее успокоить. Та сложила руки на коленях. Вступил Джосия. Он улыбнулся и перелистнул страницу на планшете — мол, начнем с чистого листа.
— Хорошо. Воскресенье. Расскажи нам про воскресенье.
— Я просто поехала назад.
— И все?
— Я вышла на каяке?
На лицах у обоих разом нарисовалось изумление.
— На каяке? — переспросил Джосия. — Где?
— Да в Заливе.
— С кем?
— Ни с кем. Одна.
Они как будто обиделись.
— Я тоже хожу на каяке, — сказал Джосия и что-то напечатал, колошматя по планшету со всей силы.
— И часто ты ходишь на каяке? — спросила Дениз у Мэй.
— Ну, раз в несколько недель?
Джосия уставился в планшет:
— Мэй, вот я открыл твой профиль, и я не вижу тут ни слова о каяках. Ни смайликов, ни рейтингов, ни постов, ничего. А теперь ты говоришь, что выходишь на каяке раз в несколько недель?
— Ну, может, реже?
Мэй хихикнула, но ни Дениз, ни Джосия ее не поддержали. Джосия по-прежнему смотрел в экран, Дениз заглядывала Мэй в глаза.
— А что ты видишь, когда выходишь на каяке?
— Ну, не знаю. Всякое.
— Тюленей?
— Конечно.
— Морских львов?
— Как правило.
— Птиц? Пеликанов?
— Ну да.
Дениз постучала по планшету:
— Так, вот я задала в поиске твое имя, ищу визуальные отображения этих походов. И ничего не нахожу.
— А, я камеру не беру.
— А как ты распознаешь птиц?
— У меня определитель. Бывший бойфренд подарил. Такой складной путеводитель по местной фауне.
— Буклет, что ли?
— Ну да, он водонепроницаемый, и…
Джосия с шумом выдохнул.
— Извините, — сказала Мэй.
Джосия закатил глаза:
— Да нет, это уже на полях, но моя претензия к бумаге в том, что на бумаге умирает всякая коммуникация. Нет продолжения. Прочел бумажную брошюру — и все, привет. Все заканчивается на тебе. Можно подумать, ты пуп земли. А вот если б ты документировала! Если б ты использовала приложение для определения птиц, все бы выиграли — натуралисты, студенты, историки, береговая охрана. Все бы знали, какие птицы были в Заливе в тот день. Просто бесит, как подумаешь, сколько знаний каждый день теряется из-за такой вот близорукости. И я не говорю, что это эгоизм, но…
— Да нет. Конечно, эгоизм. Я понимаю, — сказала Мэй.
Джосия смягчился:— Но и помимо документирования — почему ты нигде не упомянула, что ходишь на каяке? Я прямо потрясен. Это же часть тебя? Неотъемлемая часть.
Мэй фыркнула, не сдержавшись:
— Да вряд ли такая уж неотъемлемая. Вряд ли даже интересная.
Джосия вытаращился на нее, сверкая глазами:
— Еще какая интересная!
— Куча народу ходит на каяках, — сказала Мэй.
— Вот именно! — ответил Джосия, багровея. — Ты разве не хочешь познакомиться с другими каякерами? — Он постучал по планшету. — Рядом с тобой еще 2331 человек, и все тоже любят каяки. В том числе я.
— Толпа народу, — с улыбкой отметила Мэй.
— Больше или меньше, чем ты думала? — спросила Дениз.
— Пожалуй, больше.
Джосия и Дениз улыбнулись.
— Ну что, подписать тебя на ленты? Будешь читать каякеров? Приложений такая куча… — Кажется, Джосия уже открыл страницу и нацелился подписывать.
— Ой, я даже не знаю, — сказала Мэй.
У обоих вытянулись лица.
Джосия, похоже, опять разозлился:
— Да почему? Ты считаешь, твои увлечения не важны?
— Не совсем. Я просто…
Джосия подался к ней:
— Каково, по-твоему, другим сфероидам знать, что ты физически рядом, якобы в сообществе, но скрываешь от них свои хобби и интересы? Как они, по-твоему, себя чувствуют?
— Не знаю. По-моему, никак.
— Да вот ошибаешься! — вскричал Джосия. — Речь как раз о том, что ты не сближаешься с теми, кто вокруг!
— Это же просто каяки! — И Мэй снова рассмеялась, пытаясь вернуть беседе легкомыслие.
Джосия стучал по планшету.
— Просто каяки? Ты знаешь, что каякинг — это индустрия на три миллиарда долларов? А ты говоришь — «просто каяки»! Мэй, ты что, не понимаешь? Тут все связано. Ты делаешь свою часть. Ты у-част-вуешь.
Дениз пристально вгляделась в Мэй:
— Мэй, я вынуждена задать деликатный вопрос.
— Давай.
— Как ты считаешь… В общем, тебе не кажется, что это проблема самооценки?
— Что-что?
— Ты не хочешь самовыражаться, так как опасаешься, что твои мнения не представляют ценности?
Мэй никогда не думала об этом под таким углом, но некое здравое зерно разглядела. Может, она просто стесняется самовыражаться?
— Я даже не знаю, — сказала она.
Дениз сощурилась:
— Мэй, я не психолог, но будь я психологом, у меня бы, пожалуй, возник вопрос о твоей вере в себя. Мы изучали шаблоны такого поведения. Я не говорю, что это антиобщественный подход, но он безусловно недосоциален и от прозрачности далек. И мы замечаем, что порой это поведение коренится в низкой самооценке — в позиции, которая гласит: «Ой, все, что я хочу сказать, не так уж важно». Это описывает твою точку зрения, как ты считаешь?
Совершенно лишившись равновесия, Мэй не умела оценить обстановку трезво.
— Может быть, — сказала она, пытаясь выиграть время, понимая, что чрезмерная сговорчивость будет лишней. — Но порой я уверена, что мое мнение важно. И когда мне есть что добавить, я определенно считаю себя вправе.
— Однако обрати внимание, ты сказала: «Порой я уверена». — Джосия погрозил ей пальцем. — Любопытно это «порой». Даже, я бы сказал, тревожно. Мне кажется, это «порой» случается не так уж часто. — И он откинулся на спинку кресла, точно полностью разгадал Мэй и теперь нуждался в отдыхе от праведных трудов.
— Мэй, — сказала Дениз, — мы были бы рады, если б ты поучаствовала в одной программе. Нравится тебе такая идея?
Мэй представления не имела, что за программа такая, но понимала, что попала в переплет и уже отняла у них обоих кучу времени, а потому надо согласиться; она улыбнулась и ответила:
— Абсолютно.
— Хорошо. Мы тебя постараемся записать поскорее. Я думаю, в результате ты будешь уверена не порой, а всегда. Так ведь получше, правда?
Очарование сослагательного наклонения
- Юрий Арабов. Столкновение с бабочкой. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 346 с.
Предъявлять к литературному произведению претензии относительно исторической правды весьма глупо. Скорее наоборот, чем больше вымысла в повествовании о реальных людях, тем интересней. Сразу разгорятся споры, начнутся расследования, и поборники истины будут кричать: «Клевета! Провокация!» Юрий Арабов — писатель, который не боится подобных обвинений. Его новый роман-фантазия «Столкновение с бабочкой», попавший в лонг-лист премии «НОС», позволяет взглянуть на Россию начала XX века с иной точки зрения, той, которую невозможно встретить в школьных учебниках.
Как и в предыдущих книгах и сценариях, в новом романе писатель разворачивает небывалую по масштабам фантасмагорию на границе между вымыслом и реальными фактами. Он искусно прячет свою фантазию за внешностью и именами известных революционеров и членов царской фамилии. Ленин, Троцкий, Свердлов, Николай II, Эриксон, Фредерикс — попробуй отличить, что в их характерах придумано хитроумным автором, а что почерпнуто из писем и документов. Все даты и места точны — это необходимо Арабову, чтобы поймать читателя, затащить его в свой мир и там уже защекотать иронией, вылить на голову поток небывальщины и поразить в самое сердце. Так ему, чтобы больше не думал, что история — это скучно.
Арабов дает возможность вмиг погрузиться в повествование и почувствовать легкое головокружение от происходящих событий. Николай II не подписывает манифест об отречении. Это событие превращается в «бабочку», которая изменит будущее. Сослагательное наклонение вступает в силу, устраняя изъявительное: что было бы, если бы… С точки зрения Арабова, случилось бы чудо. Царь всея Руси и вождь пролетариата нашли бы компромисс и обошлись бы малыми жертвами. Гражданин Романов сохранил бы жизнь своей семье и уберег бы Россию от чудовищного кошмара. Гротеск, которым пропитан роман, к удивлению, не превращает героев в застывших кукол, живые лица — в маски. За диалогами персонажей порой скрывается двойной смысл. Однозначно относиться к альтернативным событиям истории как-то трудно. Так, например, слова Николая II об убитых в Екатеринбурге коммунистах (sic!) одновременно могут вызвать и смех, и жгучую тоску, оттого что они не соответствуют действительности:
— Вы знали этих людей?
— Весьма поверхностно. Свердлова видел лишь раз… И никакого впечатления он на меня не произвел. А других… — государь запнулся. — Покойный Джугашвили был мне вообще симпатичен. Молчаливый. Ходит тихо, неслышно и только курит. Ты же знаешь, как я люблю горцев. На заседаниях кабинета сосредоточенно молчит. Один раз дал мне прикурить из своей трубки. Такой и мухи не обидит. Его-то за что?Стоит только начать читать «Столкновение с бабочкой», как уже с первых строк проникаешься сочувствием и пониманием… к Владимиру Ильичу Ленину (что делает талант литератора)! Арабов не повторяет сам себя. Ильич из нового романа и Ленин из фильма Александра Сокурова «Телец», сценаристом которого также является писатель, все-таки разные. Здесь Владимир Ильич еще в расцвете сил, он только прибыл в Россию и готов сражаться за революцию. Но вместо привычного (в общем-то, безликого в наши дни) образа вождя коммунистической партии, который жил, жив и будет жить, возникает самый настоящий человек, существующий в настоящем времени, уставший и мечтающий о простом уюте и покое, о счастье не только всеобщем, но и сугубо личном. Ленин-мещанин сразу становится как-то ближе и понятнее. Так и хочется обратиться к нему со словами: «Как я понимаю вас, Владимир Ильич!»:
… Ильич должен был время от времени мотаться то в Москву, то в Петроград, и сдвоенная столица предполагала спальный вагон, накрахмаленные простыни, которые оказывались нечистыми, и подслащенные кипяток, выдаваемый за чай. Но дорога стала его привычной стихией. Только печалила мысль, что в свой предпенсионный возраст я так и не обрел постоянного жилья. Например, небольшого дома с камином и террасой, увитой диким виноградом, куда можно пригласить друзей и не стесняться за свой мелкобуржуазный быт. Раздавить с ними бутылочку красного вина, поговорить о философии и музыке, пожаловаться на здоровье и поделиться планами на лето: ехать ли в Ниццу или лучше собирать червивые грибы в Подмосковье…
Зачастую повествование от третьего лица переходит в монологи героев. Благодаря этому каждый получает возможность рассказать о своих страхах и надеждах. Какими бы карикатурными они не казались на первый взгляд («Какой социализм? Мы сейчас в фанты играем!», — говорит царица мужу и Ленину), сквозь авторский смех видны слезы. Возможно оттого, что только литературные герои могут прийти к диалогу. В реальности же все гораздо страшнее: вот и сейчас сносят памятники прошлого — тот же Ленин повергнут с пьедестала на землю. Может быть, потом кто-то напишет об этом альтернативную историю. Скучно на этом свете, господа!..
Олег Радзинский. Агафонкин и Время
- Олег Радзинский. Агафонкин и Время. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 576 с.
Роман «Агафонкин и Время» – четвертая книга Олега Радзинского, бывшего владельца «Рамблера», поселившегося в Ницце и посвятившего себя литературному творчеству. Герой романа Алексей Агафонкин – необычный Курьер: он доставляет и забирает Объекты из разных временных эпох. Агафонкин не особенно задумывается над сутью полученных от загадочного В заданий, пока не теряет один из Объектов – детскую юлу. В поиск юлы включаются как земные, так и неземные силы. Кто получит юлу первый и почему она всем нужна, выяснить предстоит Агафонкину. Стоит ли упоминать, что одним из Адресатов является маленький Владимир Путин? Наверное, стоит.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ СОБЫТИЙГлава первая ЛЕНИНГРАДБАСКОВПЕРЕУЛОК-17МАЯ1963ГОДА10:16 Сегодняшняя Доставка не нравилась Агафонкину. Ему было тревожно, словно он делал плохое, за что могут наказать, и скорее всего накажут. Как предчувствие мигрени, что проклевывается слабой пока головной болью, ждущей своего часа, чтобы превратиться в сверлящую мозг дыру у левого виска, куда — словно вода в раковине — закручивающейся воронкой утекут радость и простота существования. Так и агафонкинская тревога: предощущение, в котором прорастала горечь уверенности — быть беде. Непременно быть.
В двух кварталах к востоку начинался Литейный — с большими домами, старыми облупившимися особняками вымершей на чужбине русской аристократии и гулкими трамвайными линиями. Шума Литейного в тихом Басковом переулке слышно не было, и все же Агафонкин ощущал текущую оттуда оживленность большой улицы — непрерывный гул, мерный рокот, словно непрестанно работающий вдали мотор. Все это, конечно, существовало только в его воображении, оттого что до Литейного было идти и идти: сначала до Маяковского, затем до Короленко, свернуть на Некрасова, и уж оттуда можно было выйти на Литейный проспект. Агафонкин хорошо знал эти места, хотя раньше здесь не бывал. Он всегда внимательно изучал карту, перед тем как выбрать Тропу.
«Какое литературное место, — подумал Агафонкин. — Какие улицы — Маяковского, Короленко, Некрасова. В таком районе наш мальчик мог бы стать литератором.
Но не стал, — вздохнул Агафонкин, — а вместо этого пошел работать на Литейный, дом 4».
Сам район назывался Канал Грибоедова. Это Агафонкин тоже помнил.
Он решил не заходить во двор — находится еще. Он знал, что будет часто здесь бывать.
Во дворе же дома 12, куда решил не заходить Агафонкин, тем временем пузырилась местная жизнь. Маленькие, дошкольного возраста дети гоняли незлобных кудлатых собак, собаки пытались поймать облезлых кошек, старики в пахнущих долгой службой пиджаках и кепках сидели на крепких самостроенных лавочках, наполняя сырой воздух дешевым табачным дымом и неторопливой матерной речью, а тетки в наскоро повязанных платках и стареньких домашних халатах выносили ведра на помойку, распугивая рыскающих там крыс, и над всем этим в белесом чухонском небе висело бледное ленинградское солнце, что светило, да не грело.
Стоял холодный и сырой питерский май, переходный месяц от зимы к лету, когда неяркий в этих широтах солнечный свет начинает скапливаться, удерживаясь в небе, борясь с наступающей вечерней тьмой, и позже — в июне — белые ночи, разведенные мосты, Медный всадник, гуляющие по полутемному городу пары, поцелуи на лавочках, стихи и то особое петербургское состояние между светом и тьмой — неясность, зыбкость, ожидание, которым так гордится город. «По сути же, — думал Агафонкин, — никаких белых ночей нет; просто сумерки на время захватывают пространство ночи. Полуфабрикат тьмы. А романтики вокруг развели… Умелый питерский маркетинг: наши сумерки как никакие другие — длятся до утра. Только у нас — победа света над тьмой. На три недели в году».
Двор дома 12 был двор особенный, известный окрестной шпане и криминалу постарше как проходной. Он удобно лежал на пути от Некрасовского рынка к подвалам-лабиринтам Саперного переулка. Агафонкин, впрочем, в подвалы не собирался: его ожидала Доставка, ответственное дело. Он повернул от двора дома 12 и пошел на запад, к зданию школы 193. Идти было пятьдесят два метра.
Агафонкин подготовился к Доставке и мало отличался от советских прохожих 63-го года. Он был одет в темный болоньевый плащ и угольного цвета костюм из дакрона. Агафонкин не мог понять любви советского населения 60-х к искусственным материалам, но признавал их практичность: легко стирается и мало мнется.
Отправитель настоял на узком сером галстуке на резинке с ненавязчивым бордовым узором. «Такие тогда носила фрондирующая интеллигенция, Алексей Дмитриевич, — объяснил Отправитель. — Уж поверьте мне». У Агафонкина не было выхода, и он поверил. Хотя и не понял, отчего должен походить на советскую фрондирующую интеллигенцию 60-х.
«Гагарин уже два года как слетал, — вспоминал Агафонкин, шагая к дому 8 по Баскову переулку, где находилась школа Адресата. — Что там еще, какие памятные вехи? Олимпиада в Токио? Нет, это через год. Надо будет потом еще почитать».
Он свернул к школе. Большая перемена, как и сказал Отправитель, была в полном разгаре. В школьном дворе, словно песчаный вихрь, клубилась однородная масса мальчиков — хаотичное шумное броуновское движение скучных серых суконных форм. Девочки в шоколадных платьях и черных передниках собирались стайками — косички и хвостики, белые банты. Лица детей мелькали и казались Агафонкину одинаковыми.
«Ну, где же ты? — спрашивал себя Агафонкин, вглядываясь в снующих по школьному двору мальчиков. — Перемена скоро закончится, и где тебя искать?»
Агафонкин, понятно, лукавил: он мог найти Адресата в любой момент и в любом месте. Он просто не хотел застревать в Ленинграде 1963 года на целый день.
Агафонкин остановил пробегающего мимо мальчика, по размеру — ровесника Адресата.— Постой-ка, — сказал Агафонкин. — Ты из какого класса?
— Из пятого, — сглотнул мальчик. Левое ухо у него топорщилось больше правого, словно кто-то его за это ухо тянул. Возможно, так оно и было. — Чего вам, дядя? Ищете кого?
— Из пятого, — повторил Агафонкин. — Это нам подходит. Тебя как зовут?
— Сережа, — снова сглотнул мальчик. — Серега Богданов.
Агафонкин назвал имя Адресата.
— Знаешь такого?
— Вовчика? Да это друг мой лучший, — поделился Сережа Богданов. Он посмотрел на Агафонкина и забеспокоился: — А вы, дядя, откуда? Не из милиции?
— Нет, Сережа, я не из милиции, — ответил Агафонкин. — Я с его отцом работаю. Мне ему кое-что передать нужно.
Сережа обдумал ситуацию и сглотнул. Он Агафонкину не верил.
— Пошли бы к ним домой и тете Марусе передали, — предложил он.
— Да я уже заходил, — соврал Агафонкин. — Ее дома нет.
Дело срочное, Сережа. Обещаю: я не из милиции.
Это, кстати, была правда.
Сережа сморщился от напряжения. Агафонкин казался ему странным, и он не верил, что тот работает на Вагоностроительном с Вовкиным отцом. Сережа знал мужиков, которые там работали; они и выглядели, и говорили иначе. На милицейского, однако, дядька тоже не походил. Хотя кто их знает.
Он собрался уже соврать, что Вовки во дворе нет, когда все решилось само собой: Агафонкин вдруг увидел Адресата — словно кто-то навел на него луч света, как делают в театре, высвечивая нужного в этот момент актера. Адресат стоял совсем рядом — маленький, хрупкий, беловолосый, с упрямым немигающим взглядом. Он смотрел на Агафонкина, словно стараясь его припомнить. Он был бледен и почти прозрачен, будто соткан из бледного промозглого ленинградского воздуха — дитя туманов и болотных миазмов. На секунду — лишь на секунду — он показался Агафонкину миражом, галлюцинацией, одной из мансуровских интервенций. «А что, — мелькнуло у Агафонкина в голове, — что если все это — мансуровские придумки; создал галлюцинацию Доставки, а на самом деле я в Москве, в Квартире?» Мысль была тревожной, и Агафонкин поспешил ее отогнать. В остальном, не считая миражной прозрачности, Адресат выглядел точно как его фотография во внутреннем кармане пиджака Агафонкина.
— Так вот же он, — сказал Агафонкин, показывая на Адресата.
— Да какой же это он? — зачастил Сережа Богданов. — Это не он вовсе. Это вовсе другой. Это Левка Камелединов.
Но Агафонкин уже не слушал. Он пошел к Адресату, стараясь выглядеть неопасным, пытаясь улыбаться, хотя веселого в том, что должно было случиться, он видел мало.
Адресат стоял, не мигая, не двигаясь. Агафонкин чувствовал, что тот его не боится, но и не доверяет ему. Адресат выжидал, стараясь не казаться встревоженным. Бежать он, впрочем, не собирался.
— Не бойся, Володя, — сказал Агафонкин, — я не из милиции. Я тебе ничего дурного не сделаю.
В этом он, правда, не был уверен.
Адресат кивнул. Он ждал.
Агафонкин был обязан придерживаться процедуры: каждая Доставка начиналась с идентификации Адресата. Каждая Выемка начиналась с идентификации Отправителя. Он должен был убедиться, что перед ним именно тот, кто нужен, даже когда был в этом уверен. Адресат должен был себя назвать. Отправитель должен был себя назвать.
— Тебя как зовут? — спросил Агафонкин.
Адресат обдумал вопрос и хмыкнул.
— Вы меня ищете, а как зовут, не знаете?
— Я знаю, — терпеливо объяснил Агафонкин. — Просто по правилам ты должен себя назвать. Свое имя.
— По каким правилам?
— По правилам. — Агафонкин понизил голос до шепота. — Я тебе все объясню, когда ты себя назовешь.
Адресат пожал худыми серошкольными плечами.
— Володя.
— Полностью. Фамилия тоже нужна.
Адресат снова пожал плечами:
— Володя Путин.
«Контакт, — подумал Агафонкин. — Начинаю Доставку».
Эта мысль также была частью процедуры. Агафонкин знал, что когда выполняет Назначение, должен думать правильные мысли.
— Очень хорошо, Володя, — улыбнулся Агафонкин. — Очень хорошо, что это ты. — Он нащупал конверт во внутреннем кармане плаща. — Тебе письмо.
Будь мужчиной, доченька
- Анна Матвеева. Девять девяностых. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 346 с.
Девять девяностых — это в десять раз больше, чем одна сотая, но все равно очень далеко до целой единицы. С другой стороны, от девяти — один шаг до круглой десятки, а от девяноста остается совсем чуть-чуть до ровной сотни. В общем, Анна Матвеева весьма скромно оценила свой труд: ей можно было смело ставить десять баллов из десяти.
Из-под пера екатеринбургской писательницы вышли девять рассказов о незабвенной переломной эпохе между XX и XXI веками. С четырьмя из них можно было познакомиться и раньше: «Жемымо» публиковался в литературном выпуске журнала «Сноб», «Умный мальчик» — в «Русском пионере», «Девять девяностых» — в сборнике «Русские женщины», «Безумный Макс» — в издании Homo Legend. Анна Матвеева — вообще очень «журнальный» автор: до 2012 года ее активно печатали «толстяки», среди которых «Новый мир», «Знамя», «Звезда» и, конечно, «Урал». Такой «послужной список» вправе сравниться с номинациями на литературные премии. Тут Матвеева, кстати, тоже не отстает: ее новая книга — уже в полуфинале «НОСа».
«Девять девяностых» — это сборник рассказов с элементами литературного цикла. Коротко говоря, обычный сборник представляет собой весьма грубую компиляцию текстов, объединенных достаточно поверхностными признаками: автором, темой или жанром. Цикл — конфигурация более высокого уровня: здесь могут появиться общая рамка, единый повествователь или определенная совокупность мотивов. Самое главное — в цикле присутствует динамика, ощущаемая на внутритекстовом и эмоциональном уровне, а сборники зачастую весьма статичны.
В своей книге Анна Матвеева не только объединяет разные произведения на одну тему, но эту тему развивает и прорабатывает. Писательница организует игру и с общими мотивами, и с художественными деталями. В рассказах «Такая же» и «Девять девяностых», например, она наделяет скрытой силой обычные яблоки, которые становятся ключом к сердцам героев.
В. срывала яблоко с дерева, и ветка пружинила над ее головой. Яблоко было холодным и до того вкусным, что радости хватало на целый день — а там уже подступало следующее утро и было новое яблоко.
Центральным мотивом книги, пожалуй, является гендерный. От суждений вроде «девочки лучше мальчиков» (к слову, у писательницы три сына) Матвеева переходит к серьезным высказываниям о том, насколько нынешний мир ориентирован на ту половину человечества, которую принято считать слабой.
Пал Тиныч и сам часто думал: мы живем в эпоху женщин. Раньше, история не даст соврать, ценились мальчики — но сейчас эти предпочтения уцелели разве что в Китае. <…> Девочки — в той же системе интересов и ценностей, к которой приписаны женщины, главные воспитатели современных детей. <…> Будем честны: наш мир — в городской его версии — гораздо лучше приспособлен для женщин.
Рассказы о мальчиках (четные) автор чередует с рассказами о девочках (нечетные), чтобы в заключительной повести «Екатеринбург» подарить всю силу мужского характера женскому образу:
Любимые слова мамы — «Ни в коем случае».
Папы — «Будь мужчиной, доченька».Даже города в книге имеют половую принадлежность:
Есть города-мужчины — Киев, Лондон, Мадрид.
А есть женщины — Варшава, Рига, Вена.
Париж, разумеется, мужчина.С городом в книге Матвеевой может случиться «любовь по переписке», а с человеком — «игра в города». Этот сборник хочется собирать и разбирать, словно кубик Рубика, и пройдет еще много времени, прежде чем все цветовые детали встанут на свои места.
Анне Матвеевой удалось написать книгу о чувстве, не терпящем банальностей, — о любви к мужчине, женщине, ребенку, дому, городу и жизни вообще. Такой непонятной и понятной одновременно, что на обложку книги о Екатеринбурге действительно можно поместить Эйфелеву башню.
Феликс Х. Пальма. Карта неба
Феликс Х. Пальма. Карта неба. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 783 с.
В октябре в издательстве Corpus выходит остросюжетный роман «Карта неба» испанского писателя Феликса Пальмы. Действие книги происходит в Лондоне в XIX веке в эпоху великих научных открытий, которые раздвигали границы возможного и внушали людям мысль о том, что самые смелые их мечты и надежды могут осуществиться. В основу «Карты неба» положен роман Г. Дж. Уэллса «Война миров», более того — сам фантаст оказывается одним из действующих персонажей.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Джереми Рейнольдсу хотелось бы быть влюбленным, чтобы иметь возможность окрестить женским именем ледяную глыбину, в которую уперся его корабль, этот антарктический пейзаж, расстилавшийся перед ним. Или горную цепь, на горизонте к югу, или бухту, открывавшуюся справа в снежном тумане, или даже любую из многочисленных льдин. Но Рейнольдс никогда не испытывал чувств, похожих на любовь, и единственным именем, которое он мог бы использовать в этих целях, было имя Джозефины, богатой девушки из Балтимора, за которой он ухаживал, влекомый совершенно иными интересами. Откровенно говоря, он не мог представить себя, обращающегося к ней во время чаепития, под неусыпным взглядом ее матери, со словами: «Кстати, дорогая, я назвал твоим именем континент, лежащий далеко за Полярным кругом. Надеюсь, это тебя обрадует». Нет, Джозефина не сумела бы оценить такой подарок. Она ценила только то, что можно носить на пальцах, запястьях или шее. Какой прок от подарка, которого она никогда не увидит и не потрогает? Это чересчур изысканный презент для девушки, чуждой всякой изысканности. И вот теперь, очутившись во льдах, на сорокаградусном морозе, Рейнольдс принял решение, какого не смог бы принять, находись он в любом другом месте: прекратить ухаживать за Джозефиной. Да, именно так он и поступит. Весьма маловероятно, что ему удастся вернуться живым в Нью-Йорк, но он дает себе торжественный обет: если с помощью какого-то чуда это произойдет, его избранницей станет лишь та, кто обладает тонкими чувствами и способна испытать волнение оттого, что на Южном полюсе есть закованный в лед утес, носящий ее имя. Хотя было бы неплохо, про себя добавил он, подчиняясь своему неизменному здравому смыслу, чтобы такая девушка располагала к тому же достаточными средствами и в случае, если фортуна ему не улыбнется, не корила бы его за то, что та далекая скала — единственное, что он может ей предложить.
Он тряхнул головой, чтобы прогнать эти романтические мысли, уносившие в далекий мир, который отсюда казался неправдоподобным, и устремил свой взор на бесприютный край, лежащий в такой дали от цивилизации, что Творец не стал украшать его приметами жизни. Кроме того, кому захочется окрестить именем жены, своим собственным, корабля, доставившего их туда, или организатора экспедиции этот кусок льда, который, возможно, в конце концов станет его могилой? Да, он приехал сюда, обуреваемый стремлением вписать свое имя в Историю, но, как становится очевидным, единственное, что ему удастся написать, будет его эпитафией.
Они отплыли из Нью-Йорка в октябре с намерением достичь Южного полюса через три месяца, когда лето в Южном полушарии в разгаре, однако из-за целого ряда неблагоприятных обстоятельств и неудач, преследовавших их с самого начала экспедиции, путешествие безнадежно затянулось. К тому времени, когда они миновали Южные Сандвичевы острова и направились к острову Буве, этому ускользающему от глаз наблюдателя островку, который с таким трудом нанесли на карту предыдущие исследователи, даже помощник кока и тот знал, что удача ждет их только в том случае, если они достигнут цели до конца лета. При этом экспедиция вышла очень дорогостоящей, и они уже проделали слишком большой путь, чтобы возвращение могло устроить хоть кого-нибудь, а потому капитан Макреди приказал держать курс на острова Кергелен, надеясь, что кроличьи лапки, которые захватили с собой матросы, окажутся более действенными у Полярного круга, чем в Америке. Оттуда они проследовали на юго-запад и вскоре начали встречать на своем пути первые плавающие льдины, которые словно охраняют берега Антарктиды, как отважные часовые. Используя проходы между льдами и огромными айсбергами, они сумели без особых помех продвинуться довольно далеко, пока почти полностью скованное ледяным саваном море не объявило им, что в этом году зима решила прийти на месяц раньше, в середине февраля. Невзирая на это, они с энтузиазмом принялись раскалывать лед, наивно уповая на двойную обшивку из африканского дуба, которую Рейнольдс приказал поставить, дабы усилить корпус старого китобойца. Это были долгие и отчаянные попытки, но в конце концов появление огромного айсберга превратило схватку со льдом в мираж. Но капитан Макреди проявил себя весьма изобретательным человеком: он распорядился сыпать угольную пыль на державший их в тисках лед, чтобы побыстрее растопить его, приготовил свечи и даже отправил нескольких человек раскалывать лед с помощью любых колющих инструментов, какие только отыскались в трюме. Единственное, что ему оставалось, это попробовать собственноручно перенести корабль на другое место, подобно какому-нибудь богу с Олимпа. А так все эти усилия ни к чему не привели, разве что добавили ситуации патетики. Они были обречены с того самого мгновения, когда решились войти в это море, усеянное ледяными капканами, а может быть, даже с момента, когда Рейнольдс замыслил свою экспедицию. Вскоре судно слегка накренилось на правый борт, и им удалось спуститься на лед, где Макреди приказал кому-то подняться на вершину ближайшего айсберга и сообщить, что он оттуда увидит. Вырубив с помощью кирки небольшие ступеньки во льду, дозорный вытащил латунную подзорную трубу и подтвердил то, что уже давно подозревал Рейнольдс: мир для них теперь ограничивался бескрайним ледяным полем, ощетинившимся скалами и айсбергами, белым небытием, где они вдруг стали жалкими, ничего не значащими букашками, не важно, живыми или мертвыми.
Спустя две недели положение не улучшилось, и глупо было это отрицать. Ледяные клещи, державшие в плену «Аннаван», не разжались ни на миллиметр. Наоборот, тревожное потрескивание льда свидетельствовало о том, что его давление на корпус судна только усиливается. И ослабления этой хватки можно было ожидать разве что через восемь-девять месяцев или даже позже, когда сюда снова придет лето, и это еще если им повезет, ибо Рейнольдсу было известно слишком много похожих историй, когда желанное таяние льдов так и не наступало. На самом деле, каким бы опытом ты ни обладал, все становилось непредсказуемым, едва ты отваживался вступить в царство льда. Достаточно вспомнить хотя бы экспедицию сэра Джона Франклина, предпринятую в 1822 году на север Канады с целью отыскать Северо-Западный проход. Участники экспедиции столько времени блуждали во льдах, что Франклину пришлось даже съесть собственную обувь, чтобы хоть как-то заглушить страшный голод. Но Франклин все же вернулся домой, что удавалось далеко не всем. «Не пополнят ли и они длинный перечень неудавшихся экспедиций, пропавших кораблей, мечтаний, канувших в неизвестность, который заботливо составляют в Адмиралтействе?» — подумал Рейнольдс, с отвращением разглядывая свои заиндевелые сапоги. Пока что им остается только молиться, чтобы 1830 год не был указан на их надгробных плитах вслед за датой рождения.
Он бросил грустный взгляд на «Аннаван». Это было китобойное судно тридцатиметровой длины, знававшее лучшие времена, когда оно промышляло кашалотов и китов-горбачей в южной Атлантике. От того славного прошлого осталось лишь полдюжины гарпунов и дротиков, хранившихся в арсенале. Теперь же «Аннаван» представлял собой довольно нелепое зрелище: он опирался на подобие мраморного пьедестала, накренившись набок и немного задрав носовую часть. Желая свести к минимуму вероятность того, что судно опрокинется, Макреди распорядился спустить паруса на обеих мачтах и навалить гору снега по правому борту, которая служила бы одновременно подпоркой и склоном для спуска. Солнце висело над самым горизонтом, где ему предстояло пробыть еще несколько недель, перед тем как окончательно погаснуть в апреле, уступив место долгой полярной ночи, и освещало «Аннаван» слабым и тусклым светом.
Устав от тесноты корабельных помещений, по которым приходилось передвигаться, то и дело задевая головой свисавшие сверху, как грозди винограда, орудия и инструменты, натыкаясь на койки и громоздившиеся повсюду съестные припасы, немногочисленные члены команды сгрудились у подножия судна, бросая вызов жестокому морозу, который забавлялся тем, что превращал в поблескивающие облачка дыхание, вырывавшееся из их ртов. Кроме него, Джереми Рейнольдса, фигурировавшего в бумагах в качестве начальника экспедиции, экипаж под командованием капитана Макреди составляли два офицера, боцман, два артиллериста, хирург, кок и два поваренка, два плотника и дюжина матросов, один из которых, приставленный к ездовым собакам, был огромный молчаливый метис, плод кощунственной связи индеанки из племени упшароков с белым. И насколько мог заметить Рейнольдс, пока никто из них за свою судьбу особенно не тревожился. Но не потому, что на борту было достаточно провизии, а запасов угляхватало, чтобы поддерживать тепло внутри судна до наступления лета. Такая беззаботность порождалась опытом, что был у них за плечами, многочисленными трудностями, которые им пришлось пережить в подобных и даже гораздо худших переделках. Либо так предпочитал думать Рейнольдс, не мог же он считать, что безоговорочное смирение, с которым они встречали невзгоды, объясняется тем, что их несчастные жизни значат для них не больше мушиного укуса, это было бы слишком ужасно, так как собственная жизнь была ему по-прежнему дорога, по крайней мере пока. Как бы то ни было, он надеялся, что такое положение вещей долго не продлится и не подтвердятся известные разговоры в портовых тавернах насчет того, что в условиях, подобных нынешнему, не стоит ни о чем беспокоиться, пока достаточны запасы рома. Вот когда они иссякнут, все резко изменится: безумие, которое до сих пор, словно робкий поклонник, витало где-то поодаль, начнет искушать экипаж и в конце концов обольстит наиболее слабых, и те не замедлят поднести пистолет к виску и спустить курок. Рейнольдс прикинул, сколько галлонов рома может храниться в винном погребке судна. Макреди, у которого имелись собственные запасы бренди, приказал Симмонсу, одному из помощников кока, выдавать ром разбавленным водой, что обычно практиковалось, дабы растянуть его запасы на возможно более длительный срок. И никто из матросов не возмутился, словно они тоже знали, что, пока у них будет ежедневная порция спиртного, они будут спасены от самих себя.
Рейнольдс перевел взгляд на капитана Макреди. Тот тоже покинул судно и теперь сидел на каком-то тюке, рядом с железной клеткой, которую метис Петерс установил на снегу для собак. Капитан был укутан в несколько шерстяных плащей, поверх которых надел непромокаемую накидку, а на голове у него красовалась шапка с наушниками, одна из тех шапок, какие в шутку называли «валлийскими париками». Наблюдая за мощной фигурой капитана, сидевшего совершенно неподвижно, как будто он позировал художнику, Рейнольдс понял, что должен немедленно вывести всех их из этого оцепенения, пока экипаж в полном составе не погрузился в беспробудную спячку. Пришла пора просить Макреди, чтобы он выделил людей для обследования местности, после чего они могли бы продолжить путь к цели, сулившей им в случае успеха такую славу и такое богатство, о которых они не могли и мечтать: найти проход к центру Земли.
Жан-Мишель Генассия. Удивительная жизнь Эрнесто Че
- Жан-Мишель Генассия. Удивительная жизнь Эрнесто Че. — М.: Азбука-Аттикус, 2014. — 416 с.
Французский писатель и сценарист Жан-Мишель Генассия, автор романа «Клуб неисправимых оптимистов», отмеченного французскими лицеистами Гонкуровской премией, создал вторую книгу — «Удивительная жизнь Эрнесто Че». Главный герой повествования — врач по имени Йозеф. Хотя молодому медику, по воле случая оказавшемуся в Алжире, удается лечить местных крестьян и даже бороться с эпидемией чумы, при столкновении с коричневой чумой, обескровившей Европу, он оказывается бессилен. Единственное, что не поддается коррозии в насквозь больном веке, — это любовь.
На второй год жизни в Париже Йозефу пришлось решать моральную проблему исключительной важности. В охваченной пожаром гражданской войны Испании лилась кровь. Генерал Франко твердо вознамерился вернуть утраченные позиции и на всех фронтах теснил войска республиканского правительства, погрязшего во внутренних распрях. Нацистская Германия и фашистская Италия поддерживали франкистов, а демократические державы препирались друг с другом и уклонялись от реальной помощи. Возглавляемое Леоном Блюмом1 правительство Народного фронта, у которого было много проблем в собственной стране, пошло на поводу у пацифистов и заняло позицию «невмешательства во внутренние дела другого государства», развязав фашистам руки.
Пятьдесят тысяч добровольцев из разных уголков мира стали членами интербригад2, воевавших за Республику. Большинство никогда не держали в руках оружия, и тем удивительнее был их смелый порыв отправиться в незнакомую страну и бросить вызов смерти. Все пребывали в возбуждении и только что не соревновались за право уехать раньше остальных. У каждого имелся собственный канал и проводники. Друзья Йозефа не сомневались, что он будет в числе первых волонтеров, а он думал, вступить ему в одну из французских бригад или присоединиться к батальону Домбровского3, где сражались поляки, чехи и венгры.
Вивиан определенно оказывала дурное влияние на Йозефа. Когда он сказал, что поедет в Испанию и будет сражаться, она спросила, что заставило его принять такое решение. Йозеф объяснил, что гражданская война в Испании не обычная братоубийственная война, а смертельное противоборство двух мировоззрений. От исхода зависят фундаментальные свободы.
— Какое тебе дело до страны, где ты ни разу не был? — не успокаивалась Вивиан.
Йозеф попытался объяснить по-другому:
— Фашисты сражаются с демократами. Если они возьмут верх, все будет кончено. Церковь и капитализм победят.
Вивиан ничего не понимала в политике.
— Думаешь, испанцы придут сражаться за чехов, если русские нападут на вас?
Йозеф решил дождаться конца учебного года, объяснив друзьям, что его временное отсутствие не решит исхода войны, зато он получит диплом биолога и будет гораздо полезней общему делу. Йозеф говорил уверенным тоном, давая понять, что никому не позволит усомниться в себе. Все его время занимали исследования, лекции в Институте Пастера и Вивиан. Он перестал ходить на собрания и демонстрации и весьма скептически высказывался о безрассудном энтузиазме товарищей, выдававших желаемое за действительное.
По-настоящему Йозефа интересовали только патогенные факторы4, грядущее выделение вируса оспы, использование пенициллина для лечения бактериальных инфекций и работа по поиску противотуберкулезного антибиотика.
Ну и диссертация — в свое время. Фундаментальный труд о сипункулидах5.
Кое-кто поглядывал на Йозефа с недоверием, другие перестали с ним разговаривать, узнав, что он ночи напролет танцует с Вивиан на балах на площади Бастилии. Витиеватые объяснения Йозефа — мол, можно быть социалистом и обожать вальс (одно совсем не противоречит другому) — никого не убеждали.
Товарищи отправились в Испанию без него. Эрнест тоже поехал, но это само собой разумелось — у него ведь была депрессия.
Йозеф отказывался признавать, что он, как и все остальное население, заразился фатализмом и покорностью судьбе. Каждый день приходили дурные вести, подтверждавшие, что Республика обречена. Потерял Йозеф и дружбу Марселена: когда он заявил, что его призвание — лечить, а не убивать, тот ответил взглядом, исполненным немыслимого презрения, и ушел — не сказав ни слова, не пожав ему на прощание руки. Позже Йозеф узнал, что Марселен вступил в батальон анархистов, сражавшихся в Барселоне. Там было очень жарко.
А потом, однажды вечером, Йозеф забыл Вивиан. Невероятно, но факт…
Любовь как будто стерли ластиком.
Может, привязанность растворяется в воздухе, не оставляя после себя ни малейшего следа? Если так, она — плод нашего воображения.
Их ужины, вечера в Ножане, ночи любви… все исчезло, испарилось. Он вспомнил о Вивиан, танцуя томное танго в «Элизе-Монмартр» с бретонкой из Лорьяна, которая ужасно нервничала и все время хихикала, но извиняться не пошел, сказав себе: будет правильней подождать — пусть остынет. Он придумывал всяческие отговорки и объяснения, потом решил сослаться на сложную операцию в клинике. Прошел день, другой, суббота и воскресенье, но Вивиан не появилась. Не пришла она и в понедельник. Никто ничего о ней не знал. Йозеф чувствовал досаду, гадал, не попала ли она в аварию на машине, не случилось ли несчастье у нее в семье? А может, она просто потеряла память?
Он больше никогда не встречал Вивиан ни в одном из тех мест, где они когда-то бывали.
Странный способ расставания. Странный, но, возможно, лучший? Расставание по взаимному согласию, в котором нет ни победителя, ни побежденного.
Получается, нас не было?
Вскоре после защиты диссертации Йозеф получил предложение занять должность в алжирском филиале Института Пастера.
Таких престижных предложений два раза не делают.
Йозеф не помнил, кто из философов сказал, что удача не стучится в дверь человека дважды. Не ухватишь ее за хвост, это сделает кто-нибудь другой. Немногие оставшиеся у него друзья заметили, что он в конечном итоге ничем от них не отличается, раз пожертвовал убеждениями ради карьеры. Он отвечал, что Испанской республике уже не поможешь, победа Франко неизбежна, так что нет никакого резона ввязываться в схватку чести — о да, полную величия и героизма, но совершенно бессмысленную и самоубийственную. Он продолжит борьбу на свой манер, в Алжире.
Это было бурное время. Проглотив Австрию, Гитлер решил присоединить к Германии Судетскую область, которая по Версальскому договору принадлежала Чехословакии. Франция и Великобритания были связаны с Чехословакией союзническим договором, и угроза новой мировой войны стала реальностью. Все страны начали мобилизацию. В Мюнхене, на конференции последнего шанса6, премьер-министр Соединенного Королевства и председатель правительства Франции спасли мир, отдав Чехословакию на растерзание фюреру. Войны удалось избежать, все испытали облегчение и сделали вид, что забыли о нарушенных обязательствах и не заметили, что совершили стратегический просчет. Благодарные народы приветствовали своих руководителей, а те чувствовали стыд за сговор.
Йозеф позвонил отцу, спросил, как он поживает, и поинтересовался его мнением касательно полученного предложения. Жалованье ему пообещали небольшое, события на родине приобрели угрожающий оборот, так что он бы предпочел вернуться в Прагу. Эдуард принялся разубеждать сына: его присутствие в Чехословакии хода истории не изменит, а упустить представившийся исключительный шанс нельзя ни в коем случае. Лучшая лаборатория мира выбрала Йозефа среди множества других претендентов, и отцовское сердце полнится счастьем: честь, оказанная Каплану-младшему, оправдывает все жертвы, принесенные Капланом-старшим. Эдуард заставил Йозефа поклясться, что он уедет в Алжир.
Четыре дня спустя он должен был сесть на корабль в Марселе, чтобы через двадцать шесть часов оказаться в Африке.
В ночь перед отправлением Йозефу приснился кошмар, он проснулся в холодном поту, дрожа всем телом. Во сне он брел по бойне, вокруг лежали горы трупов — мужчины с перерезанным горлом, женщины со вспоротыми животами. По пятам за ним следовал мясник с выколотыми глазами, в затылок ему дышали мертвецы. Потом на него прыгнул монстр — и тут же исчез, как по волшебству. Наступила леденящая душу тишина. С потолка лилась кровь, Йозеф был весь липкий и постепенно погружался в красный зыбучий песок, размахивал руками, пытаясь удержаться на поверхности.
Утром Йозеф кинулся в почтовое отделение на авеню Сент-Антуан и три часа прождал вызова, рискуя опоздать на пароход. Наконец его соединили, отец как раз собирался уходить из кабинета. Йозеф стал уговаривать его бежать, пока еще есть время, но Эдуард ничего не хотел слышать. Йозеф раз десять повторил, что умоляет отца покинуть Чехословакию, но тот твердо решил остаться. Да, десятки тысяч чехов собирают чемоданы, но он не уедет, потому что не чувствует никакой угрозы. Большинство здравомыслящих пражан считают, что Гитлер не идиот и не нападет на союзников, что рано или поздно он в поисках жизненного пространства вторгнется в Россию, она — его главный враг. Чехам бояться нечего: единственное, что нужно фюреру, — это их военные заводы.
По пути в Алжир была сильная качка, шумели двигатели, и Йозеф провел ночь на палубе, наблюдая за тремя чайками, летавшими над форштевнем. Еще до захода солнца в воздухе разлился молочно-голубоватый свет. Чайки скрылись из виду. Йозеф проводил их взглядом и вдруг заметил вдалеке слева по борту неясные очертания суши.
«Нет, это не Испания! — подумал он. — Здесь нет никакой земли».
Далеко на горизонте, между небом и морем, змеилась багровая линия, едва освещенная пробивающимся сквозь облака светом.
«Если бы я поддался движению души, был бы сейчас мертв».
1 Блюм, Андре Леон (1872–1950) — французский политик, первый социалист и первый еврей во главе французского правительства.
2 Интербригады — вооруженные подразделения, сформированные из иностранных добровольцев, участвовавшие в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев в 1936–1938 гг.
3 Батальон Домбровского — XIII интернациональная бригада имени Я. Домбровского — воинская часть, составленная в основном из поляков, участвовавшая в гражданской войне в Испании на стороне республиканских войск.
4 Патогенный фактор — болезнетворный возбудитель.
5 Сипункулиды — тип морских червеобразных организмов.
6 Конференция проходила в конце сентября 1938 г. В Мюнхене встретились политики западных держав — Англии и Франции, с одной стороны, и Германии и Италии — с другой. Соглашение, подписанное 30 сентября, касалось передачи Германии Судетской области Чехословакии.
Эрленд Лу. Переучет
- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, 2014. — 160 с.
В издательстве «Азбука» выходит новый роман Эрленда Лу «Переучет». Поэтесса Нина Фабер, чья «тактичная лирика была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента», была не замечена жюри главной в Скандинавии литературной премией. Уехав в Стамбул, Нина долго хранила молчание и лишь десятилетие спустя решилась выпустить новый сборник стихов «Босфор». Но разгромная и вопиюще несправедливая рецензия в университетской газете лишила поэтессу терпения: теперь кто-то должен заплатить по всем счетам.
Бытовало мнение, что в семидесятых Нину Фабер обошли главной на всю Скандинавию литературной премией. Тактичная лирика Нины была
по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном,
крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия,
вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом
доставалась другим. Ее получали датчане, финны, шведы, неловко сказать, исландцы. Деньги и
признание не были бы Нине лишними. Другим,
видимо, тоже.В восьмидесятые у тонкой, ломкой лиричности
не было шанса тягаться с формализмом и экспериментом, не говоря уже о втором-третьем-пятом уровнях в мегатексте девяностых.Начало нового тысячелетия вернуло Нине
шанс, но ее вера в себя ослабела, а в ближайшем
кругу ее списали с поэтических счетов. Нине не
работалось, у нее все подряд не клеилось. Она собачилась с сыном, переругалась с друзьями и в целом была разочарована в жизни, баловавшей ее
не больше мачехи.Нина пустилась во все тяжкие. Старые приятели из Совета по делам литературы выбили ей
трехлетнюю творческую стипендию. Нина расплакалась от радости. И пропала с радаров на несколько лет. Поговаривали, что она пьет, вроде пишет,
кажется, завела роман в Стамбуле. Внезапно она
вернулась, сняла домик с тремя сотками в городском садовом товариществе (она полжизни значилась в листе ожидания) и помирилась с сыном
Людвигом. Умерила питейный раж и отпраздновала шестьдесят пять без шума и пыли.Четырнадцать месяцев подряд она писала, обложившись сотнями страниц черновиков и записей, привезенных из Стамбула. Сочинялось на
одном дыхании, совестно работой назвать. Нина
цвела. Сто семьдесят стихотворений представила она на суд прежнего своего редактора, найдя
его после двенадцатилетнего перерыва. Они ровесники, Като Волд был женат, но, естественно,
развелся, снова женился и опять развелся, он
обладатель завидной должности в престижном
издательстве, хотя в своем цеху далеко не главный гений. Было время, Като трепетал перед литературой, но те дни давно миновали. Зато человек Като приличный. Часто ходит в театр и на
лыжах и не рвется облапошить человека без повода. В основу стихотворного цикла, названного
Ниной «Босфор», легли ее впечатления от пейзажа за окном стамбульской квартиры. Вдохновляясь импрессионистами, она описывала один и
тот же вид из окна, город, мост, улочки, в зависимости от погоды и настроения пробуждающие час от часу и тем более день ото дня несхожие ассоциации.Като Волд прочел, и ему понравилось. Он не
ждал от Нины ничего, тем более такого уровня.
Вместе они отобрали восемьдесят стихотворений.
Книга откроет перед Ниной двери, закрытые десятки лет, и вернет ей уверенность в себе. Сообщит читателю, что Нина не только жива, но и пишет как никогда хорошо. Так, по крайней мере, показалось Като. Он не преминул даже сказать, что
и «Книжный клуб» не устоит перед таким соблазном, и хотя на деле тот устоял, восторгов и ожиданий насчет «Босфора» поначалу было много.Сама Нина книгой была довольна, но не разделяла уверенности Като и издательства в том,
что успех предрешен. Мир очень изменился. Авторитетные литературные критики, частью знакомые ей по альковным делам, вышли в тираж,
их заменили юные законодатели мод завтрашнего дня, а с ними как-то и не переспишь. Не то чтобы
Нина в постели добывала восторженные рецензии на свои книги, но она тепло вспоминала то
фантастическое время, когда граница между пишущей братией и критиками была приятно эфемерной и люди с обеих сторон, да что там, со всех
сторон составляли одну, как говорится, большую
семью. Практично и душевно было все устроено.
Но этот поезд ушел, давно и безвозвратно, и сентябрьским утром в начале второго десятилетия
нового века, в день выхода «Босфора» в свет, Нина Фабер начеку и на взводе, даром что и так была вся на нервах последние недели. Срывалась и
раздражалась по любому пустяку. Впрочем, последние лет десять это ее привычное состояние.
Она давно все про себя поняла. Когда-то ей были
открыты все пути. Она могла получить любую
специальность, стать медицинским работником
например. Эта мысль преследует Нину. Ее жизнь
могла быть иной. Доктор Фабер. Сам по себе титул неизбежно вызывал бы трепет и уважение
окружающих. Не говоря уже о наполнении пенсии в те же ее шестьдесят семь лет. Или стала бы
окружным судьей. Да мало ли прекрасных работ.
Хоть бы и совсем скромно — учителем. Жила
бы, как люди обычно живут, на обычные деньги,
плюс оплаченный отпуск и соцпакет. А так стала
дилетантом, считает Нина. Раньше не была, а теперь стала. Она полагала, что с возрастом и опытом придут основательность и спокойствие, но
все наоборот, сильнее становятся только стресс и
страх не оказаться в отличницах. Чувство, что она
обязана что-то доказать, стало гораздо сильнее.*
Себя Нина считает никчемной. Да, у нее бывали счастливые минуты, слова легко подчинялись
ей, и она сочиняла из них тексты, издавала, но
механика этого дела недоступна рациональному
объяснению, Нина ею не владеет. Кое-что ей в
жизни удалось, свидетельством тому книги, но
как она умудрилась написать их, неизвестно. Нина не приручила стихи, они рождаются сами,
когда вздумают, отчего не чреватое ни деньгами,
ни всеобщими восторгами стихоплетство легко
обесценивается, особенно в глазах самой Нины,
тем более в мрачный период, из коих ее жизнь по
преимуществу и состоит.Нина судит себя беспристрастно и видит, что
иногда преуспевает в незачетных активностях, но
все анкетно-статусное не дается ей, вся эта конкретная сторона жизни, практическая, межличностная. Нина всегда ненавидела вопрос, где она
работает. Люди в основном имеют нормальную
работу, некоторые служат даже экспертами. Услуги, предлагаемые ими, востребованы, за них платят серьезные деньги. Господи, не раз думала Нина, в самый тучный свой год я зарабатываю в несколько раз меньше простого электрика, а они
учатся совсем недолго и на всю жизнь обретают
хлебную профессию. Поменять провода, поставить розетки или распределительный щиток —
нужда в этом есть всегда. А ее стихи игнорируют
законы электромагнетизма, не способствуют росту ВВП, рассчитаны на фантазеров и мечтателей. В свое время у нее был круг читателей, но ее
ровесники, когда-то бредившие стихами, давно
стали как все и переключились на биографии политиков.*
Вначале Нина гордилась принадлежностью к
насту, к тонкой прослойке рисковых и бедовых
идеалистов, они выгрызают истинную сущность
жизни из каждого мгновения, данного остальным
лишь для забот о размере будущей пенсии, но уже
много лет как она презирает всех писак, включая
себя, а также все, что написала или пишет. Хотя
машинально то и дело мысленно ставит метку,
собирая впрок всякий сор для будущих стихов.
А они прут и прут, сами, почему так происходит,
неизвестно, но они рвутся наружу, как бы Нина
ни артачилась. Аж тошно. Хотя теперь-то уж что,
столько лет она таким манером жила, теперь только зубы стиснуть и дотерпеть. Еще два года, и она
получит пенсию. Да, минимальную, социальную,
а все же стабильность. Деньги каждый месяц. Если питаться разваренным горохом, а иногда разводить из него супчик с беконом, то можно жить
неделями на несколько сотенных, главное пить не
начать, но с этим она почти завязала. Отсутствие
планомерности и дотошности — вот что Нина
всерьез в себе презирает. С ранней молодости мечтала она, например, сдать на пилота легкого самолета, но упорно отодвигала мечту покружить над пустыней на потом, когда появятся лишние
деньги, отчего-то она всегда видела себя в кабине
кукурузника именно над барханами: ветер собрал
пески в причудливые зыбкие звезды, и Нина с
воздуха фотографирует их для престижного журнала. Из этого ничего не вышло, Нина сдалась, и
не столько из-за денег, хотя и это оставалось проблемой, но признав, что ей не хватит дотошности
и четкости. Она никогда не учтет всех нюансов,
что подлежат учету. К гадалке не ходи, не совсем
оптимальные погодные условия не удержат ее от
полета. И станет она новостью в разделе происшествий, типа: спортивный самолет потерпел аварию, врезавшись в тумане в горный склон или
выработав в ноль топливо где-то в северном Хельгеланне. В царстве поэзии интуиция изредка помогает ей, но в реальном мире дефицит четкости
означает смерть. Эта нехватка дотошности давно
породила в Нине презрение к себе, для избавления от него она с переменным успехом практиковала работы в саду, чтение, хождение босиком по
росе, временами алкоголь. В это сентябрьское утро страх и напряжение достигли апогея. Что, если
вновь фиаско? Сможет ли она жить дальше с тем
же ощущением приниженности? Она хочет опять
расправить плечи, вовремя оплачивать счета, а в
глубине души мечтает, конечно же, что взойдет ее звезда.