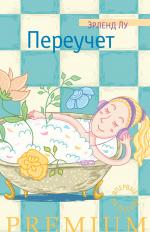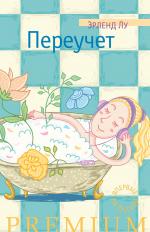- Жауме Кабре. Я исповедуюсь. — СПб: Азбука, Иностранка, 2015. — 736 с.
В издательстве «Иностранка» выходит бестселлер каталонского писателя Жауме Кабре. Адриа Ардевол, главный герой романа «Я исповедуюсь», в 60 лет узнает, что страдает болезнью Альцгеймера. Прежде чем мужчина окончательно утратит память, он стремится поделиться своими воспоминаниями, записывая автобиографию в виде прощального письма, адресованного единственной возлюбленной.
Адриа вырос в семье, где душевной близости не было места. Отец Ардевола был одержим страстью к старинным вещам и любил их больше, чем родного сына. С годами Адриа обнаружил, что так же, как и отец, одержим страстью обладания предметами с историей. Самым ценным экспонатом семейной коллекции была скрипка Сториони XVIII века, и ее провенанс полон ужасающих тайн. Герой романа был убежден, что именно нарушение запрета прикасаться к старинному инструменту стало причиной внезапной смерти его отца.9 В то воскресенье, запомнившееся мне потому, что отец был в хорошем настроении, родители принимали у себя профессора Прунеса — согласно мнению отца, лучшего в мире палеографа среди
ныне живущих, с супругой (лучшей в мире супругой лучшего в мире палеографа среди ныне живущих). Отец подмигнул мне, но я
ничего не понял, хотя и знал, что он намекает на некий важный
подтекст. Я не мог расшифровать этот намек как раз потому, что
контекстом не владел. Кажется, я тебе уже говорил, что был занудой. Они беседовали за кофе: о том, что такой прозрачный фарфор
делает кофе особенно вкусным, о манускриптах… Временами в беседе наступали неловкие паузы. В какой-то момент отец решил покончить с этим. Громким голосом, чтобы я услышал из своей комнаты, он отдал приказ:— Сын, иди сюда! Слышишь меня?
Еще бы Адриа не слышал! Но он боялся, что разразится катастрофа.
— Сыыын!
— Да? — словно издалека откликаюсь я.
— Иди сюда!
Выхода нет, нужно идти. У отца блестят глаза от коньяка, чета
Прунес смотрит на меня с симпатией. Мама разливает кофе и делает вид, что ее тут вовсе нет.— Да? Добрый день!
Гости откликнулись «добрый день» и перевели заинтригованные взгляды на сеньора Ардевола. Отец наставил на меня палец
и скомандовал:— Посчитай по-немецки.
— Отец…
— Делай, что я тебе говорю! — Глаза отца горели от коньяка.
Мама разливала кофе, пристально глядя в чашки тонкого фарфора, которые делают кофе еще вкуснее.
— Eins, zwei, drei.
— Не бормочи, говори внятно, — остановил меня отец. — Начни
заново!— Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. — Я запнулся.
— Дальше? — рявкает отец.
— Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn.
— И так далее и так далее и так далее. — Отец говорит, как падре д’Анжело. Потом сухо приказывает: — Теперь по-английски.
— Уже достаточно, Феликс, — подает наконец голос мама.
— Он говорит по-английски. — И маме резко: — Не так ли?
Я подождал пару секунд, но мама промолчала.
— One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
— Очень хорошо, мальчик! — сказал с энтузиазмом лучший
в мире палеограф из ныне живущих. А его супруга молча аплодировала, пока отец не оборвал их: подождите, подождите — и повернулся ко мне:— Теперь на латыни.
— Но… — восхищенно запротестовал лучший в мире палеограф
из ныне живущих.Я посмотрел на отца, потом на маму, которая чувствовала себя
так же неловко, как и я, но не отрывалась от кофе. Я начал:— Unus una unum, duo duae duo, tres tria, quattuor, quinque, sex,
septem, octo, novem, decem. — И умоляюще: — Папа…— Закрой рот! — сухо оборвал отец. И посмотрел на профессора Прунеса, который бормотал: черт возьми, просто восхитительно!
— Какая прелесть! — сказала супруга доктора Прунеса.
— Феликс… — открыла рот мама.
— Помолчи! — бросил отец. И, обращаясь к гостям: — Это еще
не все!Он тычет в мою сторону пальцем:
— Теперь на греческом.
— Heis mia hen, duo, treis tria, tettares tessares, pente, hex, hepta,
octo, ennea, deka.— Восхитительно! — Теперь чета Прунес аплодирует, словно
сидят в театре.— Хау!
— Не сейчас, Черный Орел.
Отец указал на меня, сделал жест сверху вниз, словно ловил
морского окуня, и с гордостью произнес:— Двенадцать лет. — И мне, не глядя в мою сторону: — Теперь
можешь идти.Я закрылся в комнате, уязвленный тем, что мама даже пальцем
не пошевелила, чтобы спасти меня из дурацкого положения. Я с головой погрузился в Карла Мая, дабы забыть о своих горестях. Ранний вечер воскресенья медленно перетек в поздний, а затем и в ночь.
Ни Черный Орел, ни достойный Карсон не осмелились отвлечь меня от моего горя.В один прекрасный день я узнал настоящее лицо Сесилии. Я долго старался рассмотреть его. Зазвонил колокольчик на двери в магазине. Адриа, сказав маме, что идет на тренировку школьной команды по гандболу, а сеньору Беренгеру — что делает уроки, сидел
в углу и тайком рассматривал пергаментные страницы латинского
манускрипта тринадцатого века. Он практически ничего не понимал, однако манускрипт вызывал в нем сильные эмоции. Колокольчик. Адриа решил, что это неожиданно вернулся отец из Германии
и сейчас устроит ему выволочку. Тем более что он всем наврал.
Я посмотрел в сторону двери: сеньор Беренгер, надевая пальто, что-то торопливо говорит Сесилии — это пришла она. После чего, держа шляпу в руке, выскакивает вон с недовольным лицом, даже не
попрощавшись. Сесилия осталась стоять у двери, напряженно о
чем-то думая. Я не знал, поздороваться с ней или подождать, пока
она сама меня не заметит. Лучше, наверное, поздороваться… или
промолчать? Но тогда она удивится, когда увидит меня… а что делать с манускриптом… лучше сказать… нет, спрятать и потом… или
подождать, пока увидит… Пора мысленно переходить на французский.Я решил не обнаруживать себя. Сесилия тяжело вздохнула и
прошла в кабинет, на ходу снимая пальто. Не знаю почему, но в тот
день атмосфера была давящей. Сесилия не выходила в магазин.
Вдруг я услышал, что кто-то плачет. Сесилия плачет в кабинете.
Мне захотелось сквозь землю провалиться, потому что совершенно невозможно, чтобы она поняла, что я слышал, как она плачет.
Взрослые люди плачут время от времени. А если пойти утешить
ее? Мне было ужасно жаль Сесилию, потому что она всегда так хорошо держалась, и даже мама, которая с презрением смотрела на
всех женщин около отца, отзывалась о ней хорошо. Кроме того, когда взрослый плачет, а ты ребенок — это производит большое впечатление. Поэтому Адриа хотелось исчезнуть. Женщина начала ожесточенно крутить диск телефонного аппарата. Я представлял ее —
расстроенную, рассерженную, не понимая, что на самом деле в
опасности был я: Сесилия в любой момент могла закрыть магазин
и уйти, а я бы остался, запертый в четырех стенах.— Ты — трус! Нет, дай мне сказать! Ты — трус! Пять лет ты поешь мне песню — ах, Сесилия, в следующем месяце я все ей объясню, я тебе обещаю. Трус! Пять лет кормишь меня пустыми обещаниями. Пять лет! Я уже не девочка, слышишь!
С последним я был полностью согласен. Про остальное не понял ничего. И, как назло, Черный Орел остался дома и мирно дремал на ночном столике.
— Нет, нет и нет! Сейчас говорю я! Мы никогда не будем жить
вместе, потому что ты меня не любишь. Нет, помолчи! Сейчас я говорю. Я сказала тебе — помолчи! Можешь засунуть себе в задницу
все свои красивые слова. Все кончено. Слышишь? Что?Адриа за своим столом с книгами гадал: что кончено? Он вообще не мог понять, отчего взрослые вечно так озабочены этим «ты
меня не любишь», если любовь — это жуткая гадость с поцелуями
и всем таким.— Нет. Не надо мне ничего говорить. Что? Потому что я повешу трубку, когда мне приспичит. Нет, дорогой, когда мне на то будет охота.
Первый раз я услышал такие слова — «приспичит», «охота».
Было забавно слышать такое из уст самого хорошо воспитанного
человека из моего окружения.Сесилия бросила трубку на рычаг с такой силой, словно хотела
разбить телефон. И принялась наклеивать этикетки на новые предметы, а потом делать записи в приходно-расходной книге: сосредоточенная и спокойная, словно тут не бушевала буря несколько минут назад. Мне не составило труда выскользнуть наружу через боковую дверь, а потом снова войти, уже с улицы, и сказать «привет!».
И убедиться, что на лице Сесилии, всегда тщательно ухоженном,
не осталось ни следа от слез.— Как дела, красавчик? — улыбнулась она.
А я замер, потому что передо мной вдруг оказался другой
человек.— Что ты попросил у волхвов? — поинтересовалась она.
Я пожал плечами, потому что дома у нас никогда не праздновали День волхвов1, ведь подарки детям дарят родители, и нечего
потворствовать глупым предрассудкам. Как только я узнал про волхвов, я узнал и то, что ожидание даров в моем случае сводится к ожиданию, какое решение примет отец: что
на этот раз должно стать
моим подарком (или подарками). Выбор подарка никак не зависел
ни от моих успехов в учебе, ни от моего поведения (они должны быть
образцовыми, это не обсуждалось). Но мне дарили что-нибудь подчеркнуто «детское», ярко контрастировавшее с общей серьезной
атмосферой нашего дома.— Я попросил… — Я вспомнил, как отец говорил, что подарит
мне машину с сиреной, но горе мне, если я буду играть с ней в доме
и шуметь.— Ну-ка, поцелуй меня! — сказала Сесилия, притягивая меня
к себе и приобнимая.Через неделю отец вернулся из Бремена с микенской вазой, которая потом много лет стояла в магазине, и, как я понял, с целой
кучей бумажных находок. Там было несколько настоящих жемчужин — первые издания, авторские рукописи — и манускрипт четырнадцатого века, который, по словам отца, станет украшением
его коллекции. И дома, и в магазине ему сообщили, что за время
его отсутствия было несколько странных телефонных звонков. Звонившие просили сеньора Ардевола. А ему будто было наплевать на
то, что должно было произойти через несколько дней, он сказал
мне: смотри, смотри, какая прелесть — и показал какие-то тетрадки. Это были наброски, сделанные Прустом незадолго до смерти.
Мелкая вязь скорописи, заметки на полях, отдельные предложения,
стрелки, бумажки, скрепленные скрепками… Ну-ка, прочти вот это.— Я не понимаю.
— Да боже мой, ну же! Это финал. Последние страницы, последняя фраза. И не говори мне, что не знаешь, как заканчивается
«В поисках утраченного времени».Я ничего не ответил. Отец, поняв, что переборщил, решил скрыть
неловкость хорошо знакомым мне приемом:— Только не говори, что ты все еще не понимаешь французский
текст!— Oui, bien sûr2, но мне не разобрать почерк!
Отец, видимо, не нашел что сказать. Он молча захлопнул тетрадку и спрятал ее в сейф, бормоча себе под нос: нужно наконец
принять решение — слишком много ценных вещей теперь в этом
доме. А мне послышалось, что слишком много мертвых людей в
этом доме.10 — Папа… Видишь ли, сын… Папа…
— Что? Что с ним случилось?
— Он теперь на небесах.
— Нет никаких небес!
— Папа умер.
Меня больше поразила мертвенная бледность маминого лица,
чем ее слова. Казалось, это она умерла. Она была бледна, как скрипка юного Лоренцо Сториони до того, как ее покрыли лаком. И —
глаза. Полные тоски. Я никогда не слышал, чтобы мама говорила
таким голосом. Избегая глядеть на меня, она не отрывала взгляда
от пятна на стене возле кровати и шептала: я не поцеловала его,
когда он уходил из дому. Может быть, этот поцелуй спас бы его.
А потом еле слышно добавила: если он того заслуживал. Но это
мне, наверное, только показалось.Все это было невозможно понять, поэтому я закрылся в неубранной комнате со своей машиной «скорой помощи» — подарком
волхвов. Сел на кровать и тихо заплакал. У нас всегда дома было
тихо, потому что если отец не изучал манускрипты, то он либо читал, либо… умирал.Я не выяснял подробности у мамы. И не видел мертвого отца.
Мне сказали, что произошел несчастный случай: его сбил грузовик
на улице Аррабассада, которая находится далеко от Атенеу3, и что,
в общем, тебе никак нельзя его увидеть. Меня захлестнула паника:
нужно срочно найти Берната, прежде чем мир рухнет и меня посадят в тюрьму.— Малыш, зачем он взял твою скрипку?
— А? Что?
— Зачем папа взял твою скрипку? — повторила Лола Маленькая.
Сейчас все откроется и я умру от страха. Но пока мне еще хватило сил собраться духом и соврать:
— Он просто забрал ее. Не знаю зачем, он не сказал. — И прибавил в отчаянии: — Он в последнее время был очень странным,
папа.Когда я вру, что случается частенько, я уверен, что всем это
очень заметно. Кровь бросается мне в лицо, у меня чувство, что я
становлюсь красным как рак, я судорожно ищу незамеченные несообразности, которые могут обрушить здание возведенной мною
лжи, думаю, что меня сейчас разоблачат, — и каждый раз удивительным образом мне все сходит с рук. То есть мама просто ничего
не замечает, а вот Лола Маленькая, я уверен, все замечает, но притворяется, что нет. Загадочная вещь — ложь. Сейчас, став взрослым
человеком, я все еще краснею, если вру, и слышу голос сеньоры Анжелеты, которая однажды, когда я уверял, что не брал шоколадку,
просто взяла меня за руку, раскрыла мне пальцы и продемонстрировала маме и Лоле Маленькой позорные шоколадные пятна на ладони. Потом согнула мои пальцы, закрыв ладонь, словно книгу, и
сказала: все тайное становится явным, помни об этом, Адриа. Я помню, сеньора Анжелета. До сих пор, хотя мне уже стукнуло шестьдесят. Мои воспоминания высечены в мраморе, сеньора Анжелета,
и мрамором станут. Но сейчас дело не в украденной плитке шоколада. Я делаю грустное лицо, что совсем не трудно, потому что чувствую себя страшно виноватым и очень боюсь. Я начинаю плакать,
потому что отец умер и…Лола Маленькая вышла из комнаты, и мне слышно, как она
с кем-то разговаривает. С кем-то незнакомым, от кого крепко пахнет табаком. Он говорит не по-каталански, а по-испански. Он не
разделся в прихожей, шляпу держит в руках. Он вошел в мою комнату и спросил, как меня зовут.— Адриа.
— Почему папа забрал у тебя скрипку? — Эта настойчивость
утомляет.— Не знаю, клянусь!
Человек показывает обломки моей скрипки для занятий:
— Узнаешь?
— Пф… Это моя скрипка. Была моя скрипка.
— Он попросил ее у тебя?
— Да, — вру я.
— И ничего не объяснил?
— Да.
— Он играл на скрипке?
— Кто?
— Твой отец.
— Нет, что вы!
Я прячу ехидную улыбку: отец, играющий на скрипке! Человек
в пальто, со шляпой в руке, воняющий табаком, смотрит на маму
и Лолу Маленькую. Те молча слушают наш разговор. Тычет шляпой в сторону «скорой помощи», которую я держу в руках: очень
красивая машинка. И выходит из комнаты. Я остался наедине со
своей ложью и ничего не понимал. Изнутри «скорой» на меня с жалостью смотрит Черный Орел: он презирает тех, кто лжет.Похороны были мрачными, множество серьезных мужчин со
шляпами в руках и женщин, чьи лица прикрывали черные вуалетки.
Приехали двоюродные братья из Тоны и какие-то очень дальние
родственники из Боск-д’Ампоста. Первый раз в жизни я оказался
в центре внимания, одетый в черное, причесанный на косой пробор, с зализанными волосами; Лола Маленькая намазала мне на голову двойную дозу фиксатора и сказала, что я просто красавчик. И
поцеловала в лоб, чего никогда не делала мама. Говорили, что отец
лежит в закрытом гробу, но проверить это я не мог. Лола Маленькая сказала, что тело очень изувечено и лучше его не видеть. Бедный отец, целые дни проводить за изучением книги и всяких редкостей, а потом раз — и ты уже умер, а тело твое изувечено. Что за идиотская штука — жизнь! А что, если эти раны, про которые говорит Лола Маленькая, — от кинжала кайкен из магазина? Хотя нет:
сказали же, что его сбила машина.Какое-то время мы жили с опущенными шторами, а вокруг меня все шептались. Лола не оставляла меня одного, а мама проводила часы, сидя в кресле, в котором обычно пила кофе, перед пустым
креслом отца. Но она не пила кофе, потому что было не время. Все
это так сложно. Я не знал — может, сесть в пустое кресло? Но мама
меня не видела, а когда я ее окликал, брала меня за руку и при этом
молча смотрела на рисунок обоев. А я думал — ну и ладно, и не садился в отцовское кресло, полагая, что это все от тоски. Мне тоже
было грустно, но я, наоборот, смотрел по сторонам. Это были очень
печальные дни, я перестал существовать для мамы. Потом пришлось к этому привыкнуть. Кажется, с того дня мама вообще меня
больше не замечала. Должно быть, она чувствовала, что во всем виноват я, и потому не желала больше знать обо мне. Иногда она смотрела на меня, но лишь для того, чтобы дать мне какие-нибудь указания. Забота обо мне целиком перешла в руки Лолы Маленькой.
До какого-то момента.Однажды мама без предупреждения принесла домой новую
скрипку — изящную, красивую и с отличным звучанием. И отдала
молча и не глядя на меня. Словно находясь в какой-то прострации.
Словно думала о прошлом или о будущем, но только не о том, что
делала сейчас. Я изо всех сил старался понять ее. И возобновил занятия скрипкой, которые уже много дней как забросил.Как-то, занимаясь у себя в комнате, я настраивал скрипку и натянул струну так сильно, что она лопнула. Потом лопнули еще две.
Я вышел в гостиную и сказал: мама, мне нужно сходить в «Бетховен». У меня кончились запасные струны. Она посмотрела на меня.
Да, она посмотрела в мою сторону, хотя ничего не сказала. Я повторил: мне нужно купить новые струны, и тогда из-за портьеры вышла Лола Маленькая и сказала: пойдем вместе, покажешь, какие
тебе нужны: мне кажется, они все одинаковые.Мы спустились в метро. Лола Маленькая рассказала, что родилась в Барселонете4
и что ее подруги часто звали погулять в город.
Они собирались и уже через десять минут были в нижней части
Рамблы5. И шатались по бульвару вверх-вниз как дурочки, хихикая
в ладошку, чтобы мальчики не видели. По словам Лолы Маленькой, это было даже интереснее, чем ходить в кино. А еще она сказала, что в жизни не подумала бы, что в таком тесном и темном магазинчике могут продаваться струны для скрипки. Я попросил одну
«соль», две «ми» и одну — фирмы «Пирастро» 6. Лола Маленькая
заметила: а это, оказывается, просто, можно было написать мне на
бумажке и я бы сама купила. Нет-нет, возразил я, мама всегда брала меня с собой на всякий случай. Лола Маленькая расплатилась,
мы вышли из «Бетховена». Она наклонилась, чтобы поцеловать
меня в щеку, и посмотрела на Рамблу с сожалением, но рот ладонью не прикрыла и не захихикала как дурочка. В тот момент мне пришло в голову, что я, кажется, остаюсь и без мамы тоже.Спустя пару недель после похорон в дом снова пришли какие-
то господа, говорившие по-испански, и мама снова побледнела как
мел, и вновь они с Лолой Маленькой стали перешептываться, а я почувствовал себя посторонним. И тогда я набрался смелости и спросил: мама, что случилось? Впервые за много дней она посмотрела
на меня по-настоящему. И сказала: это очень серьезно, сын, очень
серьезно. Лучше не… Но тут подошла Лола Маленькая и повела
меня в школу. Я заметил, что один мальчик странно на меня смотрит, не так, как обычно. А Риера подошел ко мне на перемене во
дворе и спросил: а ее тоже похоронили? А я: кого? Он: ну, ее тоже
похоронили, да? Я: похоронили кого? Риера только самодовольно
усмехнулся: страшно небось видеть одну только голову? И настойчиво повторил: ее тоже похоронили, да? Я ничего не понял и на всякий случай отошел в залитый солнцем угол, где шел обмен вкладышами. С тех пор я стал избегать Риеры.Мне всегда стоило труда быть как все. Потому что я таким не
был. Моя проблема — серьезная и, по мнению Пужола, неразрешимая — состояла в том, что мне нравилось учиться. Мне нравилось
учить историю, латынь, французский, ходить в консерваторию; нравилось, когда Трульолс заставляла меня отрабатывать технику игры, и я разучивал гаммы, воображая, будто выступаю перед переполненным партером. Тогда эти упражнения выходили у меня чуть
лучше. Ведь весь секрет — в звуке. Руки после многочасовых упражнений двигаются сами. И временами импровизируют. Мне очень
нравилось брать энциклопедию издательства «Эспаза» 7
и путешествовать по ее страницам. И потому в школе, когда сеньор Бадиа задавал какой-нибудь вопрос, Пужол показывал на меня и говорил,
что на все вопросы уполномочен отвечать я. А мне становится стыдно отвечать, я чувствую себя дрессированной обезьяной. А они —
словно мой отец. Эстебан же — настоящий ублюдок, который сидит
за мной, — обзывает меня девчонкой каждый раз, когда я даю правильный ответ. Однажды я сказал сеньору Бадиа, что нет, я не помню квадратный корень из ста сорока четырех, и выбежал из класса, потому что меня затошнило. Пока меня выворачивало в туалете,
туда зашел Эстебан и сказал: гляди-ка, ты у нас настоящая девчонка! Но когда отец умер, он начал смотреть на меня как-то иначе,
словно я вырос в его глазах. Несмотря на то что учиться мне нравилось, думаю, я завидовал ребятам, которые плевали на учебу и периодически получали плохие оценки. В консерватории все было
иначе. Там ты остаешься со скрипкой в руках и стараешься извлечь
из нее чистый звук. Нет, нет, это похоже на простуженную утку, послушай вот это. Трульолс берет мою скрипку и извлекает звук такой
красоты, что даже притом что она довольно старая и ужасно худая,
я готов в нее влюбиться. Этот звук кажется бархатным, от него веет тонким ароматом какого-то цветка — я помню его до сих пор.— Я никогда не научусь извлекать такие звуки! Хотя у меня
и получается вибрато.— Умение приходит со временем.
— Да, но я никогда…
— Никогда не говори никогда, Ардевол.
Хотя этот музыкальный и интеллектуальный совет был и коряво сформулирован, но именно он вдохновил меня больше всех других, полученных за мою долгую жизнь и в Барселоне, и в Германии.
К концу месяца качество звука у меня ощутимо улучшилось. Этот
звук еще не имел аромата, но уже приобрел бархатистость. Хотя сейчас, когда я думаю о тех днях, то вспоминаю, что не вернулся сразу
ни в школу, ни в консерваторию. Какое-то время я провел в Тоне,
у двоюродных братьев. А вернувшись, попытался понять, как все
произошло.
1 Праздник поклонения волхвов широко отмечается в Испании 6 января. По
библейской легенде, три царя-волхва — Мельхиор, Гаспар и Бальтасар — явились
поклониться младенцу Иисусу и принесли дары — золото, ладан и мирру. В испанской и каталонской традиции именно волхвы, а не Санта-Клаус или Дед Мороз отвечают за зимние детские подарки. Непослушных детей пугают тем, что им вместо
подарка достанется уголь.2 Да, конечно (фр.)
3 Атенеу — старейший и крупнейший культурный центр Барселоны.
4 Барселонета
— старый портовый район Барселоны, который был уже за чертой города.5 Рамбла
— главный барселонский бульвар, ведущий от площади Каталонии
к морю. Традиционно — место прогулки горожан.6 «Пирастро»
— одна из старейших фирм, производящая струны, канифоль
и средства для чистки деревянных струнных щипковых и смычковых инструментов. Основана в 1798 г. в Германии.7 «Эспаза»
— издательство, основанное в 1860 г. в Барселоне, специализирующееся на издании энциклопедий, словарей, учебников, справочников.
Метка: зарубежная проза
Без суда и следствия
- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 156 с.
Говорят, чужая душа — потемки, а внутренний мир человека искусства — тем более. Так что если вы то и дело ждете вдохновения и дарите миру свои творения, это повод обратить внимание на новый роман норвежца Эрленда Лу «Переучет». А уж если вы непризнанный и неоцененный поэт, как героиня книги, Нина Фабер, стоит внимательно отнестись к изложенным в тексте мыслям и переживаниям. Чтобы не повторить ее судьбу и не попасть под трамвай. Дважды.
Нина Фабер после долгого перерыва вновь начинает писать стихи и возлагает огромные надежды на свой новый поэтический сборник «Босфор», который должен вернуть ее творчество в поле зрения читателей и литературных критиков. Но после нескольких разгромных рецензий она буквально слетает с катушек. За день, описанный в книге, Нина совершает череду поступков, выходящих за грани приличия и даже — закона. Случайное убийство Бьерна Хансена, который отменил встречу с читателями Нины, оправдавшись переучетом в книжном магазине, не вызывает у нее ни капли сожаления. Этого мало, и обиженная писательница начинает охоту на Рогера Кюльпе, несчастного студента, не понимающего в поэзии ровным счетом ничего, но написавшего ужасный отзыв на «Босфор». Кто дал ему, некомпетентному выскочке, право так рассуждать о ее стихах — вот что волнует героиню в первую очередь:
Судя по всему, заключает Нина, у этого Кюльпе нет никаких оснований писать о ее стихах или кого другого и уж во всяком случае называть ассоциации заезженными. Сутью поэзии как раз является личное истолкование того, что все видят и переживают и даже могут описать, но не такими словами, как Нина, или Кюльпе, или я не знаю кто. Но если человек мыслит исключительно категориями массового истребления людей (студент увлекается литературой о геноциде и репрессиях), то личные заметки на тему любви, старости или мостов в Стамбуле, вероятно, кажутся ему заезженными. Нину колотит от ярости. Да как он смеет! И как он посмел…
Писательница ужасно одинока. Нет никого, с кем она была бы по-настоящему близка. Лу подчеркивает это и создает трагикомедию, добавляя в повествование забавно-грустные сюжеты из жизни Нины, одним из которых становится эпизод общения с ежиком Юсси.
Нет, он (ежик) не относится к ней плохо, он вообще не испытывает к ней никаких чувств, только к молоку. Для Юсси Нина — некое неизбежное зло, увязанное с появлением молока. Завидев Нину, ежик понимает, что близится молоко, оживляется и радуется, а Нина толкует это как доказательство связи между ней и Юсси.
Эрленд Лу делит историю на восемь этапов, во время которых в сознании героини тоже происходит «переучет». Ее действия кажутся нелогичными, реплики — порой бессмысленными. Но когда она рыдает, сидя на тротуаре, впервые за весь день находится человек, который готов ее поддержать. Молодая женщина, поклонница Нины Фабер, казалось бы, может дать ей стимул «возродиться из пепла» после душевного опустошения. Ведь если есть хоть один человек, которому близка твоя поэзия, в творчестве появляется смысл.
Логика автора принципиально другая. Хотя Нина Фабер не гонится за славой, ей ужасно обидно за себя и свои стихи. Она растоптана и морально уничтожена безразличием критиков, которые, по сути, решают, быть или не быть книге. И они поставили на сборнике Нины крест. Как и Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», Эрленд Лу заостряет вопрос об ответственности рецензентов за свои слова. Оба — Латунский, незаслуженно забраковавший роман Мастера, и Кюльпе, разгромивший сборник «Босфор», — караются авторами за небрежное отношение к литературе.
Нина мучительно ищет способ избавиться от «литературно-критического узла», в котором она запуталась. Писательница уходит в себя, и даже физические страдания не могут перекрыть душевную боль. Ей досадно за то, что успех приходит к жалким, ничего из себя не представляющим «юным дарованиям», у которых есть влиятельные покровители. За то, что признание зависит от моды на стихотворную тематику. И если ты не вписываешься в общее направление, литературной премии тебе не видать.
Тактичная лирика Нины была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном, крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия, вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом доставалась другим.
Неужели после стольких неудач и разочарований героине остается только сдаться? В ее стихах часто повторяются фразы «Раньше у меня было больше. Теперь меньше». Меньше надежды, сил, веры в себя и в других людей. Лу играет с читателем, заставляя поверить в трагическую концовку и как будто обрывая предпоследнюю главу. Но пережив столкновение с трамваем, Нина трижды восклицает: «Я поэт!» Она жива и не остановится, она будет писать.
Донна Тартт. Щегол
- Донна Тартт. Щегол / Пер. с английского А. Завозовой. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 827 с.
В издательстве Corpus в конце ноября выходит новая книга «Щегол» лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт. Роман, расхваленный англоязычной критикой, создавался более 10 лет — это огромное эпическое полотно о силе искусства и о его способности перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса. Единственным утешением мальчика становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.
глава седьмая
Магазин в магазине
1.
Когда меня разбудил грохот мусоровозов, чувство было такое, будто меня катапультировало в другую вселенную. Горло саднило. Замерев под пуховым одеялом, я вдыхал темный запах подсохших ароматических саше и обугленных поленьев
в камине, к которому примешивались слабенькие, но неувядающие нотки скипидара, смолы и лака.Так я пролежал какое-то время. Поппер, который спал, свернувшись клубочком у меня в ногах, теперь куда-то пропал. Я заснул
прямо в одежде, которая была грязной донельзя. Наконец — меня
подкинуло приступом чихания — я сел, натянул свитер поверх
рубашки, пошарил под подушкой, убедился, что наволочка с картиной на месте и пошлепал по холодному полу в ванную. Волосы
у меня ссохлись в колтуны, которые гребенкой было никак не разодрать, и даже после того, как я смочил их водой и расчесал снова,
один клок так спутался, что я не выдержал и в конце концов старательно отпилил его заржавленными маникюрными ножницами,
которые отыскал в шкафчике.Господи, подумал я, крутнувшись от зеркала, чтобы чихнуть.
Зеркала мне давно не попадались, и теперь я с трудом себя узнал:
на челюсти синяк, на подбородке — россыпь прыщей, из-за простуды лицо отекло и раздулось — даже глаза опухли, набрякли
сонно веки: лицо какого-то сдвинутого туповатого надомника.
Я был точь-в-точь ребенок сектантов, которого местные правоохранительные органы только что спасли, вытащили его, сожмуренного, из какого-нибудь подвала, набитого огнестрельным оружием и сухим молоком.Я заспался: было уже девять. Выходя из комнаты, я расслышал
звуки популярнейшей утренней программы на WNYC, до нереального знакомый голос диктора, номера по Кёхелю, дурманное спокойствие, все то же теплое мурлыканье утреннего радио, под которое я так часто просыпался дома, на Саттон-плейс. Хоби сидел
с книгой за столом на кухне.Но он не читал — уставился в другой конец комнаты. Увидев
меня, вздрогнул.— А, вот и ты, — он вскочил, неуклюже сгребая в сторону гору писем и счетов, чтобы освободить мне место. Одет он был для работы в мастерской — в вельветовые штаны с пузырями на коленях
и старый суглинисто-коричневый побитый молью свитер в дырах,
а залысины и коротко остриженные волосы делали его похожим
на обложку учебника латыни Хэдли — грузный мраморный сенатор с оголившимися висками. — Ну, как самочувствие?— Нормально, спасибо, — голос был сиплый, скрипучий.
Он снова сдвинул брови, пристально поглядел на меня.— Господи боже, — сказал он, — да ты у нас нынче, как ворон, каркаешь.
Это он к чему? Сгорая со стыда, я протиснулся на стул, который
он для меня расчистил — стесняясь даже глаза на него поднять,
и потому уставился на книгу: растрескавшаяся кожа, “Жизнеописание и письма” лорда такого-то, старинный том, который, вероятно, попал сюда с какой-нибудь распродажи имущества, старенькая миссис имярек из Покипси, перелом шейки бедра, детей нет,
все очень печально.Он наливал мне чаю, пододвигал тарелку. Пытаясь как-то скрыть
свое замешательство, я нагнул голову и вгрызся в тост — и чуть
не подавился: горло драло так, что и куска нельзя было проглотить.
Я так поспешно потянулся за чаем, что расплескал его на скатерть
и неуклюже кинулся вытирать.— Нет, нет, да ладно тебе, вот…
Салфетка моя промокла насквозь, я не знал, что с ней делать,
растерявшись, уронил ее на свой же тост и принялся тереть глаза
под очками.— Простите, — выпалил я.
— Простить? — он глядел на меня так, будто я спрашивал, как добраться в какое-то не слишком ему знакомое место. — Ой, да ну
что ты…— Пожалуйста, не выгоняйте меня.
— Это еще что? Тебя — выгнать? Куда я тебя выгоню? — Он сдвинул
очки-половинки на кончик носа, поглядел на меня поверх стекол. —
Ну-ка, не глупи, — сказал он веселым и слегка раздраженным тоном. — Если тебя куда и надо выгнать, так это обратно в кровать. У тебя голос, будто ты чуму подхватил.Но говорил он неубедительно. Оцепенев от неловкости, изо всех
сил стараясь не разреветься, я уперся взглядом в осиротевшее место возле плиты, где когда-то стояла корзинка Космо.— А, да, — сказал Хоби, когда заметил, что я смотрю в пустой
угол. — Да. Видишь вот. И ведь уже глухой был как пень, и по
три-четыре приступа за неделю, а мы все равно хотели, чтоб он
жил вечно. Я рассопливился тогда, как ребенок. Если б мне кто
сказал, что Космо переживет Велти… а он полжизни протаскал
этого пса по ветеринарам. Слушай-ка, — сказал он переменившимся голосом, наклонившись ко мне и пытаясь заглянуть мне,
жалкому, онемевшему, в глаза. — Ну, ты чего? Понимаю, тебе много всего пришлось пережить, но сейчас-то не стоит обо всем этом
думать. Вид у тебя убитый — да, да, именно такой, — твердо прибавил он. — Убитый и, прости Господи, — он слегка поморщился, — уж какой-то дряни ты наелся, это видно. Но ты не волнуйся,
все нормально. Иди-ка, поспи еще, давай, правда, а потом мы все
с тобой обговорим.— Я знаю, но… — я отвернулся, пытаясь удержать сопливое, щекотное апчхи. — Мне некуда идти.
Он откинулся на спинку стула: деликатный, осторожный, чуток
пропыленный.— Тео, — он забарабанил пальцем по нижней губе, — сколько тебе лет?
— Пятнадцать. Пятнадцать с половиной.
— И, — казалось, он пытается понять, как бы это половчее спросить, — что там с твоим дедушкой?
— А-а, — беспомощно отозвался я, помолчав.
— Ты с ним говорил? Он знает, что тебе некуда податься?
— Ой, пизд… — это само вырвалось, Хоби поднял руку, все нормально, мол, — вы не понимаете. Ну, то есть не знаю, Альцгеймер
у него там или что, но когда ему позвонили, он даже не попросил
меня к телефону позвать.— И, — Хоби оперся подбородком на кулак и глядел на меня, будто
скептически настроенный препод, — ты с ним так и не поговорил?— Нет, ну то есть лично — нет, там была одна тетенька, помогала
нам…Лиза, Ксандрина подружка (участливая такая, все таскалась
за мной и мягко так, но все настойчивее и настойчивее напирала
на то, что надо известить “семью”), в какой-то момент устроилась
в уголке с телефоном, набрала номер, который я ей продиктовал —
и положила трубку с таким лицом, что, увидев его, Ксандра единственный раз за весь вечер рассмеялась.— Тетенька? — переспросил Хоби в наступившей тишине, таким
голосом, каким сподручно, наверное, разговаривать с умственно
отсталыми.— Ну да. То есть, — я заслонил лицо рукой, цвета в кухне были
слишком уж яркими, голова у меня кружилась, держался я с трудом, — Дороти, наверное, взяла трубку, и Лиза сказала, она типа
такая — “щас, подождите”, никаких тебе: “О нет!”, или “Да как же
это случилось?”, или там “Ужас какой!”, просто: “Ща, секунду, я его
позову”, а потом трубку взял дед, и Лиза ему все рассказала про аварию, он выслушал и говорит: ясно, очень жалко, но таким, знаете,
тоном, как Лиза сказала. Никаких там: “Чем мы можем помочь?”,
ни “Когда похороны?”, ничего подобного. Просто, типа, спасибо
вам за звонок, он очень важен для нас, пока-пока. Ну, то есть я бы
это и так ей сказал, — взволнованно прибавил я, когда Хоби промолчал и ничего не ответил. — Потому что, ну правда, отца-то они
не любили — на самом деле не любили: Дороти ему мачеха, они
друг друга с самого первого дня возненавидели, а с дедом Декером
он вообще никогда не ладил…— Ясно, ясно. Тише, тише…
— … и да, конечно, с отцом, когда он был подростком, много проблем было, наверное, потому он с ним так — его арестовывали,
не знаю, правда, за что, честно, не знаю почему, но они вообще,
сколько я себя помню, знать его не желали и меня тоже…— Да успокойся ты! Я же не говорю, что…
— … потому что, вот честное слово, я с ними даже почти и не виделся никогда, я совсем их не знаю, но у них же нет никаких причин меня ненавидеть, хотя дед мой не то чтобы весь такой приятный дядька, отцу от него здорово доставалось…
— Шшшш, ну-ну, хватит! Я вовсе не стараюсь на тебя надавить,
просто хотел узнать… нет, вот что, слушай, — сказал он, когда
я попытался перебить его, он отмахнулся от моих слов, будто сгоняя со стола муху.— Юрист моей матери здесь. Здесь, в городе. Вы сходите со мной
к нему? Нет, — объяснил я, заметив, что он недоуменно сдвинул
брови, — не прямо юрист-юрист, а этот, который деньгами заведует? Я с ним по телефону говорил. Перед отъездом.— Так, — вошла Пиппа — хохоча, разрумянившись от холода, — да
что такое с этим псом? Он что, машины никогда не видел?Ярко-рыжие волосы, зеленая вязаная шапка, увидеть ее вот так,
при свете дня — как ледяной водой в лицо прыснуть. Она слегка приволакивала ногу, это у нее, скорее всего, со взрыва осталось, но то
была легкость кузнечика, диковатое, грациозное начало танцевальной фигуры, и на ней было наверчено столько слоев теплой одежды,
что она вся была как крохотный цветастый кокон на ножках.— Он мяукал, как кошка, — сказала она, раскручивая один из своих пестрых шарфов, Попчик пританцовывал у ее ног, закусив
поводок. — А он всегда так чудно пищит? Представляете, такси
проедет, и он — ввууух! Аж взлетает! Парусил на поводке, как воздушный змей! Все просто со смеху покатывались. Да-да, — она
нагнулась к псу и чиркнула его костяшками пальцев по голове, —
а кому-то вот надо искупаться, правда? Он ведь мальтиец? — спросила она, глянув на меня.Я рьяно закивал головой, зажав рукой рот, чтоб не чихнуть.
— Я люблю собак. — Я едва слышал, что она там говорит, так заворожило меня то, что она глядит прямо мне в глаза. — У меня есть
книжка про собак, и я выучила все-все породы. Если бы у меня
была большая собака, то ньюфаундленд, как Нэна в “Питере Пэне”,
а если маленькая — не знаю даже, никак не могу определиться.
Мне нравятся все маленькие терьерчики — особенно джек-расселы, на улице они всегда самые общительные и забавные. Но я вот
еще знаю одного очень славного басенджи. А недавно познакомилась с замечательным пекинесом. Он совсем-совсем крошечный,
но такой умница. В Китае их могли держать только аристократы.
Очень древняя порода.— Мальтийцы тоже древние, — просипел я, радуясь, что могу ввернуть интересный факт. — Эта порода еще в Древней Греции была
известна.— Ты поэтому мальтийца выбрал? Потому что порода древняя?
— Эхммм… — я давился кашлем.
Она что-то еще стала говорить — не мне, собаке, но меня скрутил очередной приступ чихания. Хоби быстро нашарил первое,
что под руку попалось — полотняную салфетку со стола, — и сунул
ее мне.— Так, ну хватит, — сказал он. — Марш обратно в кровать. Не надо,
не надо, — отмахнулся он, когда я попытался вернуть ему салфетку, — оставь себе. И скажи-ка, — он оглядел мою жалкую тарелку:
пролитый чай и разбухший тост, — что тебе приготовить на завтрак?В перерывах между чихами я выразительно, по-русски, в Борисовом духе передернул плечами: да что угодно.
— Ладно, тогда, если не возражаешь, сварю тебе овсянки. Она для
горла полегче. А носков у тебя, что, нет?— Эээ… — Пиппа — горчично-желтый свитер, волосы цвета осенней листвы — была поглощена собакой, и цвета ее смешивались
и мешались с яркими красками кухни: сияют в желтой миске полосатые яблоки, посверкивает игольчатым серебром жестянка изпод кофе, куда Хоби ставит кисти.— А пижама? — спрашивал Хоби. — Тоже нет? Ладно, поищем
что-нибудь у Велти. Когда переоденешься, я это все в стирку брошу.
Так, иди, давай-ка, — сказал он, хлопнув меня по плечу так неожиданно, что я аж подпрыгнул.— Я…
— Можешь здесь оставаться. Столько, сколько захочешь. И не волнуйся, к поверенному твоему я с тобой схожу, все будет хорошо.
Феликс Х. Пальма. Карта неба
Феликс Х. Пальма. Карта неба. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 783 с.
В октябре в издательстве Corpus выходит остросюжетный роман «Карта неба» испанского писателя Феликса Пальмы. Действие книги происходит в Лондоне в XIX веке в эпоху великих научных открытий, которые раздвигали границы возможного и внушали людям мысль о том, что самые смелые их мечты и надежды могут осуществиться. В основу «Карты неба» положен роман Г. Дж. Уэллса «Война миров», более того — сам фантаст оказывается одним из действующих персонажей.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Джереми Рейнольдсу хотелось бы быть влюбленным, чтобы иметь возможность окрестить женским именем ледяную глыбину, в которую уперся его корабль, этот антарктический пейзаж, расстилавшийся перед ним. Или горную цепь, на горизонте к югу, или бухту, открывавшуюся справа в снежном тумане, или даже любую из многочисленных льдин. Но Рейнольдс никогда не испытывал чувств, похожих на любовь, и единственным именем, которое он мог бы использовать в этих целях, было имя Джозефины, богатой девушки из Балтимора, за которой он ухаживал, влекомый совершенно иными интересами. Откровенно говоря, он не мог представить себя, обращающегося к ней во время чаепития, под неусыпным взглядом ее матери, со словами: «Кстати, дорогая, я назвал твоим именем континент, лежащий далеко за Полярным кругом. Надеюсь, это тебя обрадует». Нет, Джозефина не сумела бы оценить такой подарок. Она ценила только то, что можно носить на пальцах, запястьях или шее. Какой прок от подарка, которого она никогда не увидит и не потрогает? Это чересчур изысканный презент для девушки, чуждой всякой изысканности. И вот теперь, очутившись во льдах, на сорокаградусном морозе, Рейнольдс принял решение, какого не смог бы принять, находись он в любом другом месте: прекратить ухаживать за Джозефиной. Да, именно так он и поступит. Весьма маловероятно, что ему удастся вернуться живым в Нью-Йорк, но он дает себе торжественный обет: если с помощью какого-то чуда это произойдет, его избранницей станет лишь та, кто обладает тонкими чувствами и способна испытать волнение оттого, что на Южном полюсе есть закованный в лед утес, носящий ее имя. Хотя было бы неплохо, про себя добавил он, подчиняясь своему неизменному здравому смыслу, чтобы такая девушка располагала к тому же достаточными средствами и в случае, если фортуна ему не улыбнется, не корила бы его за то, что та далекая скала — единственное, что он может ей предложить.
Он тряхнул головой, чтобы прогнать эти романтические мысли, уносившие в далекий мир, который отсюда казался неправдоподобным, и устремил свой взор на бесприютный край, лежащий в такой дали от цивилизации, что Творец не стал украшать его приметами жизни. Кроме того, кому захочется окрестить именем жены, своим собственным, корабля, доставившего их туда, или организатора экспедиции этот кусок льда, который, возможно, в конце концов станет его могилой? Да, он приехал сюда, обуреваемый стремлением вписать свое имя в Историю, но, как становится очевидным, единственное, что ему удастся написать, будет его эпитафией.
Они отплыли из Нью-Йорка в октябре с намерением достичь Южного полюса через три месяца, когда лето в Южном полушарии в разгаре, однако из-за целого ряда неблагоприятных обстоятельств и неудач, преследовавших их с самого начала экспедиции, путешествие безнадежно затянулось. К тому времени, когда они миновали Южные Сандвичевы острова и направились к острову Буве, этому ускользающему от глаз наблюдателя островку, который с таким трудом нанесли на карту предыдущие исследователи, даже помощник кока и тот знал, что удача ждет их только в том случае, если они достигнут цели до конца лета. При этом экспедиция вышла очень дорогостоящей, и они уже проделали слишком большой путь, чтобы возвращение могло устроить хоть кого-нибудь, а потому капитан Макреди приказал держать курс на острова Кергелен, надеясь, что кроличьи лапки, которые захватили с собой матросы, окажутся более действенными у Полярного круга, чем в Америке. Оттуда они проследовали на юго-запад и вскоре начали встречать на своем пути первые плавающие льдины, которые словно охраняют берега Антарктиды, как отважные часовые. Используя проходы между льдами и огромными айсбергами, они сумели без особых помех продвинуться довольно далеко, пока почти полностью скованное ледяным саваном море не объявило им, что в этом году зима решила прийти на месяц раньше, в середине февраля. Невзирая на это, они с энтузиазмом принялись раскалывать лед, наивно уповая на двойную обшивку из африканского дуба, которую Рейнольдс приказал поставить, дабы усилить корпус старого китобойца. Это были долгие и отчаянные попытки, но в конце концов появление огромного айсберга превратило схватку со льдом в мираж. Но капитан Макреди проявил себя весьма изобретательным человеком: он распорядился сыпать угольную пыль на державший их в тисках лед, чтобы побыстрее растопить его, приготовил свечи и даже отправил нескольких человек раскалывать лед с помощью любых колющих инструментов, какие только отыскались в трюме. Единственное, что ему оставалось, это попробовать собственноручно перенести корабль на другое место, подобно какому-нибудь богу с Олимпа. А так все эти усилия ни к чему не привели, разве что добавили ситуации патетики. Они были обречены с того самого мгновения, когда решились войти в это море, усеянное ледяными капканами, а может быть, даже с момента, когда Рейнольдс замыслил свою экспедицию. Вскоре судно слегка накренилось на правый борт, и им удалось спуститься на лед, где Макреди приказал кому-то подняться на вершину ближайшего айсберга и сообщить, что он оттуда увидит. Вырубив с помощью кирки небольшие ступеньки во льду, дозорный вытащил латунную подзорную трубу и подтвердил то, что уже давно подозревал Рейнольдс: мир для них теперь ограничивался бескрайним ледяным полем, ощетинившимся скалами и айсбергами, белым небытием, где они вдруг стали жалкими, ничего не значащими букашками, не важно, живыми или мертвыми.
Спустя две недели положение не улучшилось, и глупо было это отрицать. Ледяные клещи, державшие в плену «Аннаван», не разжались ни на миллиметр. Наоборот, тревожное потрескивание льда свидетельствовало о том, что его давление на корпус судна только усиливается. И ослабления этой хватки можно было ожидать разве что через восемь-девять месяцев или даже позже, когда сюда снова придет лето, и это еще если им повезет, ибо Рейнольдсу было известно слишком много похожих историй, когда желанное таяние льдов так и не наступало. На самом деле, каким бы опытом ты ни обладал, все становилось непредсказуемым, едва ты отваживался вступить в царство льда. Достаточно вспомнить хотя бы экспедицию сэра Джона Франклина, предпринятую в 1822 году на север Канады с целью отыскать Северо-Западный проход. Участники экспедиции столько времени блуждали во льдах, что Франклину пришлось даже съесть собственную обувь, чтобы хоть как-то заглушить страшный голод. Но Франклин все же вернулся домой, что удавалось далеко не всем. «Не пополнят ли и они длинный перечень неудавшихся экспедиций, пропавших кораблей, мечтаний, канувших в неизвестность, который заботливо составляют в Адмиралтействе?» — подумал Рейнольдс, с отвращением разглядывая свои заиндевелые сапоги. Пока что им остается только молиться, чтобы 1830 год не был указан на их надгробных плитах вслед за датой рождения.
Он бросил грустный взгляд на «Аннаван». Это было китобойное судно тридцатиметровой длины, знававшее лучшие времена, когда оно промышляло кашалотов и китов-горбачей в южной Атлантике. От того славного прошлого осталось лишь полдюжины гарпунов и дротиков, хранившихся в арсенале. Теперь же «Аннаван» представлял собой довольно нелепое зрелище: он опирался на подобие мраморного пьедестала, накренившись набок и немного задрав носовую часть. Желая свести к минимуму вероятность того, что судно опрокинется, Макреди распорядился спустить паруса на обеих мачтах и навалить гору снега по правому борту, которая служила бы одновременно подпоркой и склоном для спуска. Солнце висело над самым горизонтом, где ему предстояло пробыть еще несколько недель, перед тем как окончательно погаснуть в апреле, уступив место долгой полярной ночи, и освещало «Аннаван» слабым и тусклым светом.
Устав от тесноты корабельных помещений, по которым приходилось передвигаться, то и дело задевая головой свисавшие сверху, как грозди винограда, орудия и инструменты, натыкаясь на койки и громоздившиеся повсюду съестные припасы, немногочисленные члены команды сгрудились у подножия судна, бросая вызов жестокому морозу, который забавлялся тем, что превращал в поблескивающие облачка дыхание, вырывавшееся из их ртов. Кроме него, Джереми Рейнольдса, фигурировавшего в бумагах в качестве начальника экспедиции, экипаж под командованием капитана Макреди составляли два офицера, боцман, два артиллериста, хирург, кок и два поваренка, два плотника и дюжина матросов, один из которых, приставленный к ездовым собакам, был огромный молчаливый метис, плод кощунственной связи индеанки из племени упшароков с белым. И насколько мог заметить Рейнольдс, пока никто из них за свою судьбу особенно не тревожился. Но не потому, что на борту было достаточно провизии, а запасов угляхватало, чтобы поддерживать тепло внутри судна до наступления лета. Такая беззаботность порождалась опытом, что был у них за плечами, многочисленными трудностями, которые им пришлось пережить в подобных и даже гораздо худших переделках. Либо так предпочитал думать Рейнольдс, не мог же он считать, что безоговорочное смирение, с которым они встречали невзгоды, объясняется тем, что их несчастные жизни значат для них не больше мушиного укуса, это было бы слишком ужасно, так как собственная жизнь была ему по-прежнему дорога, по крайней мере пока. Как бы то ни было, он надеялся, что такое положение вещей долго не продлится и не подтвердятся известные разговоры в портовых тавернах насчет того, что в условиях, подобных нынешнему, не стоит ни о чем беспокоиться, пока достаточны запасы рома. Вот когда они иссякнут, все резко изменится: безумие, которое до сих пор, словно робкий поклонник, витало где-то поодаль, начнет искушать экипаж и в конце концов обольстит наиболее слабых, и те не замедлят поднести пистолет к виску и спустить курок. Рейнольдс прикинул, сколько галлонов рома может храниться в винном погребке судна. Макреди, у которого имелись собственные запасы бренди, приказал Симмонсу, одному из помощников кока, выдавать ром разбавленным водой, что обычно практиковалось, дабы растянуть его запасы на возможно более длительный срок. И никто из матросов не возмутился, словно они тоже знали, что, пока у них будет ежедневная порция спиртного, они будут спасены от самих себя.
Рейнольдс перевел взгляд на капитана Макреди. Тот тоже покинул судно и теперь сидел на каком-то тюке, рядом с железной клеткой, которую метис Петерс установил на снегу для собак. Капитан был укутан в несколько шерстяных плащей, поверх которых надел непромокаемую накидку, а на голове у него красовалась шапка с наушниками, одна из тех шапок, какие в шутку называли «валлийскими париками». Наблюдая за мощной фигурой капитана, сидевшего совершенно неподвижно, как будто он позировал художнику, Рейнольдс понял, что должен немедленно вывести всех их из этого оцепенения, пока экипаж в полном составе не погрузился в беспробудную спячку. Пришла пора просить Макреди, чтобы он выделил людей для обследования местности, после чего они могли бы продолжить путь к цели, сулившей им в случае успеха такую славу и такое богатство, о которых они не могли и мечтать: найти проход к центру Земли.
Эрленд Лу. Переучет
- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, 2014. — 160 с.
В издательстве «Азбука» выходит новый роман Эрленда Лу «Переучет». Поэтесса Нина Фабер, чья «тактичная лирика была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента», была не замечена жюри главной в Скандинавии литературной премией. Уехав в Стамбул, Нина долго хранила молчание и лишь десятилетие спустя решилась выпустить новый сборник стихов «Босфор». Но разгромная и вопиюще несправедливая рецензия в университетской газете лишила поэтессу терпения: теперь кто-то должен заплатить по всем счетам.
Бытовало мнение, что в семидесятых Нину Фабер обошли главной на всю Скандинавию литературной премией. Тактичная лирика Нины была
по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном,
крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия,
вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом
доставалась другим. Ее получали датчане, финны, шведы, неловко сказать, исландцы. Деньги и
признание не были бы Нине лишними. Другим,
видимо, тоже.В восьмидесятые у тонкой, ломкой лиричности
не было шанса тягаться с формализмом и экспериментом, не говоря уже о втором-третьем-пятом уровнях в мегатексте девяностых.Начало нового тысячелетия вернуло Нине
шанс, но ее вера в себя ослабела, а в ближайшем
кругу ее списали с поэтических счетов. Нине не
работалось, у нее все подряд не клеилось. Она собачилась с сыном, переругалась с друзьями и в целом была разочарована в жизни, баловавшей ее
не больше мачехи.Нина пустилась во все тяжкие. Старые приятели из Совета по делам литературы выбили ей
трехлетнюю творческую стипендию. Нина расплакалась от радости. И пропала с радаров на несколько лет. Поговаривали, что она пьет, вроде пишет,
кажется, завела роман в Стамбуле. Внезапно она
вернулась, сняла домик с тремя сотками в городском садовом товариществе (она полжизни значилась в листе ожидания) и помирилась с сыном
Людвигом. Умерила питейный раж и отпраздновала шестьдесят пять без шума и пыли.Четырнадцать месяцев подряд она писала, обложившись сотнями страниц черновиков и записей, привезенных из Стамбула. Сочинялось на
одном дыхании, совестно работой назвать. Нина
цвела. Сто семьдесят стихотворений представила она на суд прежнего своего редактора, найдя
его после двенадцатилетнего перерыва. Они ровесники, Като Волд был женат, но, естественно,
развелся, снова женился и опять развелся, он
обладатель завидной должности в престижном
издательстве, хотя в своем цеху далеко не главный гений. Было время, Като трепетал перед литературой, но те дни давно миновали. Зато человек Като приличный. Часто ходит в театр и на
лыжах и не рвется облапошить человека без повода. В основу стихотворного цикла, названного
Ниной «Босфор», легли ее впечатления от пейзажа за окном стамбульской квартиры. Вдохновляясь импрессионистами, она описывала один и
тот же вид из окна, город, мост, улочки, в зависимости от погоды и настроения пробуждающие час от часу и тем более день ото дня несхожие ассоциации.Като Волд прочел, и ему понравилось. Он не
ждал от Нины ничего, тем более такого уровня.
Вместе они отобрали восемьдесят стихотворений.
Книга откроет перед Ниной двери, закрытые десятки лет, и вернет ей уверенность в себе. Сообщит читателю, что Нина не только жива, но и пишет как никогда хорошо. Так, по крайней мере, показалось Като. Он не преминул даже сказать, что
и «Книжный клуб» не устоит перед таким соблазном, и хотя на деле тот устоял, восторгов и ожиданий насчет «Босфора» поначалу было много.Сама Нина книгой была довольна, но не разделяла уверенности Като и издательства в том,
что успех предрешен. Мир очень изменился. Авторитетные литературные критики, частью знакомые ей по альковным делам, вышли в тираж,
их заменили юные законодатели мод завтрашнего дня, а с ними как-то и не переспишь. Не то чтобы
Нина в постели добывала восторженные рецензии на свои книги, но она тепло вспоминала то
фантастическое время, когда граница между пишущей братией и критиками была приятно эфемерной и люди с обеих сторон, да что там, со всех
сторон составляли одну, как говорится, большую
семью. Практично и душевно было все устроено.
Но этот поезд ушел, давно и безвозвратно, и сентябрьским утром в начале второго десятилетия
нового века, в день выхода «Босфора» в свет, Нина Фабер начеку и на взводе, даром что и так была вся на нервах последние недели. Срывалась и
раздражалась по любому пустяку. Впрочем, последние лет десять это ее привычное состояние.
Она давно все про себя поняла. Когда-то ей были
открыты все пути. Она могла получить любую
специальность, стать медицинским работником
например. Эта мысль преследует Нину. Ее жизнь
могла быть иной. Доктор Фабер. Сам по себе титул неизбежно вызывал бы трепет и уважение
окружающих. Не говоря уже о наполнении пенсии в те же ее шестьдесят семь лет. Или стала бы
окружным судьей. Да мало ли прекрасных работ.
Хоть бы и совсем скромно — учителем. Жила
бы, как люди обычно живут, на обычные деньги,
плюс оплаченный отпуск и соцпакет. А так стала
дилетантом, считает Нина. Раньше не была, а теперь стала. Она полагала, что с возрастом и опытом придут основательность и спокойствие, но
все наоборот, сильнее становятся только стресс и
страх не оказаться в отличницах. Чувство, что она
обязана что-то доказать, стало гораздо сильнее.*
Себя Нина считает никчемной. Да, у нее бывали счастливые минуты, слова легко подчинялись
ей, и она сочиняла из них тексты, издавала, но
механика этого дела недоступна рациональному
объяснению, Нина ею не владеет. Кое-что ей в
жизни удалось, свидетельством тому книги, но
как она умудрилась написать их, неизвестно. Нина не приручила стихи, они рождаются сами,
когда вздумают, отчего не чреватое ни деньгами,
ни всеобщими восторгами стихоплетство легко
обесценивается, особенно в глазах самой Нины,
тем более в мрачный период, из коих ее жизнь по
преимуществу и состоит.Нина судит себя беспристрастно и видит, что
иногда преуспевает в незачетных активностях, но
все анкетно-статусное не дается ей, вся эта конкретная сторона жизни, практическая, межличностная. Нина всегда ненавидела вопрос, где она
работает. Люди в основном имеют нормальную
работу, некоторые служат даже экспертами. Услуги, предлагаемые ими, востребованы, за них платят серьезные деньги. Господи, не раз думала Нина, в самый тучный свой год я зарабатываю в несколько раз меньше простого электрика, а они
учатся совсем недолго и на всю жизнь обретают
хлебную профессию. Поменять провода, поставить розетки или распределительный щиток —
нужда в этом есть всегда. А ее стихи игнорируют
законы электромагнетизма, не способствуют росту ВВП, рассчитаны на фантазеров и мечтателей. В свое время у нее был круг читателей, но ее
ровесники, когда-то бредившие стихами, давно
стали как все и переключились на биографии политиков.*
Вначале Нина гордилась принадлежностью к
насту, к тонкой прослойке рисковых и бедовых
идеалистов, они выгрызают истинную сущность
жизни из каждого мгновения, данного остальным
лишь для забот о размере будущей пенсии, но уже
много лет как она презирает всех писак, включая
себя, а также все, что написала или пишет. Хотя
машинально то и дело мысленно ставит метку,
собирая впрок всякий сор для будущих стихов.
А они прут и прут, сами, почему так происходит,
неизвестно, но они рвутся наружу, как бы Нина
ни артачилась. Аж тошно. Хотя теперь-то уж что,
столько лет она таким манером жила, теперь только зубы стиснуть и дотерпеть. Еще два года, и она
получит пенсию. Да, минимальную, социальную,
а все же стабильность. Деньги каждый месяц. Если питаться разваренным горохом, а иногда разводить из него супчик с беконом, то можно жить
неделями на несколько сотенных, главное пить не
начать, но с этим она почти завязала. Отсутствие
планомерности и дотошности — вот что Нина
всерьез в себе презирает. С ранней молодости мечтала она, например, сдать на пилота легкого самолета, но упорно отодвигала мечту покружить над пустыней на потом, когда появятся лишние
деньги, отчего-то она всегда видела себя в кабине
кукурузника именно над барханами: ветер собрал
пески в причудливые зыбкие звезды, и Нина с
воздуха фотографирует их для престижного журнала. Из этого ничего не вышло, Нина сдалась, и
не столько из-за денег, хотя и это оставалось проблемой, но признав, что ей не хватит дотошности
и четкости. Она никогда не учтет всех нюансов,
что подлежат учету. К гадалке не ходи, не совсем
оптимальные погодные условия не удержат ее от
полета. И станет она новостью в разделе происшествий, типа: спортивный самолет потерпел аварию, врезавшись в тумане в горный склон или
выработав в ноль топливо где-то в северном Хельгеланне. В царстве поэзии интуиция изредка помогает ей, но в реальном мире дефицит четкости
означает смерть. Эта нехватка дотошности давно
породила в Нине презрение к себе, для избавления от него она с переменным успехом практиковала работы в саду, чтение, хождение босиком по
росе, временами алкоголь. В это сентябрьское утро страх и напряжение достигли апогея. Что, если
вновь фиаско? Сможет ли она жить дальше с тем
же ощущением приниженности? Она хочет опять
расправить плечи, вовремя оплачивать счета, а в
глубине души мечтает, конечно же, что взойдет ее звезда.
Мо Янь. Устал рождаться и умирать
- Мо Янь. Устал рождаться и умирать / Пер. с кит., примеч. И. Егорова. — СПб.: Амфора, 2014. — 703 с.
В книге «Устал рождаться и умирать» выдающийся китайский романист современности Мо Янь продолжает летописание истории Китая XX века, уникальным
образом сочетая грубый натурализм и высокую трагичность, хлесткую политическую сатиру и волшебный вымысел редкой художественной красоты.
Во время земельной реформы 1950 года расстреляли невинного человека — с работящими руками, сильной волей, добрым сердцем и незапятнанным прошлым. Гордую душу, вознегодовавшую на своих убийц не примут в преисподней —
и герой вновь и вновь возвратится в мир, в разных обличиях
будет ненавидеть и любить, драться за свою
правду, любоваться в лунном свете цветением абрикоса…КНИГА ПЕРВАЯ
ОСЛИНЫЕ МУЧЕНИЯ ГЛАВА 1
Пытки и неприятие вины перед владыкой ада.
Надувательство с перерождением
в осла с белыми копытамиИстория моя начинается с первого дня первого месяца тысяча девятьсот пятидесятого года. Два года до этого
длились мои муки в загробном царстве, да такие, что
представить трудно. Всякий раз, когда меня притаскивали на судилище, я жаловался, что со мной поступили несправедливо. Исполненные скорби, мои слова достигали
всех уголков тронного зала владыки ада и раскатывались
многократным эхом. Несмотря на пытки, я ни в чем не
раскаялся и прослыл несгибаемым. Знаю, что немало
служителей правителя преисподней втайне восхищались
мной. Знаю и то, что надоел старине Ло-вану1
до чертиков. И вот, чтобы заставить признать вину и сломить,
меня подвергли самой страшной пытке: швырнули в чан
с кипящим маслом, где я барахтался около часа, шкворча, как жареная курица, и испытывая невыразимые мучения. Затем один из служителей поддел меня на вилы,
высоко поднял и понес к ступеням тронного зала. По бокам от служителя пронзительно верещали, словно целая
стая летучих мышей-кровососов, еще двое демонов. Стекающие с моего тела капли масла с желтоватым дымком
падали на ступени… Демон осторожно опустил меня на
зеленоватые плитки перед троном и склонился в глубоком поклоне:— Поджарили, о владыка.
Зажаренный до хруста, я мог рассыпаться на кусочки от легкого толчка. И тут откуда-то из-под высоких
сводов, из ослепительного света свечей раздался чуть
насмешливый голос владыки Ло-вана:— Все бесчинствуешь, Симэнь Нао?2
По правде сказать, в тот миг я заколебался. Лежа в лужице масла, стекавшего с еще потрескивавшего тела, я
понимал, что сил выносить мучения почти нет и, если
продолжать упорствовать, неизвестно, каким еще жестоким пыткам могут подвергнуть меня эти продажные служители. Но если покориться, значит, все муки, которые
я вытерпел, напрасны? Я с усилием поднял голову — казалось, в любой момент она может отломиться от шеи —
и посмотрел на свет свечей, туда, где восседал Ло-ван,
а рядом с ним его паньгуани3
— все с хитрыми улыбочками на лицах. Тут меня обуял гнев. Была не была, решил
я, пусть сотрут меня в порошок каменными жерновами,
пусть истолкут в мясную подливу в железной ступке…— Нет на мне вины! — возопил я, разбрызгивая вокруг капли вонючего масла, а в голове крутилось: «Тридцать лет ты прожил в мире людей, Симэнь Нао, любил
трудиться, был рачительным хозяином, старался для общего блага, чинил мосты, устраивал дороги, добрых дел
совершил немало. Жертвовал на обновление образов
святых в каждом храме дунбэйского4
Гаоми 5, и все бедняки в округе вкусили твоей благотворительной еды. На
каждом зернышке в твоем амбаре капли твоего пота, на
каждом медяке в твоем сундуке — твоя кровь. Твое богатство добыто трудом, ты стал хозяином благодаря своему
уму. Ты был уверен в своих силах и за всю жизнь не совершил ничего постыдного. Но — тут мой внутренний
голос сорвался на пронзительный крик — такого доброго
и порядочного человека, такого честного и прямодушного, такого замечательного обратали пятилепестковым
узлом 6, вытолкали на мост и расстреляли! Стреляли всего с половины чи 7, из допотопного ружья, начиненного порохом на полтыквы-горлянки8
и дробью на полчашки.
Прогремел выстрел — и половина головы превратилась
в кровавое месиво, а сероватые голыши на мосту и под
ним окрасились кровью…»— Нет моей вины, оговор это все! Дозвольте вернуться, чтобы спросить этих людей в лицо: в чем я провинился перед ними?
Когда я выпаливал все это, как из пулемета, лоснящееся лицо Ло-вана беспрестанно менялось. Паньгуани,
стоявшие с обеих сторон, отводили от него глаза, но и со
мной боялись встретиться взглядом. Я понимал: им абсолютно ясно, что я невиновен; они с самого начала прекрасно знали: перед ними душа безвинно погибшего, —
но по неведомым мне причинам делали вид, будто ничего не понимают. Я продолжал громко взывать, и мои
слова повторялись бесконечно, словно перерождения
в колесе бытия. Ло-ван вполголоса посовещался с паньгуанями и ударил своей колотушкой, как судья, оглашающий приговор:— Довольно, Симэнь Нао, мы поняли, что на тебя
возвели напраслину. В мире столько людей заслуживает
смерти, но вот не умирают!.. А те, кому бы жить да жить,
уходят в мир иной. Но нам такого положения дел изменить не дано. И все же, в виде исключения и милосердию нашему, отпускаем тебя в мир живых.Это неожиданное радостное известие обрушилось
на меня, будто тяжеленный мельничный жернов, и я
чуть не рассыпался на мелкие кусочки. А владыка ада
швырнул наземь алый треугольник линпай9
и нетерпеливо распорядился:— А ну, Бычья Голова и Лошадиная Морда, верните-ка его обратно!
И, взмахнув рукавами, покинул зал. Толпа паньгуаней потянулась за ним, и от потоков воздуха, поднятых
широкими рукавами, заколебалось пламя свечей. С разных концов зала ко мне приблизились два адских служителя в черных одеяниях, перехваченных широкими
оранжево-красными поясами. Один нагнулся, поднял
линпай и заткнул себе за пояс, другой схватил меня за
руку, чтобы поднять на ноги. Раздался хруст, мне показалось, что кости вот-вот рассыплются, и я завопил что
было мочи. Демон, засунувший за пояс линпай, дернул
напарника за рукав и тоном многоопытного старика, поучающего зеленого юнца, сказал:— У тебя, мать-перемать, водянка в мозгах, что ли?
Или черный гриф глаза выклевал? Не видишь, что он зажарен до хруста, как тяньцзиньский хворост «шибацзе»?10Молодой демон растерянно закатил глаза, но старший прикрикнул:
— Ну что застыл? Ослиную кровь неси!
Молодой хлопнул себя по лбу, лицо его просветлело,
словно прозрел. Он бросился из зала и очень скоро вернулся с заляпанным кровью ведром, похоже, тяжелым,
потому что тащил он его, еле переставляя ноги и изогнувшись в поясе, — казалось, вот-вот свалится.Ведро тяжело хлопнулось рядом, и меня тряхнуло.
Окатило жаркой волной тошнотворной вони, которая,
казалось, еще хранит тепло ослиного тела… В сознании
мелькнула туша забитого осла и тут же исчезла. Демон
с линпаем достал кисть из свиной щетины, окунул в густую темно-красную кровь и мазнул меня по голове. От
странного ощущения — боль, онемение и покалывание,
будто тысячами иголок, — я невольно взвыл. Послышалось негромкое потрескивание, и я ощутил, как кровь
смачивает мою прожаренную плоть, будто хлынувший
на иссохшую землю долгожданный дождь. Меня охватило смятение и целый сонм переживаний. Демон орудовал кистью быстро, как искусный маляр, и вскоре я был
в ослиной крови с головы до ног. Под конец он поднял
ведро и вылил на меня остатки. Жизнь снова закипела
во мне, вернулись силы и мужество. На ноги я встал уже
без помощи служителей.Хоть этих демонов и звали Бычья Голова и Лошадиная Морда, они ничуть не походили на те фигуры с бычьими головами и лошадиными мордами, которые мы
привыкли видеть на картинках, изображающих преисподнюю. От людей их отличала лишь отливающая ослепительной голубизной кожа, словно обработанная ка-
кой-то волшебной краской. В мире людей не бывает ни
ткани такой благородной голубизны, ни подобной листвы деревьев. Хотя цветы есть, маленькие такие, растут на
болотах у нас в Гаоми: утром раскрываются, а к вечеру
лепестки вянут и осыпаются…Долговязые демоны подхватили меня под руки, и мы
зашагали по мрачному тоннелю, которому, казалось, не
будет конца. С обеих сторон на стенах через каждые несколько чжанов11
висели бра причудливой формы, похожие на кораллы, с блюдечками светильников, заправленных соевым маслом. Запах горелого масла становился то
насыщеннее, то слабее, голова от него то затуманивалась,
то прояснялась. В тусклом свете виднелись полчища огромных летучих мышей, висевших под сводами тоннеля.
Их глаза поблескивали в полумраке, а на голову мне то
и дело падали зернышки вонючего помета.Дойдя до конца тоннеля, мы вышли на высокий помост. Седовласая старуха протянула к грязному железному котлу белую и пухлую ручку с гладкой кожей совсем
не по возрасту, зачерпнула черной деревянной ложкой
вонючей жидкости, тоже черного цвета, и налила в большую алую глазурованную чашку. Принявший чашку демон поднес ее к моему лицу и недобро усмехнулся:— Пей. Выпьешь, и оставят тебя все горести, тревоги и озлобление твое.
Но я отшвырнул чашку и заявил:
— Ну уж нет, пусть все горести, тревоги и озлобление остаются в моем сердце, иначе возвращение в мир людей теряет всякий смысл.
И с гордым видом спустился с помоста. Доски, из которых он был сколочен, подрагивали под моей поступью. Демоны, выкрикивая мое имя, бросились за мной.
В следующий миг мы уже шагали по земле дунбэйского Гаоми. Тут мне знакомы каждая горка и речушка,
каждое деревце и каждая травинка. Новостью оказались
вбитые в землю белые деревянные колышки, на которых черной тушью были выведены имена — одни знакомые, другие нет. Таких колышков было полно и на моих
плодородных полях. Землю раздали безземельным беднякам, и моя, конечно, не стала исключением. В династийных историях полно таких примеров, но об этом
перераспределении земли я узнал только сейчас. Земельную реформу в мире людей провели, пока я твердил о своей невиновности в преисподней. Ну поделили
все большие земельные угодья и поделили, меня-то зачем нужно было расстреливать!Демоны, похоже, опасались, что я сбегу, и конвоировали меня, крепко ухватив ледяными руками, а вернее,
когтями за предплечья. Ярко сияло солнце, воздух был
чист и свеж, в небе щебетали птицы, по земле прыгали
кролики, глаза резало от белизны снега, оставшегося по
краям канав и берегам речушек. Я глянул на своих конвоиров, и мне вдруг пришло в голову, что они похожи на
актеров в гриме синего цвета.Дорога шла по берегу реки. Мы миновали несколько
деревенек, навстречу попалось немало знакомых, но
всякий раз, когда я раскрывал рот, чтобы поздороваться,
демоны привычным движением сжимали мне горло
так, что я и пикнуть не мог. Крайне недовольный этим,
я лягал их, но они не издавали ни звука, будто ноги у них
ничего не чувствовали. Пытался боднуть головой, тоже
напрасно: лица как резиновые. Руки с моего горла они
снимали, лишь когда вокруг не было ни души.Подняв облако пыли, мимо промчалась коляска на
резиновых шинах. Пахнуло лошадиным потом, который
показался знакомым. Возница — его звали Ма Вэньдоу, — поигрывая плетью, восседал на облучке в куртке из белой овчины. За воротник он заткнул связанные
вместе длинную трубку и кисет, который болтался, как
вывеска на винной лавке. Коляска моя, лошадь тоже, но
возница моим батраком не был. Я хотел броситься вслед,
чтобы выяснить, в чем дело, но руки демонов опутали
меня, как лианы. Этот Ма Вэньдоу наверняка заметил
меня, наверняка слышал, как я кряхтел, изо всех сил пытаясь вырваться, не говоря уж об исходившем от меня
странном запахе — такого не встретишь в мире людей.
Но он пронесся мимо во весь опор, будто спасаясь от
беды. Потом встретилась группа людей на ходулях, они
представляли историю о Тансэне12
и его путешествии за
буддийскими сутрами. Все, в том числе Сунь Укун с Чжу
Бацзе — мои односельчане. По лозунгам на плакатах,
которые они несли, и по разговорам я понял, что сегодня первый день тысяча девятьсот пятидесятого года.Мы почти достигли маленького каменного мостика
на краю деревни, и тут меня вдруг охватила безотчетная
тревога. Еще немного — и вот они, залитые моей кровью, поменявшие цвет голыши под мостом. От налипших на них обрывков ткани и грязных комков волос исходил густой смрад. Под щербатым пролетом моста собралась троица одичавших собак. Две разлеглись, одна
стоит. Две черные, одна рыжая. Шерсть блестит, языки
красные, зубы белые, глаза горят…Об этом мостике упоминает Мо Янь в своих «Записках о желчном пузыре». Он пишет об этих собаках — они
наелись мертвечины и взбесились. Пишет также о почтительном сыне, который вырезал желчный пузырь
у только что расстрелянного и отнес домой — вылечить
глаза матери. О том, что используют медвежий желчный пузырь, я слышал не раз, но чтобы человеческий…
Еще одна выдумка этого сумасброда. Пишет в своих рассказах чушь всякую, верить никак нельзя.Пока мы шагали от мостика до ворот моего дома, я
снова вспомнил, как меня вели на расстрел: руки связаны за спиной, за воротник заткнута табличка приговоренного к смерти. Шел двадцать третий день последнего
лунного месяца, до Нового года оставалось всего семь
дней. Дул пронизывающий холодный ветер, все небо застилали багровые тучи. За шиворот горстями сыпалась
ледяная крупа. Чуть поодаль с громкими рыданиями
следовала моя жена, урожденная Бай. Наложниц Инчунь и Цюсян не видать. Инчунь ждала ребенка и вскорости должна была разрешиться от бремени, ей простительно. А вот то, что не пришла попрощаться Цюсян, не
беременная и молодая, сильно расстроило. Уже на мосту
я повернулся к находившемуся рядом командиру ополченцев Хуан Туну и его бойцам: «Мы ведь односельчане,
почтенные, вражды между нами не было, ни прежде, ни
теперь. Скажите, если даже обидел чем, стоит ли так поступать?» Хуан Тун зыркнул на меня и тут же отвел
взгляд. Золотистые зрачки посверкивают, как звезды на
небе. Эх, Хуан Тун, Хуан Тун, подходящее же имечко выбрали тебе родители!13
«Поменьше бы трепал языком! —
бросил он. — Политика есть политика!» — «Если вы меня
убить собрались, почтенные, то хоть объясните, какой такой закон я нарушил?» — не сдавался я. «Вот у владыки
преисподней всё и выяснишь», — сказал он и приставил
ружье почти вплотную к моей голове. Голова будто улетела, перед глазами рассыпались огненные искры. Слов-
но издалека донесся грохот, и повис запах пороха…Ворота моего дома были приоткрыты, и я увидел во
дворе множество людей. Неужели они знали о моем
возвращении?— Спасибо, братцы, что проводили! — обратился я
к спутникам.На их лицах играли хитрые улыбочки, и не успел я
поразмыслить, что эти улыбочки означают, как меня
схватили за руки и швырнули вперед. В глазах потемнело, казалось, я тону. И тут прозвенел радостный человеческий возглас:— Родился!
Я разлепил глаза. Весь в какой-то липкой жидкости, лежу между ног ослицы. Силы небесные! Кто бы
мог подумать, что я, Симэнь Нао, воспитанный и образованный, достойный деревенский шэньши 14, стану
осленком с белыми копытами и нежными губами!
1 Яньло-ван (Ло-ван) — владыка ада в китайском фольклоре.
2 «Нао» — букв. «требовать со скандалом», «бесчинствовать».
3 Паньгуань — чиновник при владыке подземного царства, ведущий учёт жизни и смерти.
4 Дунбэй — собирательное название северо-востока Китая.
5 Гаоми — уезд в пров. Шаньдун, родина Мо Яня, место действия
многих его произведений.6 Пятилепестковый узел — узел, связывающий руки и шею.
7 Чи — мера длины, ок. 30 см.
8 Высушенные тыквы-горлянки использовались как пороховницы.
9 Линпай — даосская дощечка с текстами заклинаний.
10 «Шибацзé» — фирменный продукт портового города Тяньцзиня. Долго хранится благодаря хорошей прожарке и отсутствию воды.
11 Чжан — мера длины, ок. 3,2 м.
12 Тансэн — одно из имен монаха Сюаньцзана, героя классического
романа «Путешествие на Запад». Сунь Укун и Чжу Бацзе — его спутники.13 Фамилия и имя Хуан Туна дословно означают «желтый зрачок».
14 Шэньши — одно из сословий императорского Китая, семьи
сдавших экзамены и получивших государственные должности; зд.
«состоятельный человек».
Эрик Аксл Сунд. Девочка-ворона
- Эрик Аксл Сунд. Слабость Виктории Бергман. [Ч.1]. Девочка-ворона / Пер. со шведского А. Савицкой. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 507 с.
Криминальный роман-трилогия «Слабость Виктории Бергман» — литературный дебют двух шведов, Йеркера Эрикссона и Хокана Аксландера Сундквиста, пишущих под псевдонимом Эрик Аксл Сунд. Часть первая, «Девочка-ворона», поразила читателей и критиков, которые сравнили Сунда с великим Стигом Ларссоном.
Полиция Стокгольма находит в городе изуродованные трупы мальчиков. Поскольку жертвы — нелегальные иммигранты, чья судьба почти никого не волнует, полицейское начальство не поощряет стараний следственной группы. Но комиссар Жанетт Чильберг упорно ищет убийцу-садиста.Гамла Эншеде1
Странно было не то, что мальчик мертв, а скорее то, что он прожил так долго. Судя по количеству ран и их характеру, он должен был бы умереть гораздо раньше предварительно установленного времени смерти. Однако что-то поддерживало в нем жизнь, когда нормальному человеку уже давно пришел бы конец.
Выезжая задним ходом из гаража, комиссар уголовной полиции Жанетт Чильберг еще ничего об этом не знала. И уж тем более не подозревала, что данное дело станет первым в череде событий, которые кардинально изменят ее жизнь.
В окне кухни она заметила Оке и помахала ему, но он был поглощен разговором по телефону и не увидел ее. Первую половину дня ему предстояло посвятить стирке недельной порции пропотевших футболок, перепачканных песком носков и грязного нижнего белья. При наличии жены и сына, питавших жгучий интерес к футболу, приходилось минимум пять раз в неделю до предела напрягать их старую стиральную машину — неотъемлемая часть семейных будней.
Жанетт знала, что в ожидании, пока машина достирает, он поднимется в оборудованное на чердаке маленькое ателье и продолжит работу над одной из незаконченных картин маслом, которыми постоянно занимается. Он был романтиком, мечтателем, неспособным поставить в начатом «последнюю точку», хотя Жанетт неоднократно уговаривала его связаться с кем-нибудь из галеристов, вообще-то проявлявших интерес к его работам. Но он вечно отмахивался, утверждая, что еще не полностью закончил. Пока не полностью, но скоро.
И тогда все изменится.
Он добьется успеха, деньги потекут рекой, и они наконец смогут осуществить все, о чем мечтали. От выкупа дома до любого путешествия.
Почти двадцать лет спустя она начала сомневаться в том, что это когда-нибудь произойдет.
Выехав на Нюнесвэген, Жанетт услышала настораживающее постукивание возле левого переднего колеса. Даже будучи полным профаном в технике, она смогла понять, что со старенькой «ауди» что-то не так и что придется снова сдавать ее на станцию обслуживания. Наученная горьким опытом, Жанетт знала, что бесплатно машину ей не починят, хоть серб возле площади Булиденплан и делает все хорошо и недорого.
Накануне она сняла со счета остаток денег, чтобы заплатить последний из целой череды амортизационных взносов за дом, квитанции на которые с садистической пунктуальностью приходили раз в квартал, и надеялась, что на этот раз сможет починить машину в кредит. Прежде ей такое удавалось.
От мощного вибрирования в кармане куртки, сопровождаемого Девятой симфонией Бетховена, Жанетт чуть не съехала с дороги и едва не выскочила на тротуар.— Да, Чильберг слушает.
— Привет, Жан, у нас тут имеется кое-какое дельце на площади Турильдсплан.
Голос принадлежал ее коллеге Йенсу Хуртигу.
— Надо немедленно ехать туда. Ты где? — донеслось из телефона с такой громкостью, что ей пришлось отодвинуть трубку от уха сантиметров на десять, чтобы не лишиться слуха.
Она ненавидела, когда ее называли Жан, и чувствовала нарастающее раздражение. Это ласкательное имя возникло в шутку на корпоративе три года назад, но со временем распространилось по всему полицейскому управлению.
— Я возле Ошты, как раз сворачиваю на Эссингледен.
Что там произошло?— В кустах возле метро, неподалеку от Педагогического института, обнаружили мертвого парня, и Биллинг хочет, чтобы ты ехала туда как можно быстрее. Он, похоже, чертовски взволнован. Судя по всему, речь идет об убийстве.
Жанетт Чильберг слышала, что постукивание усиливается, и опасалась, как бы не пришлось съезжать на обочину и вызывать буксировщика, а потом просить кого-нибудь ее подвезти.— Если только эта чертова тачка не развалится, я буду на месте через пять—десять минут и хочу, чтобы ты тоже приехал.
Машина накренилась, и Жанетт на всякий случай перестроилась в правый ряд.
— Само собой. Я уже выезжаю и, вероятно, опережу тебя.
Хуртиг повесил трубку, и Жанетт засунула телефон в карман куртки.
Брошенный в кустах мертвый парень — для Жанетт это звучало скорее как избиение, повлекшее за собой смерть, и, следовательно, его надо квалифицировать как непредумышленное убийство.
Бытовое убийство, размышляла она, чувствуя, как у нее дернулся руль, — это когда женщину убивает дома ревнивый муж после того, как та сообщила, что хочет с ним развестись.
По крайней мере, чаще всего.
Однако времена меняются, и то, чему ее когда-то учили в Полицейской академии, стало теперь не только неактуальным, но и ошибочным. Рабочие методы подверглись реформированию, и работа полицейских сегодня во многих отношениях сложнее, чем была двадцать лет назад.
Жанетт помнила свои первые годы службы в патруле и тесное взаимодействие с обычными людьми. Как общественность помогала им и вообще доверяла полиции. Сейчас, думала она, о квартирных кражах заявляют только потому, что этого требует страховая компания. Не потому, что люди надеются на раскрытие преступления.
Чего она ожидала, когда бросила учебу на социального работника и решила стать полицейским? Что сумеет что-то изменить? Помочь? Во всяком случае, именно это она заявила отцу в тот день, когда с гордостью продемонстрировала документ о приеме в академию. Да, так и было. Ей хотелось оказываться между попавшим в беду и виновником беды.
Хотелось быть настоящим человеком.
А служба в полиции это подразумевала.
Все детство она, затаив дыхание, слушала, как отец с дедом обсуждали полицейские дела. В любые праздники разговоры за столом все равно, так или иначе, касались жестоких грабителей банков, симпатичных воришек и хитроумных обманщиков. Анекдотов и воспоминаний о темной стороне жизни.
Так же как запах запеченного рождественского окорока создавал атмосферу надежды, тихое журчание мужских голосов на заднем плане вызывало ощущение надежности.
Она улыбнулась, вспомнив равнодушие и скепсис дедушки по отношению к новым техническим вспомогательным средствам. Металлические наручники, видите ли, для упрощения работы заменили текстильными. Однажды он сказал, что анализ ДНК — всего лишь дань моде и долго не продержится.Профессия полицейского — это умение видеть разницу, а не упрощать, думала она. Работу необходимо корректировать в соответствии с меняющимися общественными условиями.
Полицейский должен хотеть помочь, проявлять заинтересованность. Не просто сидеть за тонированными стеклами в бронированной патрульной машине и беспомощно таращиться по сторонам.
Турильдсплан
Иво Андрич специализировался именно на таких редких и экстремальных смертных случаях. Он был родом из Боснии, в течение почти четырехлетней сербской блокады работал врачом в Сараево и в результате так насмотрелся на мертвых детей, что временами сожалел о том, что стал судмедэкспертом.
В Сараево было убито почти две тысячи детей в возрасте до четырнадцати лет, в том числе две дочери Иво. Он нередко задумывался о том, как выглядела бы его жизнь, останься он в деревне под Прозором. Однако теперь рассуждать на эту тему уже не имело смысла. Сербы сожгли их дом и убили его родителей и троих братьев.
Полицейское управление Стокгольма вызвало его рано утром, и поскольку держать район вокруг станции метро оцепленным дольше необходимого не хотели, ему следовало закончить работу как можно быстрее.Наклонившись поближе, он стал рассматривать мертвого мальчика и отметил, что внешность у того не шведская — арабская, палестинская или, возможно, индусская или пакистанская.
В том, что парень подвергся жестокому избиению, сомневаться не приходилось, однако удивляло полное отсутствие характерных травм, получаемых обычно при самообороне. Все синяки и кровоизлияния наводили на мысль о боксере. О боксере, который, будучи не в состоянии защищаться, все же провел двенадцать раундов, и его исколотили так, что под конец он потерял сознание.
Обследование места преступления много не дало, поскольку смерть наступила относительно давно и не здесь. Тело довольно хорошо просматривалось в кустах, всего в нескольких метрах от спуска в метро на площади Турильдсплан и поэтому не могло долго оставаться незамеченным.
1 Гамла Эншеде — пригородный район к югу от Стокгольма.
Тонино Бенаквиста. Наша тайная слава
- Тонино Бенаквиста. Наша тайная слава / Пер. фр. Л. Ефимова. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 254 с.
Впервые на русском языке издана новая книга Тонино Бенаквисты, знаменитого представителя современной французской литературы, автора бестселлеров «Сага» и «Малавита». В этот сборник вошли шесть рассказов, у героев которых — непойманного убийцы, молчаливого ребенка, антиквара-вояки, миллиардера-мизантропа и мстительного поэта — немало общего. В их внутренней жизни есть волнующая тайна, которая никак не связана с их внешней, находящейся на свету частью жизни. В конце концов, у каждого из нас своя «тайная слава», о которой мы можем лишь молчать.
Убийство на улице Каскад
Я человек с улицы, первый встречный.
Для принца я плебей. Для звезды — публика. Для интеллектуала — простец. Для избранного — зауряднейший из смертных.О, как прекрасно высокомерие исключительных существ, едва речь заходит обо мне! С какой энтомологической точностью они судят о моих вкусах и нравах! Как снисходительны к моим столь обыденным недостаткам! Часто я завидую этому их таланту — никогда не узнавать себя в других, в обыкновенных людях. И чувствую сквозь их благодушие, как их успокаивает моя посредственность. Чем была бы элита без серой массы, чем было бы выходящее за рамки без нормы?
Неужели я так предсказуем в глазах мыслителя, который знает все о моем стадном инстинкте, о моем призвании быть никем, о моем удивительном влечении к часу пик? Неужели я дисциплинирован до такой степени, что никогда не теряюсь в устроенном учеными лабиринте? Неужели настолько лишен самолюбия, что приспосабливаюсь к палке в ожидании морковки? Неужели так готов смеяться или плакать, стоит только какому-нибудь художнику или артисту почувствовать вдохновение? Неужели так уныл и скучен, что способен повергнуть в отчаяние поэта? Неужели настолько труслив, что жду воя волков, чтобы завыть вместе с ними?
Вы, лучезарные существа, дерзающие отправляться в Крестовые походы, выбирать нехоженые пути, рассуждать о душе, воодушевлять толпы, вы, заставляющие крутиться этот мир, который человек с улицы всего лишь населяет, знаете ли вы, что, говоря от его имени, сводя его к блеющей породе, отрицая его индивидуальность, вы — о ирония! — вынуждаете его к счастью? Ибо как можно принять такое — лишиться исключительной судьбы, если не быть просто счастливым — глупо, пошло, естественно счастливым? Счастливым, каким умеет быть только человек с улицы, избавленный от обязанности удивлять, потребности восхищать. И это анонимное, терпеливое счастье утешит его, быть может, в том, что он не пережил ту четверть часа славы, которую сулил ему двадцатый век.
Я солгал. Я вовсе не человек с улицы, не первый встречный.
Почти пятьдесят лет я делал все, чтобы стать им и оградить свою семью от ужасной правды. Для них я был обыкновенным малым, любящим супругом, порядочным отцом, не способным лгать или хранить тайну. Какое двуличие! Как я смог дурачить их так долго? В буквальном смысле слова я — миф. Реально существовавший исторический персонаж, преображенный легендой. В свое время обо мне исписали немало страниц. Я был темой всех разговоров. Меня искали на каждом углу улицы. Если бы мир узнал, кем я был на самом деле, я бы сейчас раздавал автографы.
Прошлой ночью моя жена, которую я так любил, умерла. Ничто более не удерживает меня от того, чтобы раскрыть свой обман.
Будучи целыми днями свидетелем ее мук, отрешенности, приступов гнева, я судорожно стиснул ей руку, чтобы впитать хоть немного ее боли. Но, не обладая этой способностью, был вынужден ждать, ждать, ждать, тщетно, бессильно, вплоть до того мига успокоения, который застал нас обоих врасплох, — ее дыхание стало почти неощутимо, конечности перестали бороться, и я увидел, как на ее губах обрисовалась загадочная, околдовывающая улыбка:
«Вот оно, я готова». Снова став сообщниками, мы заговорили на языке старых пар — закодированными, загадочными сообщениями, где в обрывках слов, вздохах, многоточиях таятся воспоминания и истории. В самый последний раз она сыграла роль жены, хорошо знающей своего мужа, и беспокоилась о том, что я не был способен совершить в одиночку, — оказалось, за сорок семь лет совместной жизни количество таких дел умножилось, а я даже не остерегся. Но я едва ее слушал, готовый украсть
у нее этот последний час, пытался сказать ей про свою вторую жизнь. Меня вовремя удержал один образ — как моя любимая проклинает меня из могилы, царапая стенки гроба, чтобы вырваться оттуда и выдрать мне глаза за то, что я скрыл тайну посильнее нашей любви.На заре она угасла, шепнув мне свою последнюю волю:
Обещай мне сблизиться с ним.С ним — это с нашим единственным сыном, который ждал за дверью.
Не имея другого выбора, я согласился — глазами. Но как сблизиться с существом, которое никогда и не отдалялось? Он всегда был уважителен, и я никогда не стыдился за него перед соседями. Ни разу не пропустил ни одного моего дня рождения, никогда не забывает про праздник отцов. Выказывает мне любовь, но с одним нюансом, я чувствую его, когда мы целуемся по официальным случаям: я подставляю ему щеки, а он придерживает меня за руки, словно останавливая мой порыв к нему. Затем спрашивает, как мое здоровье, а я — как его работа. Он не догадывается, что уже давно перестал любить меня. Если бы его об этом спросили, он бы оскорбился: Это же мой отец! Но я могу точно назвать день, когда перестал быть героем своего отпрыска.
Это было в июле 1979-го — ему тогда исполнилось тринадцать лет. Впервые он не поехал на каникулы вместе с нами — родители одного приятеля пригласили его прокатиться по Италии. Я высадил сына возле красного кабриолета, готового бороздить дороги Юга, и поздоровался с тем, кто должен был присматривать за экипажем, — человеком моего возраста, хотя выглядевшим гораздо моложе, одетым в потертые джинсы и поношенную кожаную куртку, которые придавали ему вид искателя приключений. Впрочем, он таким и оказался — будучи инженером дорожного ведомства, строил плотины и дамбы, чтобы осушать болота и орошать пустыни. Не слишком любопытный, но хорошо воспитанный, он поинтересовался, чем я занимаюсь в жизни, и, чтобы не отвечать, что я коммивояжер, торговый представитель по сбыту ручного инструмента, я сказал ему, что, дескать, специализируюсь по стали. Он обошелся без уточнений. Не беспокойтесь ни о чем, я глаз не спущу с наших негодников. Его болид свернул за угол улицы, и в этот миг я понял, что уже никогда не увижу того ребенка, который еще вчера спрашивал меня о небесной необъятности, словно я знал, откуда она взялась.
Вместо него вернулся юноша, страстно увлеченный итальянским Возрождением, способный бриться, как взрослый, и гордый тем, что в первый раз опьянел, напившись граппы. Он хотел изучать урбанистику, а я не осмелился его спросить, что это, собственно, такое. Отныне всякий раз, предлагая ему что-нибудь сделать вместе, я буду читать в его глазах, что главное для него уже не здесь.
Обещай мне сблизиться с ним.
В ту ночь я пообещал невозможное, но с завтрашнего утра старик снова станет в глазах своего сына человеком. Как никто другой. Я не прошу ни его уважения, ни сочувствия, я лишь хочу, чтобы он пожалел о своем вежливом равнодушии, хочу снова найти в его взгляде детское удивление. Мне не придется даже напрягать память, правда сама рвется наружу, она уже совсем готова, ей слишком тесно там, где она томилась полвека.
Себастьян Фолкс. И пели птицы…
- Себастьян Фолкс. И пели птицы… / Пер. с англ. С. Ильина. — М.: Синдбад, 2014. — 600 с.
«И пели птицы…» — наиболее известный роман Себастьяна
Фолкса, ставший с момента выхода в 1993 году классикой современной английской литературы.
Действие разворачивается на Западном фронте Первой мировой войны. Молодой английский офицер Стивен Рэйсфорд направлен в окопы Сомма. Именно там перед лицом смерти он восстанавливает в памяти обстоятельства своей довоенной любовной связи. Отчаянно пытаясь сохранить рассудок и волю к жизни в кровавом месиве вселенского масштаба, герой записывает свои чувства и мысли в дневнике, который спустя десятилетия попадает в руки его внучки
Элизабет. Круг замыкается — прошлое встречается с настоящим.Стивен вынул из своих часов стекло, чтобы определять в темноте время на ощупь. Когда он снова услышал звуки, говорившие, что где-то неподалеку пробивают проход, было без десяти четыре, но дня или ночи, он не знал. По его оценкам, они с Джеком провели под землей суток пять, если не шесть.
Он снова подтянул Джека к тоненькой струйке воздуха, чтобы тот мог подышать в свой черед. И лежал, потрагивая часы пальцами, отсчитывая полчаса, которые ему надлежало провести в удушающем углу их склепа. Лежал, не шевелясь, чтобы не увеличивать потребность тела в кислороде.
Волны страха продолжали прокатываться по нему. Стивен говорил себе, что, поскольку худшее уже случилось и он погребен заживо, так что и повернуться не может, бояться ему больше нечего. Страх порождается ожиданием, а не действительностью. И все же паника не покидала его. Время от времени ему приходилось напрягать все мышцы, чтобы не сорваться на крик. И еще ему очень хотелось зажечь спичку. Если он всего лишь увидит размеры своей тюрьмы, это уже будет что-то.
Потом наступали минуты, когда жизнь в нем ослабевала. Воображение, все чувства словно выключались, как гаснущие одно за другим окна большого дома. И в конце концов оставалась лишь тусклая муть, озаренная остаточным свечением меркнущей воли.
Все долгие часы, что он лежал здесь, разум его не переставал негодовать. Он сражался с этим негодованием, но оружием его была горькая обида. Сила ее прибывала и убывала, пока тело Стивена слабело от усталости и жажды, однако горечь его гнева означала, что какой-то свет, пусть и тусклый, еще горит в нем.
Когда полчаса истекли, он подполз и лег бок о бок с Джеком.
— Ты еще со мной, Джек?
Раздался стон, затем голос Джека пробился сквозь пласты беспамятства и обрел отчетливость, которой не было в нем уже несколько дней.— Хорошо, я носки прихватил, хоть есть на что голову положить. Мне каждую неделю из дому новые присылали.
Стивен, приподнимая Джека, нащупал под его щекой слой вязаной шерсти.
— А я никогда посылок не получал, — сказал он.
Джек засмеялся.
— Ну ты шутник, ничего не скажешь. Ни одной посылки за три года? Мы по две в неделю получали, самое малое. Каждый. А уж письма…
— Тихо. Ты слышишь? Это спасатели. Слышишь, они долбят землю. Прислушайся.
Стивен повернул Джека так, чтобы ухо его оказалось поближе к меловой глыбе, и сказал:
— Они на подходе.
По звучанию эха он догадывался, что они еще далеко, но стремился уверить Джека, что до них рукой подать.
— Думаю, теперь уж с минуты на минуту. И мы выберемся отсюда.
— Так ты все время в армейских носках ходил? Вот ведь бедолага. Да самый нищий рядовой нашей части…
— Слушай. Нас освободят. Мы выберемся.
Но Джек продолжал смеяться:
— Да не хочу я этого. Не хочу…
Смех перешел в кашель, а затем в спазм, от которого грудь Джека, лежавшего на руках Стивена, вздыбилась. Сухой дребезжащий звук наполнил тесную пещерку, затем прервался. Джек в последний раз протяжно выпустил из легких воздух, и тело его обмякло, — конец, которого он так желал, наступил.
Краткий миг Стивен продержал, из уважения к товарищу, тело на руках, потом передвинул его в душный конец ямы, приложил губы к щели, в которую просачивался воздух и вдохнул его полной грудью.
А после этого ногами отодвинул труп еще дальше. Горестное одиночество обрушилось на него.
С ним остались лишь звуки ударов, которые, сейчас он уже не мог отрицать этого, были безнадежно далекими, да тяжкая толща земли. Он достал из кармана спички. Теперь никто не мог остановить его, жаждущего света. И все-таки спичкой он не чиркнул.
Он выругал Джека за неверие в возможность спасения. Но гнев его угас, а разум сосредоточился на ритмичном стуке кирок по мелу. Эти непрестанные звуки походили на биения его сердца. Он снова извлек из кармана нож и стал изо всех оставшихся сил колотить по стене рядом со своей головой.
Промахав кирками четыре часа, Леви и Ламм далеко не продвинулись. Леви позвал Крогера, чтобы тот сменил Ламма.
Ожидая его, Леви присел отдохнуть. Поиски спутников брата стали для него вопросом чести. Иосиф не одобрил бы человека, который позволяет личному горю сбить его с правильного пути. Да речь шла и не столько о его, Леви, чести, сколько о чести брата. То, что он делает, сможет вернуть растерзанному телу Иосифа хоть какое-то достоинство.
Сквозь хрип своего дыхания он вдруг расслышал постукивание. Может быть, крыса? — первым делом подумал он, однако звук был слишком ритмичным и доносился слишком издалека. В нем присутствовало нечто, не оставлявшее сомнений: он проходит немалое расстояние, и только человеку может хватить сил создать такой звук.
Крогер спрыгнул с конца веревки, Леви подозвал его к себе. Крогер вслушался.
И кивнул:
— Там точно кто-то есть. Чуть ниже нас, я думаю, в туннеле, примерно параллельном нашему. Не кирка и не лопата, звук слишком слабый. По-моему, кого-то там завалило.
Леви улыбнулся:
— Говорил я вам, надо продолжать.
Однако у Крогера имелись опасения:
— Вопрос в том, как мы туда пробьемся. Между нами толща мела.
— Для начала взорвем ее. Еще один направленный взрыв. Я поднимусь, пришлю сюда Ламма. Он сумеет заложить заряд.
Лицо Леви светилось решимостью и энтузиазмом. Крогер сказал:
— А если стучит не кто-то из наших, а один из застрявших в туннеле врагов?
Глаза Леви округлились.
— Я не могу поверить, что человек способен протянуть там столько времени. А если протянул, тогда… — он развел руки в стороны и пожал плечами.
— Тогда что? — отрывисто спросил Крогер.
— Тогда мы увидим убийцу моего брата и двух его товарищей.
Крогер помрачнел.
— Око за око… Надеюсь, вы думаете не о мести.
Улыбка покинула лицо Леви.
— Я вообще ни о чем определенном не думаю. Я руководствуюсь верой — во всех случаях жизни. Поэтому встречи с ним я не боюсь, если вы это имеете в виду. Я буду точно знать, что мне делать.
— Возьмем его в плен, — сказал Крогер.
— Отставить разговоры, — оборвал его Леви. Он подошел к свисавшей в яму веревке, окликнул Ламма и попросил вытянуть его наверх.
Ламм, почти уж заснувший, услышав от Леви, что он должен сделать, не сказал ни слова. Просто приготовил заряд, уложил его в вещмешок и спустился вниз.
Плотная смесь земли и мела сопротивлялась их усилиям. У них ушло пять часов на то, чтобы пробить в ней удовлетворившую Ламма выемку для заряда. Леви менялся с ним местами, помогая Крогеру. Они набивали мешки землей и плотно укладывали их, закрывая нишу с взрывчаткой.
Крогер прервал работу, чтобы выпить воды и перекусить мясом с галетами. Леви от еды отказался.
Голова его начинала кружиться от горя и усталости, однако он твердо решил блюсти пост. И неистово работал, наполняя мешки, не обращая внимания на евший глаза пот и дрожь в пальцах.
Он не знал, кого или что найдет за этой стеной, им правило неодолимое желание довести дело до конца. Любопытство его было странным образом связано с чувством утраты. Смерть Иосифа можно будет объяснить и искупить, только отыскав еще остававшегося в живых человека и встретившись с ним лицом к лицу.
Они проложили провода и отошли в безопасное место, к началу уходившего к поверхности длинного наклонного хода. Здесь уже слышен был гром тяжелых орудий, но теперь к нему добавилась стрельба из минометов и пулеметов. Наступление началось. Ламм нажал на ручку взрывного устройства, и земля содрогнулась у них под ногами. Грохот, дуновение горячего воздуха стихли, а затем повторились снова. На миг все трое подумали, что сейчас из туннеля выкатится огненный шар, набитый землей и мелом. Но грохот смолк и во второй раз, наступила тишина.
Они торопливо направились к низкому, обитому досками входу, заползли в него и, спотыкаясь, побежали к яме, соединявшей верхний туннель с нижним. Облако меловой пыли, от которой они раскашлялись, заставило их отступить и подождать с минуту, пока она не осядет.
Леви велел Крогеру остаться наверху, а сам спустился с Ламмом вниз. Ему требовалось, чтобы Ламм оценил результаты взрыва, к тому же он сильно сомневался в том, что Крогера интересует исход их поисков.
Вдвоем они протиснулись сквозь проделанный взрывом лаз, попутно расчищая и расширяя его, и попали прямиком на главный британский пост прослушивания. Осмотрели не без насмешливого интереса дощатую обшивку стен.
— Слушайте! — Леви схватил Ламма за руку.
Теперь неистовый стук раздавался где-то поблизости.
Леви разволновался настолько, что даже подпрыгнул — и ударился головой о потолок камеры.
— Вот мы и на месте, — сказал он. — Все-таки пробились!
Они взорвали преграду, отделявшую их от цели. Осталось только разрыть землю и протянуть к этой цели руки. Стивен вынул из своих часов стекло, чтобы определять в темноте время наощупь. Когда он снова услышал звуки, говорившие, что где-то неподалеку пробивают проход, было без десяти четыре, но дня или ночи, он не знал. По его оценкам, они с Джеком провели под землей суток пять, если не шесть.
Джоджо Мойес. Один плюс один
- Джоджо Мойес. Один плюс один. — СПб.: Азбука-Аттикус, Иностранка, 2014. — 480 с.
В издательстве «Азбука» вышла новая книга британской романистки Джоджо Мойес «Один плюс один». Под пристальным вниманием писательницы со звучащим не совсем по-женски именем всегда находятся романтические отношения. В этот раз, отправляясь на пляж, прихватите с собой историю о том, как черная полоса в жизни матери-одиночки, живущей с двумя детьми и собакой, сменяется белой после встречи с обаятельным незнакомцем.
9
Танзи
Никки выписали без четверти пять. Танзи передала ему приставку «Нинтендо», которую захватила из дома, и молча наблюдала, как он нажимает на клавиши ободранными пальцами. Ее радостное
настроение слегка испортилось при виде распухшего лица Никки. Он был сам на себя не похож, и Танзи приходилось старательно смотреть ему в глаза, потому что
иначе она переводила взгляд на что-нибудь другое, например на дурацкую картину со скачущими лошадьми
на противоположной стене. Они даже не были похожи
на лошадей. Ей хотелось рассказать Никки о регистрации
в Сент-Эннз, но все мысли Танзи были о пропитанной
больничным запахом комнатке и заплывшем глазе брата.Во время ходьбы он постанывал с закрытым ртом, как
будто не хотел выдавать, насколько ему больно. Танзи
невольно подумала: «Это сделали Фишеры, это сделали
Фишеры» — и немного испугалась, потому что не могла представить, чтобы кто-нибудь из знакомых сделал
подобное без причины. Маме пришлось привычно пререкаться с врачами: нет, она не родная его мать, но ничуть не хуже родной. И нет, к нему не приставлен социальный работник. Танзи всегда становилось немного не
по себе от таких разговоров, словно Никки не был настоящим членом их семьи, хотя на самом деле был.Когда Никки собрался выйти в коридор, Танзи ласково взяла его за руку. Обычно он говорил «Брысь, рыбешка» или еще какую-нибудь глупость, но на этот раз
лишь сжал ее пальцы и едва заметно улыбнулся распухшими губами, как будто в виде исключения разрешил
держать его за руку, по крайней мере, пока не сказал:
«Танзи, дружище, извини, но мне надо в уборную».Лицо мамы было белым как мел, и она непрерывно
кусала губы, точно хотела что-то сказать. Никки ни разу на нее не посмотрел.А потом, когда в палату заявилась куча врачей, мама
велела Танзи подождать снаружи, и она ходила взад и
вперед по длинным стерильным коридорам, читая задания и решая задачи по алгебре. Числа всегда поднимали
ей настроение. Если правильно с ними обращаться, они
всегда делают то, что положено, как будто в мире существует волшебный порядок и надо только подобрать нужный ключ. Когда Танзи вернулась, Никки уже оделся.
Он вышел из комнаты очень медленно, не забыв поблагодарить медсестру.— Какой милый мальчик, — сказала медсестра. —
Вежливый.Мама собирала вещи Никки.
— Это самое ужасное, — отозвалась она. — Он
просто хочет, чтобы его оставили в покое.— Ничего не выйдет, пока рядом ошиваются такие
типы. — Медсестра улыбнулась Танзи. — Береги брата.Танзи шла за братом к главному выходу и пыталась
понять, что именно неладно с их семьей, если в последнее время каждый разговор заканчивается пристальным
взглядом и советом беречься.Мама приготовила ужин и дала Никки три разноцветные таблетки. Танзи с Никки сидели на диване и
смотрели телевизор. Показывали шоу «Жестокие игры»,
над которым Никки обычно хохотал до упаду, но после
возвращения домой он помалкивал, и вряд ли потому,
что у него болела челюсть. Он и выглядел как-то непривычно. Танзи вспомнила, как парни набросились на него и незнакомая женщина затащила ее в ларек, чтобы она
ничего не видела. Она попыталась отогнать воспоминание, потому что при звуках ударов у нее по-прежнему
сводило живот, хотя мама пообещала, что такого больше не случится, она не позволит, и Танзи не должна об
этом думать, ладно?Мама хлопотала наверху. Танзи слышала, как она вытаскивает ящики комодов и расхаживает по лестничной
площадке. Мама так замоталась, что даже не заметила,
что детям давно пора спать.Танзи осторожно ткнула Никки пальцем:
— Это больно?
— Что больно?
— Твое лицо.
— В смысле? — Он недоуменно посмотрел на нее.
— Ну… у него странная форма.
— У твоего тоже. Это больно?
— Ха-ха.
— Со мной все в порядке, малявка. Забей. — Она
уставилась на него, и он добавил: — Правда. Просто…
забудь. Все нормально.Вошла мама и прицепила поводок к Норману. Пес
лежал на диване и не хотел вставать, и мама вытащила его за дверь только с четвертой попытки. Танзи хотела спросить, собралась ли она на прогулку, но тут по телевизору начали показывать самое смешное: как колесо
сбивает участников с маленьких платформ в воду. Затем
мама вернулась:— Ладно, дети. Берите куртки.
— Куртки? Зачем?
— Затем, что мы уезжаем. В Шотландию. — Она
произнесла это как нечто само собой разумеющееся.Никки не сводил глаз с экрана.
— Мы уезжаем в Шотландию. — На всякий случай
он навел пульт дистанционного управления на телевизор.— Да. Поедем на машине.
— Но у нас нет машины.
— Возьмем «роллс-ройс».
Никки посмотрел на Танзи, затем снова на маму:
— Но у тебя нет страховки.
— Я вожу машину с двенадцати лет. И ни разу не
попадала в аварию. Мы будем ехать по проселочным
дорогам, по ночам. Если нас никто не остановит, все
получится.Дети уставились на нее.
— Но ты говорила…
— Я знаю, что я говорила. Но иногда цель оправдывает средства.
— Что это значит?
Мама воздела руки к небу:
— В Шотландии скоро начнется соревнование по
математике, которое может изменить нашу жизнь. Но
у нас нет денег на проезд. Вот в чем дело. Я знаю, ехать
на машине не идеальный вариант, и я не говорю, что
это правильно, но если у вас нет идей получше, садитесь в машину и поехали.— А собраться?
— Все уже в машине.
Танзи знала, что Никки думает о том же, о чем и она:
мама в конце концов сошла с ума. Но Танзи где-то читала, что сумасшедшие как лунатики — их лучше не беспокоить. Поэтому она кивнула, очень медленно, как
будто в маминых словах был смысл, сходила за курткой,
и они вышли через заднюю дверь в гараж. Норман уже
устроился на заднем сиденье и смотрел на них с видом
«Да. Я тоже». Танзи села в машину. В салоне пахло сыростью, и ей очень не хотелось прикасаться к сиденьям, потому что она где-то прочитала, что мыши постоянно писают, прямо-таки непрерывно, а через мышиную мочу
передается около восьмисот болезней.— Можно, я сбегаю за перчатками? — спросила она.
Мама посмотрела на нее, будто это Танзи выжила из
ума, но кивнула. Танзи надела перчатки, и ей вроде бы
немного полегчало.Никки осторожно сел на переднее сиденье и пальцами стер пыль с приборной доски. Танзи хотелось рассказать ему о мышиной моче, но маме лучше не знать, что
ей это известно.Мама открыла дверь гаража, завела мотор, медленно
выехала задом на дорожку. Затем вышла из машины, закрыла и надежно заперла гараж, села на место и минуту
подумала.— Танзи! У тебя есть бумага и ручка?
Она порылась в сумке и достала бумагу и ручку. Мама
не хотела, чтобы Танзи видела, что она пишет, но Танзи
подглядела в щель между сидений.ФИШЕР ТЫ МАЛОЛЕТНЯЯ МРАЗЬ Я СКАЗАЛА
ПОЛИЦИИ ЧТО ЕСЛИ К НАМ КТО-ТО ВЛОМИТСЯ
ТО ЭТО ТЫ И ОНИ СЛЕДЯТ ЗА ДОМОММама вышла из машины и приколола записку к нижней части двери, чтобы не увидели с улицы. Затем снова села на обглоданное мышами водительское сиденье,
и с тихим урчанием «роллс-ройс» выехал в ночь, оставив позади светящийся домик.Минут через десять стало ясно, что мама разучилась
водить. Действия, которые знала даже Танзи, — зеркало,
сигнал, маневр — она упорно выполняла в неверном
порядке и цеплялась за руль, словно бабуся, которая колесит по центру на скорости пятнадцать миль в час и царапает дверцы машины о столбики на муниципальной
парковке.Они проехали «Розу и корону», промышленную зону с ручной автомойкой и склад ковров. Танзи прижала
нос к окну. Они официально покидают город. В последний раз она покинула город на школьной экскурсии в
Дердл-Дор, когда Мелани Эбботт стошнило прямо на
колени, отчего учеников пятого «C» начало тошнить одного за другим.— Главное — это спокойствие, — бормотала мама
себе под нос. — Уверенность и спокойствие.— Ты не выглядишь спокойной, — заметил Никки.
Он играл в «Нинтендо», большие пальцы его рук
так и мелькали по обе стороны маленького мерцающего
экрана.— Никки, смотри в карту. Оставь в покое «Нинтендо».
— Надо просто ехать на север.
— Но где север? Я сто лет здесь не была. Ты скажи,
куда ехать.Никки посмотрел на дорожный указатель:
— По M3?
— Не знаю. Я тебя спрашиваю!
— Дайте, я посмотрю. — Танзи протянула руку с
заднего сиденья и забрала карту у Никки. — Какой стороной вверх?Пока Танзи сражалась с картой, они дважды объехали круговую развязку и выбрались на окружную. Танзи
смутно помнила эту дорогу: однажды они ехали этим
путем, когда мама и папа пытались продавать кондиционеры.— Мам, включи свет на заднем сиденье, — попросила Танзи. — Я ничего не вижу.
Мама обернулась:
— Кнопка над твоей головой.
Танзи нащупала кнопку и нажала ее большим пальцем. Можно было снять перчатки, подумала она. Мыши
не умеют ходить вниз головой. В отличие от пауков.— Она не работает.
— Никки, смотри в карту. — Мама сердито глянула
на него. — Никки!— Да-да. Сейчас. Только достану золотые звезды. Они стоят пять тысяч.
Танзи сложила карту как можно аккуратнее и пропихнула обратно между передними сиденьями. Никки склонился над игрой, полностью в нее погрузившись. Золотые звезды и правда непросто достать.
— Немедленно убери эту штуку!
Никки вздохнул и захлопнул игру. Они проехали мимо незнакомого паба, затем мимо нового отеля. Мама
сказала, что они ищут M3, но Танзи давно не видела никаких указателей на M3. Норман начал тихо подвывать.
По прикидкам Танзи, через тридцать восемь секунд мама скажет, что это действует ей на нервы.Мама продержалась двадцать семь.
— Танзи, пожалуйста, уйми собаку. Невозможно
сосредоточиться. Никки! Я тебя очень прошу, смотри
в карту.— Норман все заливает слюнями. По-моему, ему
надо выйти. — Танзи отодвинулась.
Никки щурился на указатели.— Эта дорога, похоже, ведет в Саутгемптон.
— Но нам туда не надо.
— А я о чем?
Нестерпимо пахло маслом. Может, что-то протекает? Танзи зажала нос перчаткой.
— Может, просто вернемся и начнем сначала?
Мама зарычала, свернула с дороги на следующем
съезде и поехала по круговой развязке. На поворотах сухожилия на ее шее выпирали, будто маленькие стальные
канаты. Все старательно не заметили, с каким скрежетом
они развернулись и поехали обратно по другой стороне шоссе.— Танзи, пожалуйста, уйми собаку. Пожалуйста.
Одна из педалей была такой жесткой, что маме приходилось опираться на нее всем весом, только чтобы сменить передачу. Мама подняла взгляд и указала на поворот на город:
— Что мне делать, Никки? Поворачивать сюда?
— О боже, он пукнул, мама! Я сейчас задохнусь.
— Никки, пожалуйста, посмотри в карту.
Танзи припомнила, что мама терпеть не может водить
машину. Она довольно туго соображает и уверяет, будто
у нее нет нужных синапсов. К тому же, если честно, запах, пропитавший машину, был настолько отвратителен,
что собраться с мыслями было непросто.Танзи начала давиться:
— Я умираю!
Норман повернул к ней свою большую старую голову. Его печальный взгляд упрекал Танзи в неоправданной жестокости.
— Но тут два поворота. Какой выбрать — первый
или второй?— Ну конечно второй. Ой, нет, извини… первый.
— Что?
Мама резко свернула с шоссе на съезд, едва не прокатившись по заросшей травой обочине. Машина содрогнулась, когда они задели бордюр, и Танзи пришлось отпустить нос, чтобы схватить Нормана за ошейник.
— Неужели так сложно…
— Я имел в виду следующий. Этот ведет совсем
в другую сторону.— Мы едем уже полчаса, но дальше от цели, чем в самом начале. Господи, Никки, я…
И тогда Танзи увидела мигающий голубой свет.
Она уставилась в зеркало заднего вида, затем обернулась и посмотрела в окно, не веря собственным глазам. Танзи молилась, чтобы полицейские проехали мимо,
спеша на место неведомой аварии. Но они неуклонно
приближались, пока холодный голубой свет не затопил
«роллс-ройс».Никки с трудом развернулся:
— Э-э-э, Джесс, по-моему, они хотят, чтобы ты затормозила.
— Твою мать! Мать, мать, мать. Танзи, ты ничего
не слышала. — Мама перевела дыхание, поудобнее перехватила руль и сбросила скорость. — Все будет хорошо. Все будет хорошо.
Никки чуть сгорбился:— Э-э-э, Джесс?
— Не сейчас, Никки.
Полицейские тоже притормаживали. У Танзи вспотели ладони. «Все будет хорошо».
— Надо было раньше сказать, что у меня с собой
травка.