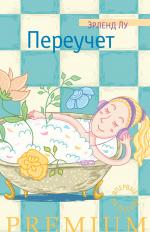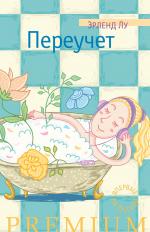- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 156 с.
Говорят, чужая душа — потемки, а внутренний мир человека искусства — тем более. Так что если вы то и дело ждете вдохновения и дарите миру свои творения, это повод обратить внимание на новый роман норвежца Эрленда Лу «Переучет». А уж если вы непризнанный и неоцененный поэт, как героиня книги, Нина Фабер, стоит внимательно отнестись к изложенным в тексте мыслям и переживаниям. Чтобы не повторить ее судьбу и не попасть под трамвай. Дважды.
Нина Фабер после долгого перерыва вновь начинает писать стихи и возлагает огромные надежды на свой новый поэтический сборник «Босфор», который должен вернуть ее творчество в поле зрения читателей и литературных критиков. Но после нескольких разгромных рецензий она буквально слетает с катушек. За день, описанный в книге, Нина совершает череду поступков, выходящих за грани приличия и даже — закона. Случайное убийство Бьерна Хансена, который отменил встречу с читателями Нины, оправдавшись переучетом в книжном магазине, не вызывает у нее ни капли сожаления. Этого мало, и обиженная писательница начинает охоту на Рогера Кюльпе, несчастного студента, не понимающего в поэзии ровным счетом ничего, но написавшего ужасный отзыв на «Босфор». Кто дал ему, некомпетентному выскочке, право так рассуждать о ее стихах — вот что волнует героиню в первую очередь:
Судя по всему, заключает Нина, у этого Кюльпе нет никаких оснований писать о ее стихах или кого другого и уж во всяком случае называть ассоциации заезженными. Сутью поэзии как раз является личное истолкование того, что все видят и переживают и даже могут описать, но не такими словами, как Нина, или Кюльпе, или я не знаю кто. Но если человек мыслит исключительно категориями массового истребления людей (студент увлекается литературой о геноциде и репрессиях), то личные заметки на тему любви, старости или мостов в Стамбуле, вероятно, кажутся ему заезженными. Нину колотит от ярости. Да как он смеет! И как он посмел…
Писательница ужасно одинока. Нет никого, с кем она была бы по-настоящему близка. Лу подчеркивает это и создает трагикомедию, добавляя в повествование забавно-грустные сюжеты из жизни Нины, одним из которых становится эпизод общения с ежиком Юсси.
Нет, он (ежик) не относится к ней плохо, он вообще не испытывает к ней никаких чувств, только к молоку. Для Юсси Нина — некое неизбежное зло, увязанное с появлением молока. Завидев Нину, ежик понимает, что близится молоко, оживляется и радуется, а Нина толкует это как доказательство связи между ней и Юсси.
Эрленд Лу делит историю на восемь этапов, во время которых в сознании героини тоже происходит «переучет». Ее действия кажутся нелогичными, реплики — порой бессмысленными. Но когда она рыдает, сидя на тротуаре, впервые за весь день находится человек, который готов ее поддержать. Молодая женщина, поклонница Нины Фабер, казалось бы, может дать ей стимул «возродиться из пепла» после душевного опустошения. Ведь если есть хоть один человек, которому близка твоя поэзия, в творчестве появляется смысл.
Логика автора принципиально другая. Хотя Нина Фабер не гонится за славой, ей ужасно обидно за себя и свои стихи. Она растоптана и морально уничтожена безразличием критиков, которые, по сути, решают, быть или не быть книге. И они поставили на сборнике Нины крест. Как и Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», Эрленд Лу заостряет вопрос об ответственности рецензентов за свои слова. Оба — Латунский, незаслуженно забраковавший роман Мастера, и Кюльпе, разгромивший сборник «Босфор», — караются авторами за небрежное отношение к литературе.
Нина мучительно ищет способ избавиться от «литературно-критического узла», в котором она запуталась. Писательница уходит в себя, и даже физические страдания не могут перекрыть душевную боль. Ей досадно за то, что успех приходит к жалким, ничего из себя не представляющим «юным дарованиям», у которых есть влиятельные покровители. За то, что признание зависит от моды на стихотворную тематику. И если ты не вписываешься в общее направление, литературной премии тебе не видать.
Тактичная лирика Нины была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном, крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия, вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом доставалась другим.
Неужели после стольких неудач и разочарований героине остается только сдаться? В ее стихах часто повторяются фразы «Раньше у меня было больше. Теперь меньше». Меньше надежды, сил, веры в себя и в других людей. Лу играет с читателем, заставляя поверить в трагическую концовку и как будто обрывая предпоследнюю главу. Но пережив столкновение с трамваем, Нина трижды восклицает: «Я поэт!» Она жива и не остановится, она будет писать.
Метка: Эрленд Лу
Эрленд Лу. Переучет
- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, 2014. — 160 с.
В издательстве «Азбука» выходит новый роман Эрленда Лу «Переучет». Поэтесса Нина Фабер, чья «тактичная лирика была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента», была не замечена жюри главной в Скандинавии литературной премией. Уехав в Стамбул, Нина долго хранила молчание и лишь десятилетие спустя решилась выпустить новый сборник стихов «Босфор». Но разгромная и вопиюще несправедливая рецензия в университетской газете лишила поэтессу терпения: теперь кто-то должен заплатить по всем счетам.
Бытовало мнение, что в семидесятых Нину Фабер обошли главной на всю Скандинавию литературной премией. Тактичная лирика Нины была
по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном,
крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия,
вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом
доставалась другим. Ее получали датчане, финны, шведы, неловко сказать, исландцы. Деньги и
признание не были бы Нине лишними. Другим,
видимо, тоже.В восьмидесятые у тонкой, ломкой лиричности
не было шанса тягаться с формализмом и экспериментом, не говоря уже о втором-третьем-пятом уровнях в мегатексте девяностых.Начало нового тысячелетия вернуло Нине
шанс, но ее вера в себя ослабела, а в ближайшем
кругу ее списали с поэтических счетов. Нине не
работалось, у нее все подряд не клеилось. Она собачилась с сыном, переругалась с друзьями и в целом была разочарована в жизни, баловавшей ее
не больше мачехи.Нина пустилась во все тяжкие. Старые приятели из Совета по делам литературы выбили ей
трехлетнюю творческую стипендию. Нина расплакалась от радости. И пропала с радаров на несколько лет. Поговаривали, что она пьет, вроде пишет,
кажется, завела роман в Стамбуле. Внезапно она
вернулась, сняла домик с тремя сотками в городском садовом товариществе (она полжизни значилась в листе ожидания) и помирилась с сыном
Людвигом. Умерила питейный раж и отпраздновала шестьдесят пять без шума и пыли.Четырнадцать месяцев подряд она писала, обложившись сотнями страниц черновиков и записей, привезенных из Стамбула. Сочинялось на
одном дыхании, совестно работой назвать. Нина
цвела. Сто семьдесят стихотворений представила она на суд прежнего своего редактора, найдя
его после двенадцатилетнего перерыва. Они ровесники, Като Волд был женат, но, естественно,
развелся, снова женился и опять развелся, он
обладатель завидной должности в престижном
издательстве, хотя в своем цеху далеко не главный гений. Было время, Като трепетал перед литературой, но те дни давно миновали. Зато человек Като приличный. Часто ходит в театр и на
лыжах и не рвется облапошить человека без повода. В основу стихотворного цикла, названного
Ниной «Босфор», легли ее впечатления от пейзажа за окном стамбульской квартиры. Вдохновляясь импрессионистами, она описывала один и
тот же вид из окна, город, мост, улочки, в зависимости от погоды и настроения пробуждающие час от часу и тем более день ото дня несхожие ассоциации.Като Волд прочел, и ему понравилось. Он не
ждал от Нины ничего, тем более такого уровня.
Вместе они отобрали восемьдесят стихотворений.
Книга откроет перед Ниной двери, закрытые десятки лет, и вернет ей уверенность в себе. Сообщит читателю, что Нина не только жива, но и пишет как никогда хорошо. Так, по крайней мере, показалось Като. Он не преминул даже сказать, что
и «Книжный клуб» не устоит перед таким соблазном, и хотя на деле тот устоял, восторгов и ожиданий насчет «Босфора» поначалу было много.Сама Нина книгой была довольна, но не разделяла уверенности Като и издательства в том,
что успех предрешен. Мир очень изменился. Авторитетные литературные критики, частью знакомые ей по альковным делам, вышли в тираж,
их заменили юные законодатели мод завтрашнего дня, а с ними как-то и не переспишь. Не то чтобы
Нина в постели добывала восторженные рецензии на свои книги, но она тепло вспоминала то
фантастическое время, когда граница между пишущей братией и критиками была приятно эфемерной и люди с обеих сторон, да что там, со всех
сторон составляли одну, как говорится, большую
семью. Практично и душевно было все устроено.
Но этот поезд ушел, давно и безвозвратно, и сентябрьским утром в начале второго десятилетия
нового века, в день выхода «Босфора» в свет, Нина Фабер начеку и на взводе, даром что и так была вся на нервах последние недели. Срывалась и
раздражалась по любому пустяку. Впрочем, последние лет десять это ее привычное состояние.
Она давно все про себя поняла. Когда-то ей были
открыты все пути. Она могла получить любую
специальность, стать медицинским работником
например. Эта мысль преследует Нину. Ее жизнь
могла быть иной. Доктор Фабер. Сам по себе титул неизбежно вызывал бы трепет и уважение
окружающих. Не говоря уже о наполнении пенсии в те же ее шестьдесят семь лет. Или стала бы
окружным судьей. Да мало ли прекрасных работ.
Хоть бы и совсем скромно — учителем. Жила
бы, как люди обычно живут, на обычные деньги,
плюс оплаченный отпуск и соцпакет. А так стала
дилетантом, считает Нина. Раньше не была, а теперь стала. Она полагала, что с возрастом и опытом придут основательность и спокойствие, но
все наоборот, сильнее становятся только стресс и
страх не оказаться в отличницах. Чувство, что она
обязана что-то доказать, стало гораздо сильнее.*
Себя Нина считает никчемной. Да, у нее бывали счастливые минуты, слова легко подчинялись
ей, и она сочиняла из них тексты, издавала, но
механика этого дела недоступна рациональному
объяснению, Нина ею не владеет. Кое-что ей в
жизни удалось, свидетельством тому книги, но
как она умудрилась написать их, неизвестно. Нина не приручила стихи, они рождаются сами,
когда вздумают, отчего не чреватое ни деньгами,
ни всеобщими восторгами стихоплетство легко
обесценивается, особенно в глазах самой Нины,
тем более в мрачный период, из коих ее жизнь по
преимуществу и состоит.Нина судит себя беспристрастно и видит, что
иногда преуспевает в незачетных активностях, но
все анкетно-статусное не дается ей, вся эта конкретная сторона жизни, практическая, межличностная. Нина всегда ненавидела вопрос, где она
работает. Люди в основном имеют нормальную
работу, некоторые служат даже экспертами. Услуги, предлагаемые ими, востребованы, за них платят серьезные деньги. Господи, не раз думала Нина, в самый тучный свой год я зарабатываю в несколько раз меньше простого электрика, а они
учатся совсем недолго и на всю жизнь обретают
хлебную профессию. Поменять провода, поставить розетки или распределительный щиток —
нужда в этом есть всегда. А ее стихи игнорируют
законы электромагнетизма, не способствуют росту ВВП, рассчитаны на фантазеров и мечтателей. В свое время у нее был круг читателей, но ее
ровесники, когда-то бредившие стихами, давно
стали как все и переключились на биографии политиков.*
Вначале Нина гордилась принадлежностью к
насту, к тонкой прослойке рисковых и бедовых
идеалистов, они выгрызают истинную сущность
жизни из каждого мгновения, данного остальным
лишь для забот о размере будущей пенсии, но уже
много лет как она презирает всех писак, включая
себя, а также все, что написала или пишет. Хотя
машинально то и дело мысленно ставит метку,
собирая впрок всякий сор для будущих стихов.
А они прут и прут, сами, почему так происходит,
неизвестно, но они рвутся наружу, как бы Нина
ни артачилась. Аж тошно. Хотя теперь-то уж что,
столько лет она таким манером жила, теперь только зубы стиснуть и дотерпеть. Еще два года, и она
получит пенсию. Да, минимальную, социальную,
а все же стабильность. Деньги каждый месяц. Если питаться разваренным горохом, а иногда разводить из него супчик с беконом, то можно жить
неделями на несколько сотенных, главное пить не
начать, но с этим она почти завязала. Отсутствие
планомерности и дотошности — вот что Нина
всерьез в себе презирает. С ранней молодости мечтала она, например, сдать на пилота легкого самолета, но упорно отодвигала мечту покружить над пустыней на потом, когда появятся лишние
деньги, отчего-то она всегда видела себя в кабине
кукурузника именно над барханами: ветер собрал
пески в причудливые зыбкие звезды, и Нина с
воздуха фотографирует их для престижного журнала. Из этого ничего не вышло, Нина сдалась, и
не столько из-за денег, хотя и это оставалось проблемой, но признав, что ей не хватит дотошности
и четкости. Она никогда не учтет всех нюансов,
что подлежат учету. К гадалке не ходи, не совсем
оптимальные погодные условия не удержат ее от
полета. И станет она новостью в разделе происшествий, типа: спортивный самолет потерпел аварию, врезавшись в тумане в горный склон или
выработав в ноль топливо где-то в северном Хельгеланне. В царстве поэзии интуиция изредка помогает ей, но в реальном мире дефицит четкости
означает смерть. Эта нехватка дотошности давно
породила в Нине презрение к себе, для избавления от него она с переменным успехом практиковала работы в саду, чтение, хождение босиком по
росе, временами алкоголь. В это сентябрьское утро страх и напряжение достигли апогея. Что, если
вновь фиаско? Сможет ли она жить дальше с тем
же ощущением приниженности? Она хочет опять
расправить плечи, вовремя оплачивать счета, а в
глубине души мечтает, конечно же, что взойдет ее звезда.
Что «У»годно
- Эрленд Лу. У. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 416 с.
Не успел Евгений Гришковец, мастер простого слога, опубликовать свою 100500-ую «жжизнь», как читателям стал доступен в новом бумажном варианте роман «У» норвежского автора Эрленда Лу. Написанный 1998 году, он пришелся ко времени в начале двухтысячных. Сразу после выхода книги «Наивно. Супер» Лу стал чрезвычайно интересен читающей публике своим нарочито простым повествованием. Переизданный в 2013-м, «У» вызывает лишь раздражение.
Двадцатидевятилетний Эрленд (роман, кстати, старательно пытается сойти за автобиографический: подлинные имена, даты, исторические факты, названия географических мест, фотографии, сканы документов) живет в Норвегии. «У меня есть все необходимое и вообще полный порядок. Никто мне не угрожает извне. Процентные ставки то повышаются, то понижаются, но, по моему ощущению, меня это вроде бы не касается». Щадящие европейские условия позволяют герою большую часть свободного времени проводить в размышлениях о мироустройстве, не думать о семейном положении и особенно не работать. Единственная мысль отравляет беззаботное существование Эрленда: он «не строил Норвегию».
Желание совершить что-нибудь значимое для родной страны становится идеей фикс. Эрленд набирает команду из шестерых друзей-переростков и после долгих сборов и болтовни отправляется с ними в экспедицию на один из островов Полинезии. Юноши должны найти доказательства того, что первобытный народ преодолел Тихий океан на коньках в Ледниковый период, а попутно провести несколько локальных исследований: составить периодическую таблицу девушек и проверить возможность непрерывного сна.
Профессионально не подготовленные для жизни в подобных условиях, мальчики немножко ссорятся, изнывают от жары и скуки, исследуют остров по принципу «найди то, не знаю что; пойди туда, не знаю куда», строят замки из песка, пьют кокосовое молоко и каждую ночь жгут костры, подводя итоги и обсуждая планы на завтра. «Когда настает время разжигать костер, я валю на дрова целое дерево. Дерево гнилое и трещит, как спичка. Внутри оказывается муравейник. Там тысячи муравьев. Целая колония. Сложная, создававшаяся веками экосистема, общество со своей иерархией и структурой. Я безжалостно кидаю дерево в костер. Вопрос стоял: оно или я? — думаю я про себя, хотя это не совсем так».
После 22-го костра Лу надоедает описывать происходящее в одноименных главах. Да и набор исторических комментариев и справок, которые можно вплести в повествование, видимо, подходит к концу. Поэтому последняя глава носит название «Двадцать второй — тридцать второй костер». Обрывая рассказ, автор, в сущности, облегчает жизнь читателю, обреченному не один раз узнать, что мошки — они такие нехорошие мошки, а крабы — очень хитрые и страшные, да, — поедают все, что угодно, без разбору. Измученные путешествием мужики — ну наконец-то! — приземляются в аэропорту родной Норвегии и вздыхают с облегчением, все еще надеясь, что через много лет их путешествие будет замечено потомками.
После захлопывания книги долго сохраняется ощущение, как от бессонно проведенной в переворачивании с боку на бок ночи, во время которой бородатый комар в одиночку напевает на ухо пьяные рулады, не давая сомкнуть глаз. Роман доставит удовольствие тем, кто совсем не знаком с творчеством Лу, родителям детей-переростков, проживающих в Европе, и людям с замедленными реакциями. Всем остальным брать книгу в руки стоит лишь в случае особой заинтересованности ранним творчеством писателя или отсутствия другой печатной продукции.
Ах да, размещенный в конце предметный указатель, в котором по алфавиту (без привязки к страницам) что только не перечислено (вранье, жуткое; время, брали в помощники; Всемирная история по Эвену; Вудсток; выработка общественного мнения; вычитание), должен был объяснить терпеливо добравшемуся до последней страницы читателю, что «У» в названии «указатель» и есть.
Хотя это «У», кажется, может значить что угодно. «Умирание насекомых», «унылость сюжета» или «усталость от стиля автора», например.
Эрленд Лу. Фвонк
- «Азбука-Аттикус», 2012
- Впервые на русском — новейший роман самого популярного норвежского писателя современности, автора таких бестселлеров, как «Наивно. Супер» и «Во власти женщины», «Лучшая страна в мире» и «У», «Допплер» и «Грузовики „Вольво“», «Сказки о Курте» и «Мулей».
- Героем этой книги — такой же человечной, такой же фирменно наивной и в то же время непростой, как мегахит «Наивно. Супер», — является некто Фвонк, бывший высокопоставленный работник Общества спортивной и оздоровительной ходьбы, вынужденный подать в отставку из-за всколыхнувшего Общество финансового скандала, хотя сам он и не был причастен к злоупотреблениям. Фвонка беспокоит повсеместное падение нравов и панически страшат «брюхатые». У Фвонка появляется сосед, который постоянно приходит к нему по вечерам. Не сразу, но Фвонк все же понимает, кто скрывается под огромной бородой. Соседа зовут Йенс, и он премьер-министр Норвегии. Тот договаривается со своей семьей и норвежским правительством, что несколько дней в неделю он будет проводить у Фвонка, изживая травму после трагических событий июля 2011 года — двойного теракта, устроенного Андерсом Брейвиком…
38) На следующую ночь все повторилось. В волчье
время в дверь позвонил жилец. Процедура та
же — извинения, чай, борода, срочные документы,
Фвонк дремлет в кресле. Ни один из них не формулирует
этого, но им приятно в обществе друг
друга, тепло и хорошо, оба этим не избалованы.
39) Жилец отложил свои бумаги и уставился
на Фвонка.
«Какой твой любимый палиндром?» — спросил
он.
Фвонк задумался.
«У меня нет любимого палиндрома», — подумав,
ответил он.
«А у меня: Yo, banana boy».
Фвонк покивал. Что это за человек перед ним?
40) Полчаса спустя жилец снова отложил свои
бумаги.
«Ты ведь не думаешь, что у меня не жизнь, а малина?» — спрашивает он.
«Нет, конечно», — отвечает Фвонк.
«Это хорошо. А как ты сам живешь? Легко?»
«Нет».
«Но поверь, ты просто не представляешь, насколько
нелегка моя жизнь. Я не могу позволить
себе даже кризиса среднего возраста».
«Бедняга».
«Меня это просто бесит!»
«Приходи злиться сюда ко мне, — предлагает
Фвонк. — Я привык, что люди злятся».
«Эх, как раз сейчас я мирный».
Жилец опускает глаза в бумаги и тут же снова
поднимает их на Фвонка.
«Ты простой человек?» — спрашивает он.
«Не знаю, — отвечает Фвонк, — но, наверное,
да, некоторым образом».
«Мне надо больше общаться с народом, с простыми
людьми», — говорит жилец.
«Народ, — повторяет за ним Фвонк, пробуя слово
на вкус, — это тролль со многими головами».
Жилец заходится смехом:
«Черт побери, а ты прав!»
41) «Меня разбудил сон, — говорит бородатый,
— я поэтому сюда пришел».
«Правда?»
«За мной гналась всадница, она норовила затравить
меня и все время кричала таким голосом,
как эхо: „Кто в Норвегии всех сильнее?“ — а в у нее, представляешь, было ядовитое яблоко. Фу,
кошмар».
«Да, звучит малоприятно. А что это была за
всадница?»
«Фрукточница».
«Фрукточница?»
«Яблочная дива».
Фвонк кивает, как будто теперь ему все ясно.
«Яблоко было отравленное, — говорит жилец, —
у него был такой типичный вид отравы: очень красное,
очень большое, очень красивое, видно, что опасное».
«И ты проснулся?»
«Да, проснулся и подумал, что чашечка чая
могла бы приглушить кошмар».
«Я не умею толковать сны и не знаю, что бы
это могло означать, но, по-моему, часто сны оказываются
вздором, возможно, этот тоже».
«Ты прав! — говорит жилец. — Совершенно
прав — сон ничего не означает, даже смешно —
бояться яблока, ой не могу».
«Вот видишь, — говорит Фвонк, — совсем другое
дело».
42) «Два вопроса», — говорит Фвонк жильцу,
собравшемуся идти к себе вниз.
«Да?»
«Нахальство с моей стороны спрашивать об
этом, но у меня сейчас, я бы сказал, тревожный
период в жизни, поэтому мне было бы спокойнее
знать, кто ты и кто твои друзья. Мне не хочется без
нужды изводить себя лишним беспокойством».
Жилец долго смотрит на него, видно, он обескуражен
вопросом.
«Какие друзья?» — спрашивает он наконец.
«Остальные двое, — говорит Фвонк. — Те другие
двое жильцов, из второй комнаты».
«Ах эти! Какие они мне друзья? Я не могу поговорить
с ними фактически ни о чем, они просто
ходят со мной везде, нет, не пойми меня превратно,
они по-своему симпатичные люди, но у меня
с ними ничего общего».
Жилец грустно чешет в бороде, и, хотя он делает
это очень осторожно, она вдруг начинает елозить
по подбородку туда-сюда, как накладная. Жилец
сам это замечает, резко отнимает руку, кидает
беглый взгляд на Фвонка, соображает, что все это
выглядит странно, и глупо улыбается.
«От этой бороды одни проблемы, — говорит
он, — да, но мне пора, доктор прописал мне почаще
оставаться наедине с самим собой, чтобы расслабиться,
иметь время подумать, так что я, пожалуй,
пойду к себе, да, но спасибо преогромное
за чай».
Он встает и протягивает Фвонку руку. Тот кивает
и жмет ее. Жилец бредет в прихожую, надевает
кроссовки, поправляет бороду, одергивает
пижаму и застегивает у горла верхнюю пуговку —
на лестнице холодно.
«Не хотел бы показаться назойливым, — говорит
Фвонк, — я не сую нос в чужие дела, но в данном
случае вынужден спросить — кто ты?»
«Я как-то не уверен, что тебе следует это
знать», — отвечает жилец.
«Не знаю, — говорит теперь Фвонк, — но на
днях, вернее, в прошлое воскресенье я видел тебя
или третьего из жильцов на заднем сиденье автомобиля,
когда те, кого нельзя назвать твоими, то
есть его, друзьями, выезжали из гаража, и в тот момент
он или ты, короче, третий в машине был без
бороды, что бросается в глаза и странно, поэтому
я хочу спросить, как ты можешь все это объяснить.
Я не собираюсь ни во что вмешиваться, но
я должен знать, что все в порядке и что наш договор
найма выдерживает, так сказать, свет дня».
Жилец молчит.
«Ты, — говорит Фвонк, — ты ведь… я подозреваю,
что на самом деле ты… скажем так: тот ли ты
человек, о ком я подумал?»
Утвердительный кивок.
«Да, — говорит он. — Боюсь, я и есть он».
Фвонк инстинктивно вытягивается во фрунт.
«Прошу простить, — говорит он. — Я, видимо,
зашел слишком далеко, я не собирался совать нос
куда не надо, у тебя, безусловно, были свои резоны,
приношу извинения».
Мужчина смотрит на Фвонка, и можно подумать,
что ему легче на душе оттого, что его разоблачили.
«Я с самого начала говорил, что идея с накладной
бородой идиотская и что работать она не будет,
как оно и вышло, но разве кто-нибудь слушает?
Устроили театр. Чем они думают?» Он покачал
головой.
«Не такая уж и плохая идея, — отвечает Фвонк, —
просто приклеенная борода требует особого к себе
внимания, плюс тебе надо научиться чесать ее аккуратно».
Мужчина кивает.
«Мне пора, сбегаю поспать хоть пару часов», —
говорит он.
«Как мне тебя называть? — спрашивает Фвонк. —
Как ни крути, я должен как-то тебя называть».
«Ну да, — говорит жилец и задумывается в нерешительности.
— Что-то ничего на ум не приходит,
— тянет он, — так что зови меня Йенс, — заканчивает
он. — Но только не говори никому, что
я сейчас здесь или что я иногда тут бываю, никому,
сам понимаешь, будь другом, пообещай мне это».
«Само собой, — говорит Фвонк. — Еще не хватало!»
«Чтоб тебя прирезали десять раз, если обманешь,
да?» — спрашивает жилец.
«Да хоть двенадцать, — отвечает Фвонк, — даже
пятнадцать такого случая ради».
«Десяти хватит», — говорит Йенс.
43) Премьер-министр на постое. Вот ровно этого
не хватало. Брюхатым такая диспозиция вряд
ли понравится. Фвонку важно производить впечатление
человека, который завязал с сомнительным
прошлым, а эта новая история льет воду на
старую мельницу, и не обойдется без накладок, и
брюхатые потеряют покой и сон и станут следить
за ним еще пристальнее. Фвонк не мог заснуть несколько
часов, лежал с открытыми глазами, руки
на одеяле, освещенный лишь узкой лунной дорожкой
внизу большого черного окна, и был похож на
жалкого и одинокого героя мультика.
Эрленд Лу. Тихие дни в Перемешках
Отрывок из романа
Как вам Цугшпитце?
Бесподобно! Мы побывали на самой высокой вершине Германии.
Понятно.
И оттуда видно далеко-далеко вглубь Австрии.
И что видно — везде скопления людей в форме?
Пожалуйста, будь так добр…
А вы купили на память наци-китча?
Телеман, по-моему, это не смешно.
Ты права.
А ты?
Да — а я?
Много написал?
Я записал четыре или пять слов.
Хорошо.
Нет, это не хорошо.
Понятно.
Ты знаешь, кто такая Сара Кейн?
Что?
Я спрашиваю, говорит ли тебе что-нибудь имя Сара Кейн?
Боюсь, что нет. А его надо знать?
Давай оставим в стороне «надо — не надо». Меня интересует, знаешь ты или нет.
Я ничего о ней не знаю.
Ясно.
А кто она?
Она написала несколько брутальных пьес, настоящий театр, а в двадцать восемь лет повесилась.
Фу-у.
То-то же.
Фу.
Час спустя:
А почему ты спросил, знаю ли я эту драматургиню?
Интересно.
Как-то ты нехорошо спросил.
Да?
Ты спрашивал не из любопытства.
Думаешь?
Да. Это была проверка.
Не хотел.
Именно что хотел, думаю я.
Ты меня экзаменовал.
Нет.
Это была проверка на вшивость, ты хотел знать, чего я стою.
Эй, очнись! Мне просто было интересно.
Нет, ты меня экзаменовал.
Послушай: я подумал о ней, потому что случайно уже говорил о ней сегодня днем с другим человеком. И мне стало любопытно, а вдруг ты тоже ее знаешь, потому что тогда мы могли бы сейчас еще поговорить о ней. Я люблю говорить о Саре Кейн. И лишний раз убедился в этом во время той беседы днем.
С кем ты говорил о ней?
С русской мамашей на корте.
Она красивая?
Не знаю.
Не знаешь?
Я никогда ее не видел.
Ты же с ней разговаривал.
Так ты о русской?
Естественно.
Красивая ли она с лица?
Да.
Я не присматривался.
Не смеши меня. Она красивая?
Да.
Папа, ты со мной почти никогда не играешь.
Но, Бертольд, это не совсем правда.
Это правда.
Нет.
Ты думаешь только о театре.
Да нет же.
Нет да.
Но ты прав, о театре я думаю много. Я его люблю.
Меня ты должен любить больше.
И тебя я очень люблю. Между прочим, сегодня мы с тобой играли в футбол.
Каких-то пять минут. И я футбол тем более почти не люблю.
Не любишь?
Нет.
Так надо было об этом сказать.
Вот я и говорю.
Очень хорошо, тогда мы можем поиграть еще во что-то. Буду только рад, потому что я тоже не фанат футбола.
Так что ж ты молчал?
Вот говорю. Ровно как ты. Но про тебя я и правда думал, что ты футбол любишь.
И поэтому ты делал вид, что тоже его любишь?
Ну, я не делал вид. Родители часто включаются в то, чем увлечены их дети.
Но говорю же, я футбол не люблю.
Не любишь, но я не знал.
Теперь знай.
Да. Хорошо. Давай во что-нибудь другое. Твои предложения?
Нету. Ты решай.
Хорошо. Что бы такое придумать? А ну-ка — что, если нам написать пьесу, нам вдвоем? Чтобы по-настоящему озвучить голос ребенка.
Нет.
Не надо говорить «нет». Сначала попробуем, а если окажется скучно, тогда найдем другое дело. Именно так люди узнают себя и свои пристрастия.
Нет.
Не некай.
Телеман, хочешь послушать?
Давай.
Сядь.
Мне надо сесть?
Да.
Сел.
Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch…
Что это значит?
Да это не важно.
Не важно?
Просто послушай.
Но что это такое?
Гёте.
О-о.
Мне его Бадер дал.
Бадер дал тебе стихотворение?
Да.
Ни черта себе.
Слушай же.
Давай.
Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln…
Это ты уже читала.
Важно услышать все целиком.
Понятно.
Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde, ruhest du auch… Красиво?
О да. Очень. Такое звучание. Жалко, не понимаю, о чем речь.
Не надо так зацикливаться на смысле.
Думаешь, не надо?
Нет. Смысл — это самая банальная составляющая текста, Телеман.
Это кто сказал?
Это я сказала.
Понял.
И Бадер.
Он тоже так говорит?
Да.
Угу. Так что это значит?
Ночная тьма опустилась на горные вершины, все спит, замолкли птицы, скоро и ты отдохнешь.
Я?
Ну, не ты, хотя ты тоже. Тот, кто читает стихотворение. Или слушает его.
Значит, и я.
Ну да.
И я скоро отдохну?
Да.
Хорошо.
Что ты думаешь об этом?
Звучит неплохо.
Это гораздо больше, чем неплохо, Телеман.
Допустим.
Я готова сформулировать это резче — я люблю Германию из-за этого стихотворения.
Ого! Не слишком ли сильно сказано?
Нет, не слишком.
Ничего себе.
Я хочу, чтобы ты понял, насколько это прекрасно. Ты в состоянии разделить мой восторг?
Боюсь, не в полной мере.
Но отчасти?
Да.
В твоих словах сквозит скепсис?
Чуть-чуть.
Почему?
Пфа. Гёте мастер, конечно, и в стихотворении есть и ритм, и полнозвучие, все отлично, но разве оно отвратило людей от нацизма? А, Нина? И главное — разве в нем есть театр? Вот о чем я себя всегда спрашиваю. Есть в этом произведении театр или нет?
Нина, я тут вот о чем подумал.
О чем?
Ты по-немецки говоришь и читаешь…
Да?
Но не пишешь.
Немного пишу.
Но стесняешься.
Да.
Почему?
Не знаю.
Ты не веришь в себя, в этом смысле?
Наверно, так.
А может, проблема глубже?
Поясни.
Не в том ли дело, что ты по сути неуверенный в себе человек?
Не думаю.
Ты считаешь, что уверена в себе?
Еще как.
Ты говоришь это неуверенно.
Я такого не заметила.
Ну вот, опять.
Что опять?
Опять говоришь без уверенности.
Да нет такого.
Есть, и тогда я задаю себе следующий вопрос — не в этой ли неуверенности корень твоей любви ко всему немецкому?
Чего?
Ты полна неуверенности. Германия полна неуверенности. Вот откуда ваше родство душ.
Телеман, довольно!
Германия была раздавлена, ей пришлось жить с тем, что все ее презирают, она шестьдесят лет не смела распрямиться. Это напоминает твое ощущение жизни.
Сейчас тебе лучше замолчать.
Нина, тебе надо больше бывать в театре.
Что?
Неуверенным в себе людям очень полезен театр.
Что?
И Германии надо больше увлекаться театром.
Телеман!
Да, и тебе, и ей прописан театр.
Нина, я начал составлять список знакомых, больных раком. Хочешь взглянуть?
С удовольствием.
Я разделил их на три колонки.
Хорошо.
В одной уже умершие, в другой вылечившиеся, а про третьих пока решается, выживут или нет.
Я поняла.
Это непростая работа, чтобы ты знала.
Я и не думала, что она простая.
Во-первых, очень переживаешь, во-вторых, невозможно всех упомнить. Такое впечатление, что рак у всех подряд.
Ну, довольно у многих.
У всех.
Нет, Телеман, не у всех.
Рак — это театр.
Правда?
Еще бы! Ты шутишь, что ли? Мало найдется вещей, в которых театра больше, чем в раке.
Другими словами, для тебя составление такого списка — важная работа?
Очень важная, Нина. И страшно своевременная. С этим нельзя было дальше тянуть.
Я подружилась с Бадерами, пока мы ездили на Цугшпитце.
У-у. С обоими или как?
В общем-то, с обоими, но с ним мне даже проще.
Понятно.
Он учитель.
Как и ты, да?
Да.
Здорово.
И он хвалит мой немецкий.
Я тоже.
Он говорит, что скорее принял бы меня за уроженку Берлина. И что в жизни бы не подумал, что я норвежка. Он так сказал.
Так и сказал?
И они придут сегодня на обед.
Сегодня?
Я забыла сказать.
Ладно. Хорошо. Я что-нибудь придумаю.
Отлично. И вот еще — тебе не стоит, я считаю, заводить бесед о войне.
Да? А о неудавшемся покушении на Гитлера?
Нет.
Но это было движение Сопротивления.
Пожалуйста, сегодня ничего такого. Не надо вообще касаться нацизма.
Понятненько.
Ни слова о том, что происходило с тридцать третьего по сорок пятый год где бы то ни было в мире.
А как насчет Первой мировой войны?
Нет.
Тысяча восемьсот семьдесят первый год и создание Германской империи?
Нет.
Берлинская стена?
Не стоит.
Но ты не хочешь, чтобы я просто весь вечер не открывал рта?
Нет.
Можно ли мне высказываться о театре?
Не приветствуется.
Еда?
Еда подойдет. И хорошо бы, ты рассказал какую-нибудь историю, желательно смешную и милую, которая не задевает достоинства ни конкретных людей, ни каких бы то ни было меньшинств. Лучше всего такую, которую я еще не слышала.
Телеман прочесывает город в поисках померанцевой воды. В «Лидле» на Олимпиаштрассе нет. Подошла бы какая-нибудь мигрантская лавчонка, но где ее искать. Кому стукнет в голову мигрировать в Малые Перемешки? В конце концов, он все-таки обнаруживает какого-то турка и покупает в его магазинчике вожделенную воду. Телеман собирается напечь арабских блинчиков с сиропом из флердоранжа. То-то Бадеры будут озадачены, думает Телеман. Они рассчитывают на свиное колено с квашеной капустой или на что-нибудь исконно норвежское типа вареной трески, а вот вам арабские блинчики с флердоранжем. Не ждали? Телеман, не удержавшись, улыбается. А на десерт ананас в карамели с горячим шоколадным соусом. Все от Найджелы. Он, кстати, не думал о ней уже несколько дней. Тот дневной сон о Найджеле и Кейт оказался очень пряным блюдом. Его так сразу не переваришь. Немало сил ушло на то, чтобы просто признать — и он тоже устроен примитивно. Я сам себя не знаю, думает Телеман. Считаю себя таким, сяким, а стоит отпустить чувства на волю, — и нате вам, совсем другой человек. Я ни разу не встретился сам с собой по-настоящему. Вот почему у меня не идет моя пьеса. Ее стопорит то, что я не знаю самого себя. Честность, внезапно осеняет Телемана. Полная честность во всем. Если я примитивен, то должен рискнуть быть откровенно примитивным во всем. Если это кого-то ранит, пусть. Нечестный театр — плохой театр. Телеман замирает на месте. Пакет с бутылкой померанцевой воды вяло болтается в занемевшей руке. Средь бела дня посреди главной улицы Малых Перемешек Телеману открылась Истина. Все лучшее не терпит фальши. Он должен быть честен на все сто, честен с Ниной, с детьми, с Бадерами. It is myself I have never met*, писала Сара Кейн. А он только что додумался до той же мысли сам. Он думает как человек театра. Театральное мышление. Ни черта себе! Наконец-то. Из этого выйдет Пьеса.
* А вот себя я не встречала никогда (англ).
Что он говорит?
Господин Бадер говорит, что ананасы в карамели очень вкусны и что он, пожалуй, попросит добавки.
Да сколько угодно.
Что ты сказала?
Я сказала господину и госпоже Бадер, что ты хочешь рассказать одну историю, и что я тоже ее еще не слышала и с нетерпением жду рассказа.
Ну, это не бог весть что. Просто один эпизод. Он случился со мной в апреле. Несчастный случай.
Несчастный случай?
Небольшой.
И ты ничего не рассказал?
Нет.
Почему?
Думаю, я вытеснил страшное происшествие из сознания.
Но теперь вспомнил?
Да.
Понятно. Ну рассказывай.
Ты будешь переводить синхронно или мне делать паузы для перевода?
Синхронно.
Отлично. Это случилось, когда ты была на семинаре, не помню где.
Я была в Воксеносен.
Воксеносен?
Да, это местечко в районе Холменколлена, которое Норвегия отдала Швеции после войны.
Мы вроде должны были не поминать войну.
Я случайно.
Хорошо. Короче, это случилось, когда ты была там.
Понятно.
Что ты сейчас сказала?
Объяснила, что собственно история еще не началась.
Начинаю.
Прекрасно.
Значит, ты была на семинаре, я отвез Хейди на тренировку и должен был забрать Бертольда и Сабину из гостей, я спускался в сторону Скёйена и собирался свернуть с маленькой улочки направо, на главную дорогу, когда справа на тротуаре нарисовался велосипедист, а было уже темно, снега полно, велосипедист поздно увидел меня и резко затормозил, хотя я тихо полз, это я хотел бы подчеркнуть: я ехал медленно и осторожно. Как обычно. Велосипедист резко сжал ручной тормоз и тут же перелетел через голову, сделал сальто и ударился о бок машины. Я не трогался с места несколько секунд, но не услышал никаких новых звуков, тогда я тихо подал вперед, завернул за угол и встал. Видимо, я был немного не в себе, потому что мне не пришло в голову сперва выйти из машины и посмотреть, что к чему. В заднее зеркало я увидел, что велосипедист поднялся и идет ко мне, я опустил пассажирское стекло и нагнулся в его сторону. Я спросил, как он, велосипедист ответил, что легко отделался. Потом сказал, что я переехал ему руку.
Переехал руку?
Видимо. Я видел, что предплечье как-то распластано, но он нормально шевелил пальцами и улыбался, как будто все нормально, хотя улыбка была немного вымученная.
И что?..
Я спросил, не надо ли мне отвезти его куда-нибудь, но он отказался. Тогда я пожелал ему скорейшего выздоровления и уехал.
Ты уехал?
Да.
И больше не вспоминал эту историю?
Нет, но недавно потихоньку стал припоминать.
Ты поэтому так замкнулся в себе?
Это вряд ли. Но я стал думать, что в столкновении не было моей вины. Это целиком и полностью его вина. А я виноват в том, что не остался на месте, а поехал за угол, видимо, в этот момент я и переехал его руку. Что он говорит?
Что ты не должен был ехать за угол.
Это я сам сказал только что. А что он сейчас сказал?
Он говорит, что ты обязан был остановиться, выйти из машины и посмотреть, что к чему.
Скажи господину Бадеру, чтобы он лучше следил за своими делами.
Этого я говорить не буду.
Скажи!
Нет.
Скажи.
Нет.
Я сказала, что мы признательны, что они приняли приглашение и пришли. И что ты и твоя жена, я то есть, хотим поблагодарить за наш чудесный домик.
Черт, пора учить немецкий.
Будь так добр.
Что они опять говорят?
Благодарят за вкусный обед, приятную беседу и твою интересную историю.
Жрите на здоровье.
Мне неприятна мысль, что ты что-то от меня скрываешь.
Я ничего не скрываю.
Ты наезжаешь людям на руки, а потом об этом ни слова. По-моему, это странно. Меня это тревожит.
Это было так ужасно, что я не мог думать об этом и вытеснил эпизод из памяти. Я не вспоминал об этом происшествии ни разу.
А теперь внезапно вспомнил?
Да.
Почему?
Потому что ты попросила меня рассказать историю, которой еще не слышала. Довольно трудная просьба, но я отнесся к ней серьезно, стал вспоминать — и вспомнил этот случай.
Он единственный или есть другие?
Что значит — другие?
Еще какие-то случаи, о которых ты умолчал.
Не думаю.
Не думаешь?
Нет.
Другие несчастные случаи, крупные, мелкие?
Нет.
Ты никого не убил?
Нет.
Хотя в этом ты не можешь быть уверен.
Не понял?
Раз тебя так ужаснуло, когда ты раздавил руку велосипедисту, то что-нибудь гораздо отвратительнее, например убийство, ты бы и вовсе забыл.
Тут ты права.
Но у тебя ничего в мозгу сейчас не щелкнуло? Звоночек не зазвенел?
Нина, помоему, ты хочешь довести все до абсурда.
А, по-моему, было довольно странно с твоей стороны рассказать историю о покалеченном велосипедисте при иностранцах, которых мы пригласили на семейный обед. Ты представляешь не только лично себя, Телеман, но также и меня и, по сути дела, свою страну. Теперь Бадеры наверняка решат, что все норвежцы — с большим приветом.
Хорошо. В следующий раз я расскажу другую историю.
Если следующий раз будет.
Что ты имеешь в виду?
Не знаю.
Но что ты хочешь сказать?
Что я по твоей милости, Телеман, не знаю, на каком я свете. У меня нет уверенности, что ты отличаешь реальность от фантазий и что другие взрослые люди могут уловить в этом логику.
Я тебя не совсем понимаю.
Ты живешь в мире, где воспоминания сливаются с фантазиями, но это не театр, Телеман, нет, это мы, ты, я, наши дети. Мы, например, пытались пообщаться с некими людьми, но из-за тебя все превратилось непонятно во что, в сцену, и даже если в твоей голове все это как-то состроено, людям вокруг тебя об этом ничего не известно.
Это серьезная проблема?
Да.
Но так было. Велосипедист налетел на машину, и я переехал его руку.
Я понимаю.
И рука выглядела приплюснутой.
О’кей, спокойной ночи.
Спокойной ночи.
Эрленд Лу. Наивно. Супер
- Naiv: Super
- Перевод с норвежского И. Стребловой
- СПб.: Азбука-классика, 2007
- Переплет, 256 с.
- ISBN 5-91181-238-X
- 7000 экз.
Говорят, самый лучший подарок — книга. Наивно.
Получаю книгу в подарок. Супер.
Для российского читателя, знающего литературу Скандинавии по книгам Янсон и Ибсена, наверняка имя Эрленда Лу незнакомо. Совсем недавно его начали издавать в России, но, судя по всему, книги эти довольно популярны среди молодежи. Почему?
Название многообещающее. Великолепный дизайн обложки. Супер.
«— У меня есть два друга. Хороший и плохой.
— И у меня тоже есть два друга.
— А еще у меня есть брат.
— И у меня тоже есть брат.»
Так с первых строк начинается диалог, который продолжается до последней строчки. Удивительно, что с каждым словом хочется согласиться. Наивно.
Молодой человек 25 лет «дошел до точки», все потеряло для него интерес, жизнь внезапно утратила смысл. Он на время переезжает в квартиру своего брата, который находится в отъезде. Он анализирует каждый свой шаг, пытается осмыслить и понять каждое свое действие и желание. Наивно.
Гениальное сочетание легкости и серьезности, иронии и глубокого анализа. Книга кажется доступной и легкой из-за простого языка, ненагруженного лингвистическими приемами. Однако не каждому удавалось простым языком отразить сложность сюжета. Супер.
Оказывается, в мире так много вещей, которые удивляют. Оказывается, в мире так много вещей, которые приносят радость. Оказывается, в мире так много вещей, которые заставляют задуматься. Наивно.
«Жизнь немного напоминает путешествие». Супер.
Эрленд Лу. Грузовики «Вольво» (Volvo lastvagnar)
- Перевод с норвежского Ольги Дробот
- СПб.: Азбука-классика, 2006
- Переплет, 256 с.
- ISBN 5-91181-109-X
- 7000 экз.
Нам бы их проблемы! — воскликнут некоторые, закрыв эту небольшую книгу. И действительно, социально обеспеченным героям романа «Грузовики „Вольво“» можно позавидовать. Чего, скажем, не хватает 92-летней старушке Май Бритт? Власти запретили ей держать у себя дома (особняк за городом) волнистых попугайчиков. Правильно! Не надо было отстригать маникюрными ножницами наросты у них над клювиками! Зато Май Бритт ни в чем себе не отказывает, курит потихоньку гашиш и слушает Боба Марли. А тут еще Бог послал ей замечательных гостей — Допплера с сыном и ручным лосем, знакомых нам по предыдущему роману Лу.
А чего не хватает 92-летнему аристократу фон Боррингу? В отличие от своего заклятого врага Май Бритт, он не предается порочным занятиям. Фон Борринг — старый и закаленный скаут. Всю жизнь он кого-то спасал, вязал морские узлы и спал под открытым небом. А еще он очень любит наблюдать за птицами, записывая свои наблюдения в специальную тетрадь. И вдобавок ко всему Бог посылает и ему замечательного гостя и ученика — Допплера.
И чего, скажите мне, пожалуйста, не хватает Допплеру, который после долгого путешествия встретил двух таких гостеприимных людей. Каждый из них по-своему стремился сделать из Допплера человека, и каждый из них был готов отдать ему все.
Я скажу вам, чего не хватает этим героям. Гармонии! Неважно, что живут они в тихой и спокойной стране, в собственных особняках и не испытывают финансовых затруднений. Лу написал роман о потере гармонии — самого дорогого, что может быть у человека. Он сделал свой роман жутко смешным и веселым, но он не сделал счастливыми своих героев.
Поэтому я предлагаю тем, кто уже закрыл эту книгу и воскликнул: «Нам бы их проблемы!», открыть ее заново и перечесть снова. Я сделаю то же самое. Книга того стоит.