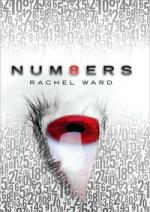- Издательство «Азбука», 2012 г.
- Майк Форд пошел по стопам своего отца — грабителя из высшей лиги преступного мира. Пошел — но вовремя остановился.
Теперь он окончил юридическую школу Гарвардского университета и был приглашен работать в «Группу Дэвиса» — самую влиятельную консалтинговую фирму Вашингтона. Он расквитался с долгами, водит компанию с крупнейшими воротилами бизнеса и политики, а то, что начиналось как служебный роман, обернулось настоящей любовью. В чем же загвоздка? В том, что, даже работая на законодателей, ты не можешь быть уверен, что работаешь законно. В том, что Генри Дэвис — имеющий свои ходы к 500 самым влиятельным людям
в американской политике и экономике, к людям, определяющим судьбы всей страны, а то и мира, — не привык слышать слово «нет». В том, что угрызения совести — не аргумент, когда за тобой стоит сам дьявол. - Перевод с английского Н. Флейшман
Я припозднился. Прежде чем зайти в аудиторию, оглядел себя в одном из огромных золоченых зеркал, что висели в корпусе повсюду. Под глазами от недосыпа темнели круги, на лбу краснела ссадина от приземления на
жесткий ковролин. Во всем же прочем я ничем не отличался от других грезящих о карьерном росте индивидов,
что, как и я, грызли гранит знаний в Лангделл-холле.
Семинар назывался «Политика и стратегия». Допускали туда лишь самых прилежных студентов — всего шестнадцать светлых голов, — и имел он репутацию
стартовой площадки для будущих «верховодителей» финансов, дипломатии, военного ведомства и правительственной сферы. Ежегодно в округе Колумбия и Нью-Йорке Гарвард избирал для ведения семинара солидных
мужей, дошагавших до средней или высокой ступени
карьерной лестницы. По сути, для студента с большими
профессиональными амбициями — а недостатка в таких
ребятах у нас в кампусе не было — оказаться в этой
группе было неплохим шансом проявить свое умение
широко и ясно мыслить в надежде на то, что кто-нибудь
из сильных мира сего, какая-нибудь шишка ткнет в него
пальцем и даст весомый толчок в блестящей карьере.
Я огляделся за столом: несколько умников из законоведов, несколько — из экономистов и философов, даже
парочка магистров с медицинского. Самомнение арией
разливалось по аудитории.
Я третий год уже учился на юридическом — корпел
над дипломом на стыке политики и юриспруденции — и
при этом не имел ни малейшего представления, как удалось мне не просто пролезть в Гарвард, но еще и попасть
на этот семинар. Впрочем, такое везение было вполне типично для последних десяти лет моей жизни, так что я
перестал уже ему удивляться. Может, это была всего лишь
долгая череда каких-то канцелярских ошибок? Я обычно считал, что чем меньше задаешь вопросов, тем лучше.
В пиджаке консервативного покроя цвета хаки я выглядел
как все, разве что чуть более потрепанным и обношенным.
Был самый разгар дискуссии на тему: «Первая мировая война», и профессор Дэвис выжидательно уставился
на нас, вымучивая ответы, точно инквизитор.
— Итак, Гаврило Принцип выходит вперед и бьет
свидетеля рукояткой своего маленького браунинга образца тысяча девятьсот десятого года. Он стреляет эрцгерцогу в шею, попадая в яремную вену, затем — его
супруге в живот, поскольку та заслоняет собой эрцгерцога. И так выходит, что тем самым он дает толчок
к развязыванию мировой войны. Вопрос: зачем?
Профессор сердито оглядел сидевших у стола.
— Не повторяйте тупо то, что прочитали. Думайте.
Я наблюдал, как ерзают остальные. Дэвис, несомненно, относился к персонам значимым. Другие студенты с
завидной одержимостью изучали подробности его карьеры. Я слышал о нем не так много, но вполне достаточно.
Старый вашингтонский волк, он знал не только всякое
весомое лицо в государстве за последние сорок лет, но
и чиновников на два эшелона ниже и, что особенно важно, был в курсе всех закулисных тайн. Он работал на
Линдона Джонсона, затем перекинулся к Никсону. Потом занялся «частной практикой», выступая посредником в неких сомнительных делах. Ныне он возглавлял
высококлассную фирму, занимающуюся «стратегическим
консалтингом» и именуемую «Группой Дэвиса» — что
неизменно ассоциировалось у меня с «Кинкс» (видите,
насколько я был готов за столичную карьеру вгрызаться
в глотки конкурентам!). Дэвис был влиятельным господином и, со слов одного из парней с семинара, мог позволить себе все — и особняк в Чеви-Чейзе, и местечко
в Тоскане, и ранчо в десять тысяч акров на калифорнийском побережье. Уже несколько недель, как его пригласили вести у нас семинар, и мои однокашники буквально
вибрировали от волнения — никогда не наблюдал в них
такого рвения охмурить препода. Так что я охотно верил,
что где-то на высоких орбитах Вашингтона Дэвис сиял
большой яркой звездой.
Обычно преподавательские методы Дэвиса сводились
к тому, чтобы сидеть неподвижно, с тоскливой миной на
лице, как будто перед ним сборище сопливых второклассников изливает чудовищную чушь. Не будучи человеком
шибко крупным — где-то пять футов и десять-одиннадцать дюймов, — он был каким-то, я бы сказал, видным.
Он обладал особой притягательностью, которая ощутимо
расходилась от него волной по комнате. Где бы он ни
появлялся, все переставали разговаривать, все глаза обращались к нему, и довольно скоро люди собирались вокруг него, точно металлическая стружка у магнита.
А его голос — это вообще было нечто странное. При
виде Дэвиса от него можно было ожидать рокочущего
баса — однако говорил он всегда глухо, словно шелестя. На шее, как раз в том месте, где челюсть подходит
к уху, у него имелся шрам, и кое-кто из студентов предполагал, что эта старая рана и есть причина такого тихого голоса, но о том, что с ним произошло, никто ничего не знал. Да и какое это имело значение, если все
вокруг умолкали, стоило ему открыть рот.
В нашей же группе, напротив, все отчаянно хотели
быть услышанными и замеченными Мастером, и тот выстраивал строгий порядок ответов на свои вопросы, каждому давая высказаться. В том-то и состоит искусство ведения семинара: когда дать волю болтовне, а когда в
нее вмешаться. Это как бокс… ну, может, фехтование, или
сквош, или другие излюбленные университетские забавы.
Вот парень, который неизменно был среди нас первым
и которому ничего бы не стоило начать распространяться
о «Младе Босне», под взглядом Дэвиса стушевался и начал что-то в страхе лепетать. Неистовое соперничество
привело к тому, что студенты один за другим, почуяв слабину сидящих рядом, начали рьяно перекрикивать друг
друга, прямо фонтанируя информацией о противостоянии
Великой Сербии другим южнославянским странам, о гонениях против боснийских мусульман, о сербских ирредентистах, об Антанте и о политике двойных стандартов.
Я испытал благоговение. И не из-за того дикого числа выплеснутых фактов (некоторые ребята знали буквально всё, хотя вытянуть из них что-то на-гора не всякому было под силу), а из-за самой манеры дискуссии.
Здесь каждый жест был наполнен смыслом! Казалось,
будто, пока мои однокашники учились ходить и набирались ума-разума, их отцы вершили судьбы мира, потягивая дорогой виски, и что последние лет двадцать
пять эти умники долбили историю дипломатии лишь в
ожидании того часа, когда папаши, притомившись править миром, дадут им немного порулить. Они были такими… респектабельными, черт подери. С великим удовольствием я наблюдал за их подпрыгиванием. Я-то радовался всякой точке опоры в этом мире — и мне приятно было думать, что в конечном счете кого-то из этих
везунчиков я смогу и обскакать.
Вот только не сегодня. Сегодня у меня возникла серьезная проблема, и я никак не мог сосредоточиться, чтобы вклиниться в словесную перепалку одногруппников
с их острыми выпадами и парированиями, и лишь следил за ними со стороны. Бывали и у меня лучшие дни,
но вот теперь, пытаясь направить мысли к малой политике на Балканах вековой давности, я видел лишь пылающее число, написанное крупными красными цифрами
в моем блокноте, вдобавок подчеркнутое и обведенное
кружком, — $83,359. А возле него номер — 43 23 65.
Минувшую ночь я совсем не спал. После работы
(я прислуживал в баре «Барлей», в местечке, где любила собираться преуспевающая молодежь, вашингтонские
яппи) я заскочил в заведение, где работала Кендра. Я решил, что снять в баре эту сексапильную малышку будет
куда полезнее, нежели полтора часа поспать, прежде чем
закопаться в тысячестраничную, мелким шрифтом, распечатку материалов по теории международных отношений. В черных волосах Кендры можно было утонуть,
ее формы будоражили самые похотливые желания. Но
главное в том, что девчонки вроде нее, работающие за
чаевые и в постели не глядящие тебе в глаза, были полной противоположностью девушки моей мечты, как я ее
себе представлял.
Проведя остаток ночи у Кендры, я к семи утра был
уже у себя. Еще на подходе к дому я почуял недоброе,
увидев несколько своих футболок на крыльце и отцовское старое, задрипанное кресло, лежавшее на боку на
тротуаре. Парадная дверь была вскрыта, причем так,
будто медведь вломился. В итоге я лишился: кровати,
большинства предметов мебели, светильников и мелкой
кухонной техники. Оставшееся мое барахло валялось
в основном на улице.
Прохожие недоуменно пробирались через мой хлам
по тротуару, точно это была распродажа ветхого скарба
где-то на заднем дворе. Я отогнал людей подальше и
побыстрее собрал то, что валялось. Отцовское кресло не
пострадало. Весило оно едва ли не с легковушку, и, чтобы выпереть его наружу, требовалась смекалка и как
минимум два дюжих молодца.
Поднявшись в дом, я заметил, что коллекторская
служба Креншоу не прониклась ценностью «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида или пятидюймовой
стопки чтива, которое мне требовалось одолеть за два часа, оставшихся до семинара. На кухонном столе мне оставили маленькое любовное послание, гласившее: «Меблировка изъята в качестве частичной уплаты долга. Оставшаяся задолженность составляет 83 359 долларов».
Оставшаяся! Ишь ты! На сегодняшний день я уже
достаточно знал законы, чтобы с одного взгляда выявить
семнадцать грубейших ошибок в подходе этих деятелей
к процедуре взимания долгов. Но эти коллекторы были
безжалостны, как постельные клопы, к тому же я слишком поиздержался, платя за учебу, чтобы грамотными
судебными исками раздавить их в тюрю. Ну да ничего,
однажды придет и день расплаты!
Предполагается, что долги родителей умирают вместе
с ними. Но только не у меня. Недостающие восемьдесят
три штуки баксов ушли на лечение маминого рака желудка. Теперь ее не стало. Смею поделиться советом: когда
ваша мать умирает, не вздумайте оплачивать ее счета по
собственной чековой книжке. Потому что мерзкие кредиторы — типы вроде Креншоу — сочтут это хорошим предлогом, чтобы приходить к вам снова и снова уже после ее
смерти, утверждая, будто вы автоматически унаследовали
долги. Но это не совсем законно. Хотя как раз о букве
закона и не задумываешься, когда тебе всего шестнадцать,
когда один за другим приходят счета за лучевую терапию
и ты хоть как-то пытаешься продлить маме жизнь, работая сверхурочно на фабрике мягкого мороженого в Милуоки, а отец при этом тянет двадцатичетырехлетний срок
в федеральном исправительном заведении в Алленвуде.
Напряги вроде сегодняшнего случались у меня довольно часто, потому я даже не стал тратить время и
беситься понапрасну. Чем больше все это дерьмо тянуло
меня вниз, тем сильнее я лез из кожи, чтобы над ним
подняться. А значит, мне надо было окружить свои заморочки непроницаемой стеной и всеми силами корпеть
над учебой, чтобы не сидеть потом полным болваном на
семинаре у Дэвиса. Я вышел со своим чтивом на тротуар, поправил кресло, уселся и, откинувшись на спинку,
погрузился в статьи Черчилля, не обращая ни малейшего внимания на пешеходов вокруг.
К тому времени как я подготовился к семинару, мой
запал изрядно выдохся. Всю ночь бившая ключом энергия, подпитанная сексом с Кендрой, успела иссякнуть,
равно как и злобное рвение однажды мастерски прижать
к ногтю поганца Креншоу.
Чтобы попасть на семинар, нужно было на входе в
Лангделл-холл сунуть в считывающее устройство свою
идентификационную карту. Я пристроился в длинную
очередь студентов, проходящих турникеты и торопливо расходящихся по аудиториям. Однако на мою карту
устройство отреагировало неожиданно: под надписью
«Проходите» вместо зеленого вспыхнул красный. Металлический барьер заблокировался перед самыми моими
коленями. Верхняя же часть тела по инерции продолжала двигаться, и я, не успев сообразить, что происходит,
полетел башкой вперед, уткнувшись лбом в колючий
ковролин на бетонном полу.
Симпатичная студенточка, сидевшая за столом с журналами, любезно объяснила, что мне следует справиться
в Студенческой дебиторской службе, не числится ли за
мной долгов за обучение. Затем с азартом обмазала мне
ссадину антибактериальным гелем и выпроводила меня наружу. Креншоу, должно быть, подобрался к моему банковскому счету и перекрыл мои учебные платы, а
Гарвард желает убедиться в платежеспособности своего
питомца и, как и Креншоу, все получить сполна. Я обогнул Лангделл и прокрался с заднего, хозяйственного,
входа вслед за студентом, выглянувшим покурить.
Похоже, в аудитории мое полуотсутствующее состояние бросалось в глаза. Дэвис будто буравил меня взглядом. И вот началось: я всеми силами пытался побороть
зевоту, но ничего не мог с ней поделать. Я начал зевать — да так широко, по-кошачьи разевая рот, что и ладонью не прикроешь.
Дэвис буквально пригвоздил меня взглядом, заостренным бог знает сколькими меткими бросками, — таким зырком он сбил с ног, поди, немало профсоюзных
боссов и агентов КГБ.
— Мы вам наскучили, мистер Форд? — прошелестел он.
— Нет, сэр. — Внутри у меня нарастало жуткое ощущение невесомости. — Я думаю.
— Так, может, вы поделитесь своими соображениями
по поводу убийства?
Остальные так и расплылись от удовольствия: еще
бы, одним зубрилой станет меньше!
Меня же отвлекали от темы мысли куда более приземленные: я не смогу избавиться от Креншоу, покуда
не получу степень и не устроюсь на хорошо оплачиваемую работу, — и я не смогу получить ни то ни другое,
покуда не стряхну Креншоу. При этом восемьдесят три
штуки баксов я должен Креншоу и сто шестьдесят —
Гарварду, и добыть их абсолютно неоткуда. И теперь
все то, ради чего я десять лет драл задницу, вся вожделенная респектабельность, заливавшая сейчас аудиторию, навеки ускользали у меня из рук. А закрутил всю
эту безнадежную круговерть мой сидящий в тюряге
отец, который первым связался с Креншоу, который на
меня, двенадцатилетнего, оставил дом, который всему
миру готов был оказать покровительство и за это пострадать, но только не маме — от нее он, можно сказать,
отпихнулся. Передо мной возник его образ, его обычная
ухмылка, и все, о чем сейчас я мог думать, — это…
— Месть.
Дэвис поднес к губам дужку очков, выжидая, что
я выдам дальше.
— В смысле, Принцип — жалкий бедняк, верно?
Шесть его братьев-сестер перемерли, а его самого родители вынуждены были отдать на сторону, будучи не в
состоянии прокормить. И по его мнению, в том, что он
не может никак пробиться в жизни, виноваты были
единственно австрийцы, чьи притеснения он видел с
самого рождения. Он был неимоверно костлявым, этаким доходягой, так что даже партизаны уржались и послали его подальше, когда он попытался к ним прибиться. Это было убогое ничтожество, замахнувшееся на сенсацию. Другие убийцы теряли самообладание, но этот…
Его, как никого другого, все на свете достало. Он жаждал
мести, реванша. Двадцать три года обид и унижений! Да
он готов был пойти на все, лишь бы сделать себе имя.
Даже на убийство. И особенно — на убийство. Ибо чем
опасней цель, тем больше она стоит.
Одногруппники брезгливо отворотили носы. Обычно
я мало говорил на семинаре, но если уж открывал рот,
то старался, как и остальные, использовать безупречный, выхолощенный язык Гарварда, теперь же я пустил в ход привычные для меня словечки и интонации.
Я говорил как уличный пацан, а не подающий надежды кандидат в правительственные круги. И был готов,
что Дэвис разорвет меня в клочки.
— Неплохо, — молвил он. Подумал мгновение, обвел глазами аудиторию. — Мировая война — это великая стратегия. Все вы так или иначе становитесь пленниками абстракций. Никогда не упускайте из виду, что
в конечном счете все упирается в конкретных людей:
кто-то ведь нажимает пальцем на курок. Желая вести за
собой массы, вы должны начинать с каждого отдельного
человека, с его страхов и желаний, с тех тайн, в которых
он ни за что не признается, — и должны знать о нем
едва ли не лучше его самого. Лишь пользуясь этими
рычагами, можно управлять миром. Каждый человек
имеет свою цену. И как только вы нащупаете ее — он
ваш, душой и телом.