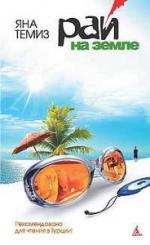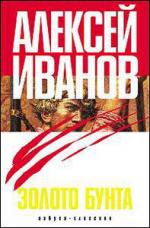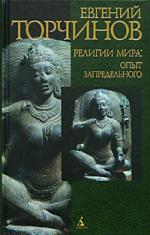- Азбука-классика, 2006
- Твердый переплет, 320 с.
- ISBN 5-352-01806-7
- Тираж: 5000 экз.
На протяжении веков человеки убивали человеков. Убивали, убивают и, судя по всему, будут убивать. Правда, каждое время определяло свой, предпочтительный способ убийства и соответствующий ему антураж.
Вот, например, в Средневековье «лишали живота», не особо напрягаясь в поисках достойных оправданий, — все делалось «во имя Божье», а поэтому быстро и без особых проволочек — раз, «и взгремели на павшем доспехи». С течением времени нравы постепенно смягчались, убивать стало как-то… ну, в общем, негуманно, цивилизованные народы застеснялись, и на свет появился детектив. Полагаю, как сублимация желания убить.
А потому в произведениях этого жанра прежде всего описывались ситуации, вызывающие большое желание взяться за синильную кислоту, или, как вариант, наиболее мерзкие типажи, не пристукнуть которых впотьмах было бы преступлением против человечности. Так, если ориентироваться на знаменитые детективы Агаты Кристи, то самым стрессирующим фактором для англичан, живших в промежутке между двумя мировыми войнами, был обед в кругу близких родственников, особенно если один из них ну прямо-таки неприлично богат. Убийственно опасным оказывался и формат путешествий: на корабле, в поезде или самолете англичанин не мог находиться в безопасности, а уж в гостинице и подавно…
Как вы думаете, какое убийство предложит нам роман Яны Темиз «Рай на земле», представляющий собой, как значится в аннотации, «блестящий детектив в стиле Агаты Кристи»? Угу, путешествие и проживание в отеле. Правда, вместо Нила — Средиземное море, вместо гипотетической египетской гостиницы весьма конкретная гостиница в Анталье (сужу по обещанию все той же аннотации). К сожалению, в Турции мне бывать не приходилось, а потому оценить всей прелести сочетания детективного жанра с жанром путеводителя я не в состоянии, но подивиться диковинной фантазии автора, конечно, могу.
Господа, оказывается, основной причиной убийства немолодой соседки по даче (спешу утешить, несостоявшегося — убили какую-то никому не интересную немку) является ее давний роман с родителем убийцы и, как следствие, его давняя фрустрация и комплексы.
О как! Мне-то казалось, что граждан, имеющих общее определение «соседи по даче», убивают, скорее, в процессе затянувшейся тяжбы по вопросу расположения забора, а не по причине комплексов. Я-то до того момента, когда все не вскрылось, по наивности своей предполагала, что убийство замышляли не какие-то малоприсутсвующие в тексте соседи из-за поруганной давней любви, а вполне реальные и ощутимые жильцы, снимающие комнаты у несостоявшейся жертвы.
Но нет, теперь конфликты в садоводствах заканчиваются не методом «по загривку топором», а путем утопления жертвы на турецком курорте.
Определенно, «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи». Но, ей-богу, как хочется прочесть нормальный интересный детектив, действие которого происходит не в XIX веке и не в Кушадасах и Анталье, а где-нибудь в ближнем Подмосковье…