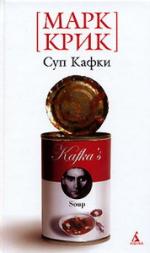- Авторский сборник
- СПб.: Азбука-классика, 2006
- Переплет, 544 с.
- ISBN 5-91181-077-8
- 5000 экз.
Невыдуманная история XX века
Рукописи не горят. Эта фраза булгаковского героя так удачно укоренилась в нашем сознании, что издателям ничего не остается делать, как извлекать на свет Божий из столов и шкафов все рукописное и переводить его в черные ряды свежеоттиснутых литер на листах всевластной бумаги, не знавшей нажима влекомого вдохновением пера.
Так в мире появляется столько несгоревшего (точнее — несожженного), что иной раз и подумаешь, а правы ли мы в оценке устремления Прометея сделать священный огонь смиренным жителем послушных зажигалок? Ведь стоит только писателю умереть, через некоторое время из забвения и небытия посредством печатного станка является публике все то, что было — помимо рукописей художественных текстов — им написано…
И мы узнаем… И мы открываем… И мы поражаемся…
Такова зловещая, но вполне легитимная традиция предания частных записок литератора… нет, не огню — публичной огласке. Для пламенного почитателя это шанс получить сверхдолжное удовольствие от текста. Для простого читателя — удостоверится, что не боги горшки обжигают. Для филолога — опровергнуть постулат, что человек (в данном случае — автор рукописей) не может свидетельствовать против себя.
Эта книга должна была рано или поздно появиться на свет, и вот она вышла, спустя всего четыре года после смерти автора романа-странствия «За Доброй Надеждой». Автобиография, которую Виктор Конецкий не писал (вернее, как нас уверяют, — не успел написать). Она составлена вдовой писателя, Татьяной Акуловой, из очерков, статей, заметок, писем, текстов выступлений, дневниковых записей разных лет, ранних никогда не публиковавшихся рассказов, интервью, отзывов читателей и (в приложении) сценария кинокомедии «Через звезды к терниям».
Формально любая автобиография отличается от мемуаров тем, что в ней автору позволительна большая сосредоточенность на собственном внутреннем мире. Биография Конецкого настолько плотно вписана в трагическую историю страны, в которой он жил и выживал, что было бы странно ожидать от него такой «сосредоточенности», какая наличествует в текстах Марселя Пруста или Владимира Набокова, слишком уж часто этот внутренней мир испытывал жестокие сотрясения со стороны мира внешнего.
«Меньше всего за время литературной работы, — сознается Конецкий в первой части книги „Барашки, или страницы автобиографии“, — я написал о нечеловеческих муках блокады — голоде, холоде, смерти. Но в памяти и душе блокада оставалась и остается всегда». И далее: «Пишут, что я мальчишкой пережил блокаду и все видел. Не было там мальчишеских глаз. Все были на лбу. Если только они могли туда вылезти».
И его память вернется в то время. Как зашел к сестрам матери и нашел одну мертвой, а вторую — с перебитым позвоночником, примерзшую к креслу («Страшные воспоминания. Я пошел навестить теток…»). Как около Смоленского кладбища наткнулся на труп с вырезанными ягодицами («Ужас неимоверный: людоедство. Это была зима 1941-го — 1942-го. Какой месяц — не помню. Нам было не до месяцев»). Как пробирался в коммунальной квартире из своей комнаты к выходу — по коридору, ощупывая застывшие трупы соседей («…вселили семью рабочих с Кировского завода — двенадцать детей»).
Не закономерно ли, что в дневнике 1947 года восемнадцатилетний Витя Конецкий напишет: «Для того, чтобы примириться с действительностью, я должен уйти из нее. Это значит заняться искусством. Только в нем можно найти то, что нужно. Только в него можно уйти от жизни и одновременно изменить жизнь». Предвосхищая выводы исследователей, зададим вопрос: не поэтому ли стали возможны позднее юмористические рассказы с неизменным героем Петром Ниточкиным и сценарии кинокомедий «Полосатый рейс» (1961 год) и «Тридцать три» (1965 год).
Но не только это будет открытием для читателя «Автобиографии». В ранее не публиковавшейся статье «Из заметок о русском языке» (1969 год) Конецкий рассматривает причины возникновения того, что ныне принято называть «клиповым сознанием»: «Изменилось количество переживаний человека в единицу времени. Это количество неуклонно продолжает расти <…> …сегодняшний нервный и впечатлительный человек куда зорче видит детали вокруг себя, например в пейзаже, нежели всю картину природы, весь ландшафт вокруг. Спросите у бывшего солдата, что он запомнил из окружающего мира перед началом атаки? Он скажет про рассыпанные на бруствере крошки махорки».
Небезынтересны также ранее не публиковавшиеся размышления Конецкого о «беспрерывной борьбе с безвкусицей» («О художественном вкусе и пошлости», 1954) и о потере «привычных очертаний русского характера» в эпоху НТР («Мой Пушкин». Выступление в Музее-квартире А. С. Пушкина на Мойке 10 февраля 1975 г.), его задушевная переписка с Виктором Шкловским и исполненные непримиримой гражданственностью ответы на телефонные вопросы журналистам (1988—2002).
Нет ни малейших сомнений, что эта книга не ускользнет от внимания филолога — историка ленинградской литературы (работа такая). Может ли она привлечь читателя незаинтересованного (скорее всего, читателя молодого) и читателя заинтересованного (т. е. уже немолодого почитателя творчества Конецкого)? На эти вопросы можно смело отвечать утвердительно.
Читатель молодой получит в свое распоряжение достоверные документы совершенно незнакомой ему советской и плохо знакомой ему постсоветской эпохи — невыдуманную истории XX века, в которую вплелась биография одного человека, литератора и штурмана дальнего плаванья.
Читатель немолодой, не избежавший надлома своего разочарованного вначале советской властью, а затем — Ельциновским режимом поколения, перенесется вместе с автором «Автобиографии» в то блаженное — как оказалось — время, когда и он тоже еще верил, и ждал, и надеялся. Ведь для него история XX века — история совсем недавняя, а новый век — отверстые ворота Небытия.
Так, может быть, все-таки в утверждении, что рукописи не горят, нет ничего от лукавого?
Валерий Паршин