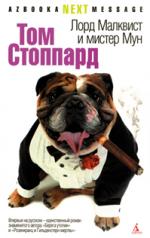…Она стояла у двери чёрного хода и, зажав в губах сто двадцати миллиметровый ментоловый «мальборо», безуспешно чиркала похожей на футляр губной помады зажигалкой. Удивляясь своему спокойствию, Василий подошёл к Ней. Щёлкнул колёсиком. В ту же секунду с неба закапало. Ещё сильнее. Она, втягивая в сигарету огонь его зажигалки, сделала шаг назад — под козырёк. Он, удерживая пламя и прикрыв его рукой, шагнул за ней.
Дождь рухнул с неба в одну секунду.
В эту секунду газ в его зажигалке закончился.
И она — наконец-то(!) — подняла глаза на него.
Через минуту они захлопнули за собой дверь 205-й.
И сломали ключ в замочной скважине. Они не слышали, как закончился концерт. Как прекратился в час пополуночи банкет. Как сторожа закрыли входные двери и сделали небрежный обход территории.
Они провели в 205-й всю ночь. Только перед рассветом открыли одно из огромных окон и перепрыгнули с широкого подоконника на близкую крышу спортзала. В неверном утреннем свете они спустились по пожарной лестнице и, взявшись за руки, побежали к ближайшей автостоянке.
Они сели в её маленький быстрый автомобиль и умчались за сорок километров от города — к водохранилищу. На большую профессорскую дачу Борща-старшего.
Время остановилось. Время мчалось.
Он не думал о работе. Ни о чём не спрашивал Её.
— Меня зовут Любовь, — сказала она ему ночью в лаборатории 205.
— Я знаю, — ответил он, глядя в туда, где у обычных людей глаза. — Какие у тебя глаза… — сказал он.
— Глупенький… Глаза у тебя…
Они живут у воды.
Бродят по лесополосе.
Сидят у костра вечером.
Они не читают газет, не включают телевизор и не слушают р@дио.
Они смотрят друг другу в глаза и улыбаются.
И трахаются, трахаются, трахаются.
В любое время и в любом месте.
Она голая бродит по дому и участку: дача стоит в уединённом месте.
Он с изумлением рассматривает её лицо и тело.
В его доме пахнет Ей.
На верёвочке в ванной висят её трусики.
Трусики, от одного вида которых, у него встаёт, и они снова: трахаются, трахаются, трахаются.
Края чашек вымазаны помадой.
В его расчёске путаются длинные волосы.
А иногда на краешке унитаза оставались маленькие чёрные волоски.
Один — редко два.
Маленький чёрный волосок.
Витой.
Чёрный курчавый волосок.
Маленькая непокорная спиралька.
Волосок Её паха.
Волосяное покрытие её тела в районе лобка.
Лобка, от соприкосновения с которым он получает такой приход, — будто первые секунды передоза шави — чёрной грузинской опиатной широй.
Они открывают истинный смысл слов: «не чуя земли под ногами», «слёзы счастья», «тону в глазах», «сердце сладко замерло», «ЛЮБОВЬ».
— Я кончаю от одного твоего запаха.
— Я кончаю от твоего запаха…
— Никогда не думала, что рыжий может быть таким красивым.
— Никогда не думал, что такая женщина, как ты, может быть со мной.
— Дурачок…
— А ты Моё Солнце.
— Говорю же, дурачок!.. Посмотри в зеркало… Ты — Солнце. Моё. Мой Солнечный Человек. Сын Солнца!..
— Брат…
Они хотят отпраздновать месяц…
Месяц?
Время летит… Время замерло…
Свой месяц.
Тридцать один день Рая.
Она едет в машине в город.
За ящиком шампанского и четырьмя порциями роллов из «суши-бара».
Они долго целовались у уже заведённого авто.
Потом она умчалась, просигналив на повороте.
Он достал из огромного немецкого холодильника БОЛЬШОЙ ПАКЕТ клубники.
Они своровали её прошлой ночью: хихикая и убегая быстро в темноте с крупными ягодами в глубокой сковороде с антипригарным покрытием.
Он мыл клубнику в ведре у колодца.
Она лежала мёртвая в кювете у трассы Донецк-Луганск.
Её сиреневая «мазда» вошла под «КамАЗ» почти целиком.
Он забеспокоился через три часа. Вылез на большой холм и стал звонить.
«Телефон выключен или находится вне зоны…»
На похоронах все смотрели на него и не могли понять: кто этот рыжий парень со слезами на щеках.
Её муж, убитый горем, не замечал ничего вокруг.
Она исчезла за месяц до того, как её нашли за городом в изуродованном автомобиле.
Муж давал объявления. Писал заявления. Менты побывали у декана. Подняли на уши три прилегающие области: зарядили план перехват. Ноль. Две недели все точки, где номера движков перебивают, прессовали. Ноль.
И вдруг — эта «мазда» сиреневая в «КамАЗе». Пассажирка насмерть.
Она получила какую-то небольшую, но несовместимую с жизнью травму. Что удивило патологоанатома — так это то, что из покорёженного куска металла тело Любови Смирновой было извлечено практически неповреждённым. Её прекрасное лицо оставалось прекрасным и после смерти.
Декан уехал с семьёй на море.
Похороны.
Душное марево, какое бывает перед дождём.
Преддождье.
Много родственников в трауре, соседей и сослуживцев. Все любили Её. Или хотя бы делали вид.
Недалеко бродит серьёзный и немолодой человек с большим фотоаппаратом на шее и белой надписью «@chtung(!)» на чёрной футболке.
Говорят, что это фотограф из Москвы. Из толстого цветного журнала. Он попросил разрешения у мужа и фотографирует усопшую через дорогую фотооптику. Он, выпятив нижнюю губу, смотрит на экспонометр и положение солнца. Большинство присутствующих смотрят на него. Поэтому не все и не сразу заметили этого непонятного парня. Примерно минуту на него смотрит только один человек.
На него смотрит муж.
На рыжего в чёрном костюме и чёрных очках.
Из-под чёрных очков текло.
Щёки его были мокрыми.
Никто не мог понять — кто это?
Неизвестный стоял у могилы долго.
До того момента, когда преддождье перестало быть «пред».
Дождь рухнул сверху в одну секунду.
Он враз вымок с ног до головы.
Медленно повернулся и пошёл к выходу с кладбища, скользя и перемазав ботинки рыжей глиной, — туда, где стояло жёлтое такси с большим белым рекламным гребнем на крыше. Таксист терпеливо ждал, пока он вымоет обувь в глубокой луже. Потом долго вёз его, молчащего, за сорок километров от города.
Он входит в дом.
И через пятнадцать минут.
Он видит.
Видит с высоты трёх метров.
Из-под (почти) самого потолка.
На самом краешке белого унитаза.
Маленький.
Чёрный.
Волосок.
Он — осторожно-осторожно — приложил влажный палец к нему. И вот.
Маленькая непокорная спиралька приклеилась к подушечке указательного пальца правой руки.
Он поднёс его к самому-самому глазу.
Он смотрел на него с минуту.
Он хранил его в маленьком белом бумажном конвертике.
В шкатулке на телевизоре.
Потом он подумал: а вдруг пожар?
Вдруг вор залезет сюда и сгребёт, не глядя, конвертик с собой, а потом выкинет???
Он стал носить конвертик с собой.
В его гардеробе появились рубашки, у которых были нагрудные, застёгивающиеся на пуговицу или на молнию карманы.
Каждые полчаса он трогает карман рукой и, почувствовав хруст бумаги сквозь ткань, — кивает сам себе.
Он выходит на работу, никак не объяснив своего полуторамесячного отсутствия.
Его берут обратно без вопросов — он незаменимый и опытный сотрудник. Оформили задним числом отпуск за свой счёт. Он работал как робот — много и качественно. Только иногда мог остановиться на полуслове и смотреть Какое-то время в окно.
На крышу спортзала.
Однажды такси, в котором он едет с работы домой, попадает в лёгкую аварию. Лёгкую — сам таксист не особо переживал, — так, слегка стукнулись. Даже синяков не было.
«Что, если со мной что-нибудь случится?» — думает он.
Неделю ворочается по ночам. Лёжа в постели, смотрит в потолок.
Он срочно продаёт квартиру.
Он срочно продаёт дачу.
Он звонит по телефону, по которому никогда бы и ни за что бы раньше не позвонил. Он с кем-то встречается ночью на окраине города.
Он снимает номер в гостинице (трёхместный «люкс»и всю ночь тихо сидит в кресле перед выключенным телевизором и аккуратно держит маленький белый конвертик в руках.
Утром — прямо к открытию — он приходит в филиал крупного надёжного банка и проводит там час.
Потом он вызывает такси и едет за город.
Он влезает на скалу, с которой открывается почти всё водохранилище. Он даже видит вдалеке крышу своей бывшей дачи. Он трогает карман своей рубахи и вдруг улыбается.
Он достаёт два пистолета, приставляет их к обоим вискам и нажимает на курки.
На оба.
У него это получается.
Его хоронят на другом конце кладбища.
За оградой.
Серьёзный и немолодой человек с большим фотоаппаратом на шее (и белой надписью «@chtung(!)» на чёрной футболке) не присутствует на этих похоронах. В этот самый момент, в Берлине он подписывает контракт в присутствии своего немецкого агента. А спустя ещё три месяца, сначала «limited edition», а потом несколькими дополнительными тиражами выходит толстый и глянцевый альбом, с именем этого человека на обложке. «Альбом с провокационным названием и не менее провокационным содержанием», — так напишет французский «Rolling Stone».
На 205-й, последней странице этого альбома будет напечатано Её лицо. Человек, чья фамилия написана на обложке крупным шрифтом, фотографировал её через дорогую фотооптику именно для этого. С разрешения ближайшего родственника. Мужа.
Но мужчина, когда-то бывший мужем Любови, об этом никогда не узнал.
Он даже (презирая себя за это) с некоторым облегчением воспринял сообщение о её смерти. Она была в его жизни чем-то вроде «калашникова» в руках первоклассника. Восхищающая и пугающая одновременно.
Он хотел спокойствия.
Через полгода после похорон он женился на коллеге по работе и уехал в деревню.
Муж так и не узнал, о том фото на 205-й странице.
А ещё он не знал, что хранение маленького белого конверта из бумаги в одном из сейфов крупного надёжного банка проплачено на 500 лет вперёд.