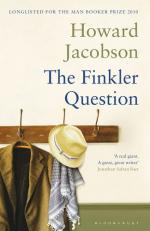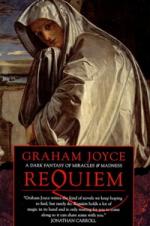«Купи билет, мотай сюда». Слова эти гудят в моем черепе. Словами этими жил наш Добрый Доктор, с ними, видит Бог, и умер. Он диктовал, творил, создавал, управлял, требовал, манипулировал, заставлял, держал фортуну за ежик короткой стрижки и разжал пясть, лишь когда для этого созрел. В том и суть. Когда ОН созрел. Так оно и было.
Мы же теперь без него. Но не остались ни с чем, куда там. Для множества гонзо-фанов, к которым отношусь и я, живы его слова и словечки, его книги и книжки, его мысли и прозрения, его юмор, его истина. У тех из нас, кому посчастливилось общаться с ним, постоянно подвергаясь опасности скорчиться в припадке неудержимого хохота, хранятся в памяти греющие душу картины, медленно исчезает его ухмылка чеширского кота. Мы помним, как он вел нас за собою и с удивлением убеждаемся, что всегда направлялся в верном направлении, каким бы безумным оно поначалу ни казалось. Да, Добрый Доктор все предвидел.
В моем мозгу запечатлены миллионы осколков, мелких приключений, которые мне посчастливилось пережить сообща, а иной раз и чудом выжить вместе с ним. Он был и остается братом, другом, героем, отцом и сыном, учителем и однокашником, подельником в злодеяниях. Товарищем во грехе. Грех наш — смех наш.
Встретился я с Хантером в декабре
Высокий, стройный, на голове какого-то индейского вида вязаный головной убор, спускающийся на плечи, физиономия украшена «авиаторскими» очками. Он выкинул в мою сторону массивную лапу, и я вложил в нее свою ладонь, ответив тем же, что и принял, чувствуя, как зарождается долгая и крепкая дружба.
Хантер плюхнулся на стул, бухнул на стол свое вооружение: немалый скотогонный электроштырь и массивный полицейский дротиковый электропарализатор «Тазер». И с этого момента стартовали-покатились пресловутые добрые времена. Мы выпили, добавили, еще добавили, поговорили о том о сем, выяснили, что оба выплеснулись в широкий мир с необъятных просторов «кровавого края Кентукки». Этот факт спровоцировал Хантера на словоизвержения по поводу рыцарства благородных южан, перешедшие в панегирик нашему земляку Кассиусу Клею. Через некоторое время мы оттянулись в его укрепленную резиденцию «Сова» неподалеку от питейного заведения, где к половине третьего ночи дошли до нужной кондиции и разнесли из сверкающего никелем дробовика пропановые баллоны. Как я позже узнал, этот подвиг засчитался мне как испытание для вступления в клуб «Остряков острее острого».
Прошло некоторое время. Я трудился в Нью-Йорке над «Донни Браско», когда однажды в половине шестого утра у меня зазвонил телефон.
— Джонни? Хантер. Слушай, тут речь идет об экранизации моей «Книги Вегаса»… Тебя не заинтересует? Хочешь меня сыграть?
Спросонья я соображал туго, но чего ж тут не сообразить. Голос Хантера поторапливал с ответом.
— Ты меня слышишь? Ну, как ты к этому относишься?
Как я мог к этому отнестись… Конечно же, с восторгом! О чем еще мечтать? Собственно, я об этом и мечтать-то не смел, потому что не мыслил этого возможным. Мы потолковали о деталях: где, когда, с кем, как… и все такое. Тут, правда, выяснилось, что речь об экранизации ведут пока что очень немногие. То есть, скорее всего, только мы с ним. Ни сценария, ни режиссера, ни продюсера… Пока, во всяком случае. Он зондировал на будущее. Он так делал часто. Смысл этого занятия никому, кроме него, не был ясен, но Хантер видел дальше — что скрывается там, за поворотом. Даже посреди полнейшего хаоса он чуял, куда рухнут осколки.
Мы без споров согласились, что мне придется провести с ним чрезмерно длительное, вредное для здоровья время. Тогда мы уже стали закадычными друзьями, немало пережили вместе, к примеру, трехчасовую встречу с народом в гадюшнике «Вайпер Рум» в Лос-Анджелесе.
Я заехал к Хантеру, ничего о предстоящем мероприятии не ведая, но он сразу же выкрутил мне руки ультиматумом: или я еду с ним, или он плюнет на эту лавочку. Потом под руку ему подвернулся Джон Кьюсак — и его постигла та же судьба. Мы втроем покатили — точнее, поползли — к клубу в каком-то кабриолете, наверняка прокатном. Мы пыхтели по Сансет-бульвару в компании надувной куклы в человеческий рост, Доктор Томпсон сверкал очками и расплескивал из стакана виски. Сверхкультурная компания! Когда мы начали замедляться на парковку, он по каким-то, одному ему ведомым, признакам понял, что наступил момент, чтобы швырнуть безответную куклу через борт на мостовую. Взвыли тормоза, завопил благим матом «безутешный» Хантер, и разверзся пандемониум. Скрежетало железо, скрипели тормоза, орали люди… Мы, естественно, в центре внимания. Миг — и мир обезумел.
Объединившись с пустотелой секс-бомбой, мы мирно проникли в клуб, паиньками вышли на сцену. Остаток вечера прошел без происшествий, но путевой хохмы мне хватило с лихвой.
Тем временем фильм по «Вегасу» приобретал реальные очертания, пришло для меня время влезть в душу моего героя. Я полетел в Аспен, и Хантер встретил меня в аэропорту в открытом красном «шевроле» 1971 года по имени «Красная акула». Вещи мои направились в подвал, ставший мне домом на достаточно долгий срок, чтобы я успел подружиться с обитавшими там скромными бурыми паучихами.
Днем и ночью, часов не наблюдая, торчали мы с ним в его «командно-штабном бункере», трепались о чем угодно — от политики переходили к оружию, далее к нашему родному штату, обсуждали губную помаду, музыку, Гитлера-живописца, литературу и спорт, спорт, спорт… Затронули его любимые и нелюбимые виды спорта. Смотрели баскетбол — чаще всего, футбол — тоже немало. Я спросил, нравился ли ему когда-нибудь бейсбол, на что он без раздумий ответил:
— Не-а. Как будто куча старых жидовин на крыльце с пеной у рта базарят, базарят, базарят — вот тебе твой бейсбол.
Годом позже мы заключили пари во время чемпионата мира по европейскому футболу — Франция против Бразилии. Он не сомневался, что Бразилия размажет Францию по полю. Я принял пари, поставили тысячу баксов. Все оставшееся до матча время задирали друг друга. В итоге я выиграл. Он тут же выписал чек и прислал мне с письмом следующего содержания:
Ну, полкан, ясное дело, вся эта гребаная игрёнка прокуплена. Но все ж не ожидал я, что эти сраные полуметисы такие идиоты. Они вели себя как тупые болваны, все поле обхезали и свою блянскую нацию опозорили перед всем миром. Для меня еще одно доказательство, что не хер любителям совать свои сопливые носы в игру, в которой они ни уха ни рыла не педрят.
Короче, поимей свои $1000.
И спасибо тебе большое.
Скоро вернусь.
Док.
Щедрость его изумляла. Ни разу он не попытался увильнуть от нескончаемого множества моих вопросов. Всегда терпелив, доступен, открыт. Детально описывал свои подвиги, переживания, вплоть до самых личных, чего вовсе не был обязан делать. Чем больше времени я с ним проводил, тем сильнее к нему привязывался. Мы почти не разлучались, и мне это не надоедало, наоборот. Связь между нами лишь крепла.
Я порой поддразнивал его, что мы становимся извращенным вариантом парочки Эдгар Берген — Чарли Маккарти, и это его несколько коробило. В то же время я вживался в его личную одежду «вегасовского» периода, усваивал манеру поведения, манеру одеваться: «авиаторские» очки, степная шляпа, шорты, спортивные носки, кроссовки «Конверс», мундштук с сигаретой плотно сжат зубами. Я снимал шляпу и проветривал «купол», и он просил меня прикрыться. Мы выскакивали из дому цирковой парой клоунов-близнецов, рыскали по округе парой фрагментов одного сценария. Я бы его в святые записал за неиссякаемую терпимость к моему копанью в его жизни. Лучшего друга и вообразить невозможно.
Много, много довелось мне пережить вместе с Хантером, слишком много, чтобы даже мельком упомянуть здесь. Много неповторимого — я сознавал, что подобного пережить мне уже не придется во всю оставшуюся жизнь. Фантастика становилась реальностью, роились лучшие моменты жизни — к счастью, я понимал это.
Скажу как любитель: лишь от вас самого зависит, надуют ли, обсчитают ли вас, верите ли вы в миф. Надо понять, что его путь и его метод — это лишь его путь и метод, что он двадцать четыре часа в сутки жил и дышал тем, что писал. Некоторые могут, судя по жизни Хантера, по окружающим его легендам, по его путешествиям, вообразить дока психом, срывающим цветы удовольствия, или, как он сам выражался, «стареющим наркоторчком». Заверяю вас, это не так. Я знаю, что Хантер — истинный джентльмен с Юга, зачарованный рыцарь в сияющих доспехах. Он же вечный пацан, сорванец-шалунишка. Неутомимый правдоискатель. Сверхчувствительный медиум, чудесным образом выявляющий глубинные слои истины, скрытой наслоениями лжи, которой мы привыкли верить.
Хантер — гений, революционизировавший журналистику так же, как Марлон Брандо преобразил актерское действо; он столь же значим, как Дилан, Керуак, как «Стоунз». И он, бесспорно, самый верный и чуткий друг, которого я когда-либо имел счастье встретить. Мне повезло, я стал членом избранного братства тех, кто знает о нем больше, чем остальные. Он — воплощенная элегантность. Мне его не хватает. Мне его не хватало и при жизни. Но, друг Доктор, мы еще увидимся.
Полковник Депп.
Лос-Анджелес.