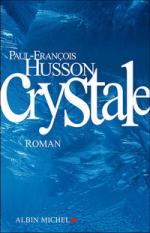Глава из романа
О книге Николя Д’Этьен Д’Орва «Тайна Jardin des Plantes»
— Сто тысяч человек, зажаренных живьем на Эйфелевой
башне, — что за нелепость! — проворчала
Жервеза Массон. — Она не смогла бы выдержать такой
груз!.. Что касается электрических разрядов, которые якобы
к ней притянулись, — прибавила она, — это просто
смешно!
И с раздражением захлопнула книгу.
Затем, поскольку от долгого чтения вслух у нее пересохло
в горле, она залпом осушила бокал красного вина.
Сильвен, ее сын, сидевший напротив нее, все это время
оставался невозмутимым и хранил молчание.
Наконец молодой человек слегка пожал плечами и тоже
отпил вина. Длинные пряди золотисто-бело курых волос,
спадающие ему на глаза, едва не окунулись в бокал.
Сильвен спрашивал себя, к чему клонит мать. Целых полчаса
она возмущенным тоном зачитывала ему отрывки из
книги «SOS! Париж». Остальные посетители небольшого
ресторанчика то и дело оборачивались на них с недовольным
видом. Однако заслуженная шестидесятилетняя сотрудница
парижского Музея естественной истории не обращала
никакого внимания на завсегдатаев «Баскского трактира», наслаждавшихся гаспаччо, запеченным окороком,
яичницей с помидорами, луком и перцем и другими кулинарными изысками баскской кухни. Она смотрела только на
сына. Она ждала от него какого-то замечания, какого-то
комментария по поводу всей этой бредятины. Но Сильвен
продолжал молчать, изредка поглядывая на мать сквозь завесу
волос, спадающих на глаза.
На самом деле он не знал, что сказать.
Чувствовалась, что Жервеза оскорблена его молчанием,
которое она, скорее всего, приписывала безразличию.
— Я тебя не понимаю, Сильвен! Ты всегда боготворил
Париж, ты посвятил ему свою жизнь, свою карьеру — и весь
этот набор глупостей тебя не возмущает?
Поставив бокал, Сильвен откинулся на спинку стула и
убрал волосы со лба.
«Чего-то она недоговаривает», — подумал он.
Так или иначе, факт оставался фактом: хранительница
музея была чем-то всерьез обеспокоена. Ее сын это чувствовал
— он часто угадывал мысли своих собеседников. Телепатия?
Нет, инстинкт. Проблески интуиции, которую он никогда
не пытался специально в себе развивать, но которая
становилась все сильнее по мере того, как он взрослел. Однако
это не имело никакого отношения к его образованию,
годам учебы, дипломам.
Будучи молодым талантливым ученым, Сильвен Массон
обладал интеллектом не столько рефлексивным, сколько интуитивным.
Он не анализировал окружающий мир, он его
чувствовал. Вкусы, запахи, виды, звучания — все эти разрозненные
детали составляли в его памяти единое целое,
нечто вроде лоскутного одеяла. Так, запахи чеснока и жареной
рыбы, насквозь пропитавшие «Баскский трактир», словно
распахивали перед ним калитку в детство. Тридцать с
лишним лет он почти всегда обедал в этом ресторанчике
вместе с матерью, и теперь каждый проглоченный кусочек
фаршированной шейки вызывал у него те или иные воспоминания,
каждый глоток изарры — мимолетный образ из
прошлого. По сути, Сильвен был «стихийным прустинианцем», даже вопреки себе (поскольку «В поисках утраченного
времени» постоянно выскальзывала у него из рук, и, говоря
своим студентам о Прусте, он не без скрытой провокации
именовал писательскую манеру последнего «вылавливанием
блох»). Однако, несмотря на это неприятие, Сильвен, подобно
Прусту, страдал от «непреходящей детскости». Он даже
изобрел применительно к себе термин «синдром детской
сенситивности», сокращенно СДС, поскольку его чувственное
восприятие оставалось таким же ярким, как в детстве —
связи с которым он из-за этого никак не мог разорвать.
— Так что, тебе нечего ответить? — настойчиво спросила
Жервеза, видя, что ее сын вновь погрузился в свои мысли.
Сильвен покачал головой — не столько в знак отрицания,
сколько для того, чтобы очнуться от забытья. Затем пожал
плечами и нехотя проговорил:
— Мам, я историк. А эта книга — просто роман… Люди
готовы проглотить что угодно: вспомни только парижского
зеленщика, который в сорок шестом ухитрился продать Эйфелеву
башню голландской компании по утилизации металлолома…
Жервеза Массон стиснула зубы. «Анекдоты, эти его вечные
анекдоты!» Итак, это все, что ее сын может сказать по
поводу книги, которая побила все рекорды продаж во Франции
в течение нескольких последних недель. Четыре сотни
страниц, где речь идет именно о том, что является истинной
страстью Сильвена, — о Париже. О городе, буквально расплющенном,
опустошенном, разгромленном фантазией автора,
Протея Маркомира. И Сильвен над этим смеется?!
Нервно жуя утиное филе в вишневом соусе, Жервеза
смотрела на сына с некоторым опасением и одновременно
— почти с завистью. Она была заранее уверена, что Сильвен
отнесется к этому роману с той же насмешливой беззаботностью,
как прежде — к террористической угрозе.
Несмотря на постоянно происходящие вокруг «события»,
он продолжал жить в своей башне из слоновой кости. О, конечно, она и сама немало этому поспособствовала. Она растила
его, как редкий оранжерейный цветок, оберегала от всего
и вся. Прошло уже много лет с тех пор, как Сильвен стал
жить отдельно, в своей берлоге на улице Монж, в самом центре
Латинского квартала, но по-прежнему оставался верен
своей болезненной обособленности от окружающего мира.
«Нужно, чтобы он очнулся, пока не стало слишком поздно!» — с тревогой думала мать, которая уже воображала сына,
изумленного и растерянного, стоящим посреди руин.
— Ты говоришь, книга Маркомира — всего лишь роман,
вымысел, — наконец сказала она, нервно затягивая узел на
своей салфетке, которая трещала все сильней и сильней. —
Но я уверена, что за этим вымыслом скрывается кое-что посерьезнее…
— Но что? — вежливым тоном произнес Сильвен, надеясь
сменить тему.
Он с удовольствием предвкушал свою завтрашнюю лекцию
— о языческих святилищах, некогда существовавших
на месте некоторых парижских церквей. Одна из самых любимых
его тем…
Жервеза, не собиравшаяся сдаваться, схватила объемистую
книгу и, указывая на имя автора, возмущенно заговорила:
— Этот ненормальный, Маркомир, объявил, что его роман
— это пророчество. Что у него были видения. Что на написание
книги его вдохновило некое высшее существо. Что…
— Я знаю, мама… Несмотря на то что я живу в своем замкнутом
мирке, я в курсе того, что происходит за стенами
Сорбонны и Исторической библи отеки… — Сильвен поднял
глаза на Жервезу, сознавая, что несколько укрепил свои
позиции. И добавил: — К тому же не тебе упрекать меня в
затворничестве…
При этих словах хранительница музея недовольно поморщилась
и, достав из сумки косметичку, принялась подкрашивать
губы.
Сильвен знал, что она всегда так делает, когда нервничает.
Словно бы пытается замаскировать внутренние проблемы
внешними средствами.
«Как будто она чего-то боится…» — подумал он, уловив
во взгляде матери растерянность. Да, сегодня вечером чтото
тревожное витало в привычной атмосфере «Баскского
трактира» (или только вокруг их стола?). Во всяком случае,
Жервеза Массон явно была не в своей тарелке.
Машинально поправляя тщательно уложенные волосы,
она ворчливо произнесла:
— По крайней мере, я стою на твердой почве! А ты витаешь
в облаках… Тебе-то не приходится бороться с чиновниками,
добиваться приемов у министра, выбивать субсидии…
Да еще и эта публика…
Последние слова были неожиданными.
— Но при чем здесь… публика?
Хранительница музея подозрительно огляделась, затем,
понизив голос, ответила:
— С тех пор как прошлой осенью вышла «SOS! Париж»,
посетителей в нашем Ботаническом саду стало меньше. На
целых двадцать процентов…
— Возможно, это из страха перед террористами, — предположил
Сильвен. — Или просто совпадение…
Он хотел успокоить мать, но результат получился прямо
противоположный: она утратила последние остатки самообладания.
Даже под слоем пудры стало заметно, как сильно
она покраснела от гнева.
— Ах, значит, совпадение?! А как ты тогда объяснишь,
что на следующий день после того, как Маркомир появился
в программе Лорана Рукье, в зале палеонтологии не появилось
ни одного посетителя за весь день? И что все экскурсионные
школьные группы отозвали свои заявки на посещение
Галереи эволюции?
— То есть как?
После некоторого колебания Жервеза нервно облизнула
губы и ответила без всякой иронии:
— Я и в самом деле думаю, что они… боятся музея.
— Но из-за чего?
Не глядя на сына, Жервеза надела очки и, указав на книгу,
спросила:
— Ты ведь читал ее? Или нет?
«Еще чего не хватало!» — невольно подумал Сильвен и,
энергично покачав головой, произнес с почти детской гордостью:
— Нет, я такое не читаю!
Жервеза, казалось, немного смягчилась.
— Ну что ж… по крайней мере, ты свободен от стадного
инстинкта, — с удовлетворением сказала она, перелистывая
страницы. — Вот послушай…
Сильвен обреченно закатил глаза: «Ну вот опять!..»
— «Настал черед животных. Ботанический сад представлял
собой воистину апокалипсическую сцену. Все находившиеся
в клетках животные погибли из-за того, что сотрудники,
не освободив их, разбежались. С другой стороны, наблюдались
и своеобразные „воскрешения“.
Через три недели после начала затопления несколько
спецназовцев-ныряльщиков, проплывая в резиновой лодке
„Зодиак“ над улицей Бюффона, увидели жуткое зрелище:
чучела животных, прежде стоявшие в Галерее эволюции,
плыли на своих деревянных постаментах по Ботаническому
саду, словно шагали по воде. Поскольку ограда
была затоплена, многие чучела „разбрелись“ по улицам,
словно библейские животные, спасшиеся в ковчеге от потопа.
Спецназовцы с ужасом заметили, что все хищники смотрят
прямо на них!
Если бы лапы зверей не были прикреплены к постаментам,
они выглядели бы совсем как живые! На углу улицы
Жоффруа-Сен-Илэр спецназовцы увидели рысь, зарычавшую
на них, когда их лодка приблизилась. Затем на крыше
одного дома по улице Поливо они увидели двух тигров, греющихся
на солнце. Один из них терся спиной о каминную
трубу.
— Смотри, — вздрогнув, сказал один из ныряльщиков
своему соседу. — Они сошли со своих постаментов!..
— И они не боятся воды, — откликнулся тот, видя, как
тигры прыгают в воду.
Когда зубы хищников прокусили резиновый борт лодки,
она накренилась. Перед смертью всем членам экипажа предстало
одно и то же фантастическое видение: по бульвару
Сен-Жермен под водой величественно плыл кит, сопровождаемый
скелетом тираннозавра…»
Жервеза резко захлопнула книгу и торжествующе взглянула
на сына.
Однако ей пришлось разочароваться: на лице Сильвена
по-прежнему было скептическое выражение.
— Ну и что? — сказал он, видимо ничуть не впечатленный
кошмарами Маркомира. — Ты ведь не думаешь, что
этот бред как-то повлиял на ваших посетителей?
Но Жервеза не успела ответить.
— Это роман Протея Маркомира? — услышали голос за
спиной мать и сын.
Они обернулись. Юный официант, стоявший возле их
стола, смотрел на книгу почти благоговейно.
— Да, он самый, — ответила хранительница музея, заинтригованная
явным восхищением молодого человека.
Тот склонился над столом и с религиозным трепетом взял
книгу в руки.
— Я его уже дважды перечитывал, — произнес официант
приглушенным голосом. — Если все это правда, значит,
скоро мы в самом деле увидим конец света!
Сильвен заметил, что руки официанта слегка дрожат.
Да что ж они все как помешались на этой книжонке!..
Или «SOS! Париж» действительно заключает в себе какуюто
тайну?.. Видно, придется все же роман прочитать…
При виде чуть порозовевшего лица официанта, который
держал книгу так, словно это была бомба, готовая взорваться,
Сильвен на мгновение даже возревновал к славе Маркомира.
Он с удовольствием применил бы рецепт Маркомировой
популярности к собственным научным работам: напечатать
их в двух с половиной миллионах экземпляров — ну
как тут не прославиться?
— Но ведь это всего лишь вымысел, вы знаете? — спросил
он, пытаясь разубедить официанта.
Тот, однако, не выглядел безумным фанатиком, ожидающим
апокалипсиса, и Сильвен это чувствовал. «Этот тип не
сумасшедший, он просто перепуган до смерти». Но когда
официант взглянул на Сильвена, у него оказался именно
взгляд фанатика, причем обращенный на еретика.
— Вы видели Маркомира по телевизору, нет? Вы слышали,
что он рассказывал об этой книге?
Жервеза и Сильвен одновременно покачали головой.
— Маркомир знает такие вещи, о которых мы даже понятия
не имеем, — прошептал официант. — Он как будто
сам пережил те события, о которых пишет… словно видел
это во сне или в другой жизни. Он ясновидящий… Он попытался
нас предупредить, предостеречь… Никто этого не опубликовал
бы, если бы он не выдал это за роман. Но это вовсе
не роман…
Положив книгу обратно на стол, официант судорожно
вцепился в руку Сильвена, у которого не оставалось другого
выбора, кроме как слушать дальше.
— Это правда, месье! Чистая правда! Маркомира обвиняют
в том, что он — самозваный гуру, а его Протейнианская
церковь — секта. Но когда катастрофа действительно начнется,
они все бросятся искать у него защиты! Вы знаете о
том, что у него уже больше восьмиста приверженцев?
— Все в порядке, мадам Массон?
При этих словах официант вздрогнул.
На этот раз к ним подошел хозяин заведения собственной
персоной, подозрительно косясь на официанта.
«Ну вот, сейчас и этот заведет ту же песню!» — обреченно
подумал Сильвен.
Однако, увидев книгу Маркомира, гигант в белом фартуке
с вышитыми инициалами «И. Д.» буквально окаменел от
гнева. Его лицо, на котором выделялись густые усы цвета
«соль с перцем», пошло красными пятнами.
— Живо отправляйся на кухню! — приказал он официанту,
с трудом сдерживаясь.
Тот, покраснев, пролепетал: «Да, месье Дарриган!» — и
удалился, лавируя между столами.
Вновь обретя всегдашний солидно-достойный вид, Ив
Дарриган обратился к Жервезе с заметным акцентом жителя
Сен-Жан-де-Люс:
— Мадам Массон, мне очень жаль, но прошу вас простить
этого юнца: ему довелось хлебнуть горя. Его родители
погибли во время теракта прошлой осенью… Они работали
в «Конкор-Лафайетт», когда там взорвалась бомба. С тех пор
ему и мерещатся всюду ужасы…
— Ничего-ничего, все в порядке, — поспешно произнесла
Жервеза умиротворяющим тоном.
Украдкой посмотрев по сторонам, месье Дарриган склонился
к Жервезе и ее сыну, опершись локтями на столешницу.
Усы хозяина ресторана защекотали горлышко бутылки
«Шательдон».
— Раз уж я здесь, хочу у вас спросить, мадам Массон. Вот
вы бываете в правительственных учреждениях… Как там-то
дело, продвигается?..
Уловив запах чеснока в его дыхании, Жервеза невольно
поморщилась.
— Вы о чем, Ив?
Ив Дарриган склонился еще ниже, отчего крепкий стол
из бука слегка затрещал.
— Я насчет терактов… Вы уже знаете, что сегодня днем
эвакуировали людей из Монпарнасской башни? Значит,
полиция напала на след?.. Террористы скоро будут задержаны?
— Я знаю не больше вашего, — ответила Жервеза, чувствуя
неловкость из-за того, что все посетители явно прислушивались
к их разговору. — Я ведь имею дело с министерством
культуры, а не с полицией. Моя сфера — естественные
науки, а не терроризм…
В ресторане тем временем воцарилось абсолютное молчание.
Все взгляды сейчас были прикованы к моложавой
блондинке лет шестидесяти. Есть ли у нее какая-то новая
информация о трагическом событии, которое так потрясло
всех парижан прошлой осенью? Почти каждый житель столицы
близко или отдаленно знал кого-то из жертв этой бойни.
Сотен жертв…
Тишина окутала ресторанный зал с закопченными деревянными
балками под потолком. Сильвен почти физически
ощущал исходивший от всех присутствующих страх пополам
с надеждой.
— Но ведь вы, мадам Массон, — снова заговорил Ив Дарриган,
— в связи с угрозой терактов должны были получить
какие-то предписания из службы безопасности?
— Да, конечно, нам в музей постоянно присылают кипы
инструкций, усилили охрану… все как в любом общественном
учреждении, — ответила Жервеза и инстинктивно бросила
взгляд на входную дверь.
На улице, по ту сторону стеклянной витрины, украшенной
фирменными наклейками «Мишлен», «Лебэй», «Голт и
Милло», расхаживал из стороны в сторону вооруженный до
зубов охранник.
— Ну и времена!.. — пробормотал месье Дарриган, чтобы
скрыть разочарование.
Он понял, что Жервеза, даже если она знает что-то еще,
больше ничего не скажет. Видимо, остальные посетители
пришли к тому же выводу и снова взялись за ножи и вилки
— хотя та сосредоточенность, с какой они вернулись к
еде, могла показаться несколько преувеличенной.
После недавних терактов весь Париж словно лишился
аппетита. С момента взрыва в «Конкор-Лафайетт» — огромном
небоскребе в двести этажей, включавшем в себя отели,
офисы, кинотеатры, рестораны и галереи современного искусства,
— мясо как будто пропиталось привкусом золы, а
вино отдавало горечью. Владельцы ресторанов, в том числе
Ив Дарриган, не могли не заметить резкого уменьшения
клиентуры — люди чувствовали себя приговоренными к
смерти с отсрочкой приговора.
Устремив взгляд в стену позади своих собеседников, хозяин
«Баскского трактира» добавил:
— Мир сильно изменился…
Жервеза и Сильвен невольно обернулись и увидели на
стене картину. Картину?.. Нет, скорее это был сон, смутное
воспоминание о той благословенной эпохе, когда этот нынешний
парижский ресторан еще и впрямь был сельским
трактиром. Огромная, два на два метра, фреска изображала
«Баскский трактир», каким он был в начале девятнадцатого
века. Идиллическая, даже несколько сентиментальная сцена:
шестеро гостей, сидя за столом, накрытым во дворе, под
ивой, едят жареных кур или весело чокаются бокалами с вином;
рядом, на поляне, танцуют пары. Вдалеке, на другом берегу
реки, на фоне голубого неба высится необычного вида
замок.
— Настоящий рай на земле, — тихо произнесла Жервеза.
Купить книгу на Озоне