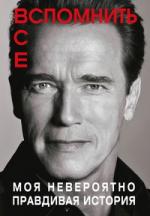- «Эксмо», 2012
- Настоящее издание в своем роде обобщение режиссерской практики Андрея Кончаловского, описание мастером его художественного метода. Естественно, с примерами работы над конкретными фильмами, драматическими и оперными спектаклями, а помимо того — и с размышлениями о месте и роли киноискусства (как и искусства вообще) в контексте времени.
Сборник включает материалы устных выступлений и публикаций режиссера примерно с середины 1970-х годов вплоть до текущего времени. Сюда относятся лекции Кончаловского для слушателей Высших сценарных и режиссерских курсов, мастер-классы, иные публичные выступления. В сборник входят также материалы интервью, отдельные статьи, фрагменты эссе, главы из мемуарных книг режиссера.
Таким образом, читатель получит возможность проследить, какие взгляды мастера на творчество и жизнь изменились, а какие остались практически неизменными как основа его мировоззрения.
Издание привлечет внимание тех, кто не равнодушен к проблемам киноискусства, интересуется мировым и отечественным кинематографом, в частности творчеством Кончаловского, его взглядами на сложный процесс становления отечественной и мировой художественной культуры
- Купить книгу на Литресе
Так что же такое искусство?
На этот вопрос не так просто ответить. Попытайтесь ответить коротко, и вы в скором времени убедитесь, что нечто подобное кто-то из великих, Лев Толстой, или Спиноза, или тот же Пикассо, уже говорил.
Слово «искусство» красиво в русском звучании, поскольку связано с представлением об искусном человеке, который может что-то такое, чего другие не могут. Выразительное образное понятие! Хотя по-латыни и по-гречески оно звучит по-другому: не содержит значения «искусность».
И я, ища ответ, прибегал, как правило, к мыслям других людей. Вот одно из определений, родившееся таким образом. Оно довольно емкое, немножко научное, но, тем не менее, точно, на мой взгляд, говорит о том, что такое искусство.
Искусство — это выраженное словесными или материальными образами знание, которое помогает человеку постичь и оценить окружающий его мир, помогает в духовном росте.
Художник не может творить незнание, подобно младенцу.
В начале ХХ века возникла группа художников «Ослиный хвост». Название было связано с некой скандальной картиной. По легенде, она появилась так: приделали к хвосту осла кисть, макали кисть в краску, осел махал хвостом, и на поднесенном к животному холсте появлялось нечто. «Написанная» таким способом картина оказалась на выставке в Париже и стала знаменитой. Входившие в состав группы художники со временем тоже приобрели известность.
Вот, с моей точки зрения, образец произведения, сделанного безо всякого знания.
Настоящий художник не только выражает какое-то знание, но и сам познает. Я обнаружил, например, что про жизнь, меня окружающую, про страны, в которых был, больше всего узнавал не как турист, а когда работал там.
Художник познает и каким-то образом передает свое знание.
Особенно полно стремление художника поделиться своим знанием откликается, конечно, в литературе. Мы прекрасно понимаем, читая книгу, что писатель пытается рассказать нам о том, что он открыл в мире.
Кто-то сказал, что литература возникла от горя. В том смысле, что в отсутствие собеседника, в отсутствие кого-то близкого, человек, мучаясь необходимостью поделиться пережитым, начинает писать. Любой писатель, в принципе, исповедуется или рассказывает что-то воображаемому близкому человеку. Так и возникает литература — искусство, исповедальное по своей сути.
Каково же собственно духовное наполнение искусства?
Честно говоря, боюсь этих слов — «духовное», «духовность» — не люблю их. Избитые понятия! Сегодня то и дело употребляют выражение «духовное возрождение», не понимая, что это такое. Очень часто «духовное» связывают с чем-то религиозным. Я же думаю, что духовность человека не обязательно рифмуется с религиозностью.
Духовность человека — это его стремление ввысь.
Любое человеческое существо живет на трех уровнях.
На физиологическом уровне мы животные. Второй уровень — социальный. Мы играем в определенные общественные игры, со своими договорами, правилами. В социальной среде мы среди подобных нам существ, между которыми происходят войны, борьба за место под солнцем, за деньги, славу, власть и т.п.
И третий уровень — идеальный.
Это состояние погруженности в мечту, в созерцание. В такой момент мы находимся в одиночестве — на берегу моря, например, глядим вдаль, как бы растворяясь в природе. Либо смотрим на звезды. Либо молимся. Как раз этот уровень я и считаю духовным, очень зыбким и трудно определимым. Но даже у самого малообразованного, примитивного человека возникают такого рода потребности, которые сам он не в состоянии сформулировать. То ли это одиночество, то ли влюбленность, то ли еще что-то…
На идеальном (духовном) уровне в человеке пробуждается потребность в красоте, которую, правда, каждый понимает по-своему. Это самый трудноопределимый момент и в наших занятиях искусством: красота человека.
Когда-то Толстой сказал, глядя на красивую женщину, примерно, так: какое заблуждение отождествлять красоту с добром!
Колоссальное заблуждение! Когда я говорю о красоте человека, то имею в виду не что-то внешнее, а добро, на которое он способен. Потому что добро, на которое человек способен, — это, наверное, и есть идеальный, или духовный, уровень его существования. Когда человек делает добро, к которому его никто не понуждает, — это явление великого чуда. Ведь человек, по природе, эгоист. Мы просто неохотно в этом признаемся.
Духовная красота обнаруживается и в нашей способности наслаждаться пейзажем, придавать картинам природы какое-то особое значение. Причем, красоту эту еще надо уметь увидеть.
Я, например, долго не понимал, в чем красота скромных пейзажей Исаака Левитана. Красоту его живописи открыл для меня другой художник — Константин Коровин своими «Записками художника».
Надо уметь увидеть!
Японцы говорят, чтобы стать художником, не обязательно написать картину, достаточно увидеть ее внутренним взором. Но одно дело увидеть, а другое — поделиться этим внутренним видением с окружающими людьми.
Здесь начинаются самые большие сложности.
Зачем мы занимаемся искусством? Чтобы всех сделать счастливыми? Чтобы заработать много денег и стать знаменитым? Но что тогда является природой нашего творчества? Чего мы, в сущности, хотим? И что необходимо художнику, чтобы созданное им можно было назвать искусством?
Во-первых, художнику не обойтись без способности эмоционально воспринимать жизнь, испытывая при этом восторг, ужас, отчаяние. Смех, слезы, ужас — три душевных струны, по Пушкину, на которых искусство играет. Комедия, трагедия и драма, в соответствии с этим, — три маски греческого античного театра. Итак, без способности чувствовать художника просто не существует.
А во-вторых, художнику нужно уметь запечатлевать свою эмоциональную взволнованность: зарисовать, заснять, записать. Вот чему, собственно, и нужно учиться.
В наше время, к несчастью, распространились виды «творчества», где ничего не надо уметь, — за тебя все сделает компьютер.
Раньше фотография, например, была целым процессом. Фотограф не знал, что он снял. Надо было проявить снятое. Сегодня все является мгновенно. Фотографии стали идеальными. Эти картинки может делать каждый. Фотографов развелось как собак нерезаных. Искусство ли это? Сомневаюсь. Потому что, во-первых, нет нужды в специальных умениях, а, во-вторых, отсутствует отбор.
Отбор — выделение художником из воспринятого им определенных зрительных, словесных и других образов.
Но и этому еще нужно научиться!
Вот почему живописец должен изо дня в день рисовать, балерина отрабатывать бесконечные па. Если она не будет ходить в класс, у нее перестанут работать связки, и утратится танцевальная легкость. За этой внешней легкостью всегда стоит ежедневный гигантский труд. Без такого труда не может быть и художника.
Итак, к нашему определению искусства нужно прибавить еще одно качество — мастерство. Мастерству, профессиональной технике и должны учить в соответствующих институтах.
Есть великая живопись: Тициан, иконы Рублева… Но есть и копии с этой живописи. Чтобы сделать копию, не отличимую от великого оригинала, нужно большое мастерство. Есть замечательные копиисты, зарабатывающие огромные деньги на продаже фальшивых картин.
Если же взглянуть на то, что называют «современным искусством», то легко увидеть: большого мастерства не требуется для того, чтобы сотворить какую-нибудь концептуальную штуковину. Для меня такие создания не попадают в разряд искусства.
Искусство, по выражению Льва Толстого, есть сообщение чувства. Но сообщать нужно настолько мастерски, чтобы вызвать у зрителя (читателя, слушателя) такое же ответное чувство, какое переживал сам художник.
Когда-то я любил ходить в кинозалы, где шли мои картины, наблюдать, как их воспринимают. Приятно, когда люди плачут в нужный момент, когда в нужном месте смеются. Думаешь: попал! А бывало и по-другому.
Есть у меня картина «Романс о влюбленных», очень популярная в 1970-е годы. Я пришел в кинотеатр, где ее показывали. Впереди меня сидела какая-то женщина с авоськами. Я обратил на нее внимание только потому, что она вздохнула в середине картины и сказала: «Господи, на что деньги народные тратятся!» Она так скучала! Мне стало стыдно, и я тихо слинял. Ну, конечно, женщина эта стала моим врагом на всю жизнь. Хотя она не виновата. Виноват художник. Мы делаем картины не для того, чтобы их обязательно хвалили, а для того, чтобы о них судили.
Итак, сообщению чувств нужно учиться. Каким образом и как долго?
У некоего китайского врача спросили: как долго вы учились своему ремеслу? Он назвал шесть или семь поколений лекарей: отец, дед, прадед, прапрадед и так далее. Знание передавалось из поколения в поколение. Так же, допустим, как это происходит на Востоке и в таком тонком деле как резьба по кости или изготовление китайской миниатюры.
Подобную передачу знания в поколениях я уверенно могу назвать школой искусства. Таковы голландская или венецианская школы живописи. Мастера брали учеников. Те писали картины. Мастер только правил. А потом ставил свою подпись. С малых лет учили технике. У Микеланджело, например, было много учеников. В Риме была целая академия, где работали ученики. Учились они у замечательных художников, иногда и превосходя их своим талантом.
Без учебы, за которой стоит мощная культурная традиция, не вырастают великие художники. Знания, передающиеся в поколениях, и есть культура.
Художник, освоивший эти знания, причастен культуре. Особенно это касается режиссуры. Я человек, так сказать, старомодный, и для меня чрезвычайно важна культура режиссуры. Речь идет, как я уже сказал, о традиции и культурных ассоциациях, чего нельзя не заметить в любом произведении искусства. Слушая Моцарта, мы улавливаем итальянскую оперу. Внимая Чайковскому, — любимого им Вагнера. Это не значит, что Петр Ильич у него воровал. Хотя «воровать» надо. Французский живописец Анри Матисс говорил: не бойся признаваться, у кого ты воруешь. Потому что все равно переплавляешь «ворованное» в свое.
Плагиат — вещь бесталанная, но артистическое заимствование — именно переплавляет.
Нужно, чтобы обретенное знание опиралось на твое собственное. Нужно владеть традицией. Иными словами, нужна культура.
Мы живем во времена, когда знать традиции не только нет необходимости, но даже вредно. Постмодернизм в чистом виде — это отрицание всякого культурного багажа. Это, грубо говоря, свободное цитирование. Берутся любые цитаты, перемешиваются, перемалываются, как в блендере. Взбиваешь такой коктейль, потом оттуда выбрасываются какие-то разноцветные образы. Британский рок-музыкант, певец Дэвид Боуи так и писал свои песни: вырезал отдельные словечки, перемешивал, ставил в ряд и пытался найти в этом смысл. Такой вроде бы абсурдный пазл.
Отрицание культурной традиции вредно для художника, поскольку он делится не только своим знанием, но и тем, которое было до него, и которое он неизбежно впитал, даже, может быть, вступая с ним в спор. Ведь и для того, чтобы что-нибудь отрицать, с чем-то спорить, надо это знать.
Художнику, с одной стороны, необходимо знание традиций, а с другой, нужен талант, чтобы эти традиции развивать, а значит, и спорить с ними, даже их отрицать. Знание традиций и способность по-новому взглянуть на них и создает большое произведение искусства.
Исходя из всего сказанного, можно заключить, на мой взгляд, что искусство должно отвечать четырём условиям.
Первое
— талант, дар Божий. Художник испытывает чувство и в художественной форме передаёт его нам. Без способности чувствовать художника просто не существует. Думаю, великий Пушкин, если бы он был однолюбом, вряд ли смог написать такое количество любовной лирики.
Но почувствовать мало, надо уметь выразить. Для этого и необходимо мастерство — второе условие для существования искусства. И, если талант бывает от рождения, то мастерство — это постоянный труд. Поэтому большой художник, даже когда он гениален, для овладения мастерством должен упорно трудиться.
Третий признак истинного произведения искусства — сообщение чувства прекрасного. Благодаря искусству мы способны увидеть Красоту. Человек всегда был восприимчив к красоте природы, звуков, образов… В творчестве большого художника обязательно присутствует некая высокая идеальная цель…
И четвёртым условием для существования искусства является богатство культурных ассоциаций. Начиная с древнейших эпосов и заканчивая постимпрессионизмом, всё европейское искусство было насыщено многообразием ассоциаций с мифами, с вековыми культурными архетипами и с традициями. Вплоть до середины ХХ века Художник не стремился творить вне традиции. Можно «бороться» с традициями, когда ты знаешь, с КЕМ имеешь дело, разбираешься в этом. Знание традиций и способность по-новому взглянуть на них и создаёт большое произведение искусства. Если ты смотришь на работы великого итальянца Микеланджело Буонаротти, то узнаёшь в них и древнегреческого скульптора Фидия. Художник-модернист Френсис Бейкон, пародируя Веласкеса, понимал, какие традиции в искусстве он «разрушает».
Европейское искусство было разрушено постмодернизмом, который с середины ХХ века пытался избавиться от традиций, забыть их.
Искусство как таковое должно отвечать всем названным здесь качествам. Если произведение им не отвечает, оно к искусству отношения не имеет. Оно может быть только ремесленническим продуктом. Может быть произведением искусства маркетинга, которое часто кажется более важным, чем настоящее искусство.
На рынке в Китае можно видеть мастера, который из слоновой кости или на орехе режет какие-то невероятные узоры. И он, и его предки делают это уже пятьсот лет, а произведение стоит два юаня. Рыночная стоимость — копейки! Художественная — гигантская. Потому что в этом произведении сочетаются красота, знание, мастерство.
Сегодня очень часто, замечаю я с грустью, рыночная стоимость подменяет художественную ценность вещи. И мы все больше обращаем внимание на денежную оценку произведения. Я принадлежу к другому поколению. Я убежден, что настоящее произведение искусства неповторимо, его нельзя продублировать. А то, что сегодня называют искусством, — Энди Уорхол, скажем, — просто растиражированный предмет, продукт гениального маркетинга.
Сегодня можно воочию наблюдать большой разрыв между современным искусством и тем, какие требования должны быть реально, всерьез предъявлены к произведению художественного творчества.
Да, искусство может даже показать мне ужасные вещи, открыть невероятные бездны, угрожающие человеку. Таков Достоевский. Но Федор Михайлович говорил об этих безднах так, что читатель хорошо чувствовал его боль. Вот тут и возникало то, что я называю духовной красотой.
В произведении можно показать все, что угодно. Самые невероятные ужасы. Но если художник не дает этому этическую оценку, если мы не чувствуем его боли, то, на мой взгляд, перед нами не искусство. А нечто из другой области самовыражения.
Великий шведский кинорежиссер Ингмар Бергман, которого сегодня, может быть, и не так хорошо знают, одним из первых показал на экране чудовищное насилие. В его фильме «Девичий источник» (1959) три нищих пастуха насилуют пятнадцатилетнюю девушку, которая направляется в соседнее селение, чтобы отнести в церковь свечи. Эпизод невозможно смотреть без содроганий ужаса. Но одновременно вы чувствуете, как больно самому художнику показывать все это. Вы испытываете ту же боль, а потом вы переживаете, я бы сказал, жажду искупить совершенное преступление. Вот это и есть искусство — гениальное сообщение чувства.
Чтобы зритель (или читатель) глубоко пережил сообщенное автором чувство, художнику нужно сделать свое произведение доступным для восприятия.