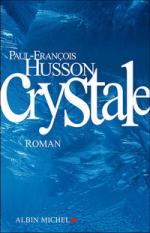- «Рипол классик», 2012
- Главный герой, шестнадцатилетний Майлз Холтер, интересуется предсмертными высказываниями известных людей. Следуя последним словам Франсуа Рабле, он оставляет свою скучную жизнь с родителями и оправляется учиться в новую школу Калвер-Крик в поисках «Великого «Возможно». Здесь он находит первых друзей и влюбляется в девочку по имени Аляска Янг, которая переворачивает его жизнь, а потом исчезает из нее. Ужасная трагедия заставляет Майлза серьезно задуматься над вопросами жизни и смерти. Его жизнь теперь навсегда разделена на ДО и ПОСЛЕ, что подчеркивает структура книги.
- Купить книгу на Озоне
за сто тридцать шесть дней
За неделю до того, как я уехал в пансион в Алабаме, оставив семью, Флориду и всю свою остальную детскую жизнь, мама настояла на том, что она закатит мне прощальную вечеринку. Ничего хорошего я от этого мероприятия не ждал — и это еще очень мягко сказано. Но меня всё равно заставили пригласить своих «школьных друзей», то есть, тот сброд, который тусовался в театральном кружке, и нескольких англичан-отщепенцев, с которыми общественная необходимость заставляла меня сидеть в столовке нашей обычной школы. Впрочем, я знал, что они не придут. Но мать моя была настойчива, пребывая в иллюзии, будто я все предыдущие годы умудрялся как-то скрывать от нее, что меня обожает вся школа. Она приготовила целую прорву артишокового соуса. Украсила гостиную желто-зелеными флажками — это были цвета той школы, в которую я переходил. Купила пару дюжин хлопушек, напоминающих бутылки с шампанским, и выставила их вдоль журнального столика.
И в самую последнюю пятницу, когда почти все вещи были собраны, в 16:56 они с папой (и со мной) сели на диван в гостиной, спокойно ожидая появления кавалерии, которая должна была примчаться, дабы пожелать юному Майлзу счастливого пути. Явившаяся кавалерия состояла ровно из двух человек: Мари Лосон, крошечной блондиниа с прямоугольными очками и ее коренастого (это чтобы его не обидеть) друга Уилла.
— Привет, Майлз, — усевшись сказала Мари.
— Привет, — ответил я.
— Как лето провел? — поинтересовался Уилл.
— Нормально. А сам?
— Тоже хорошо. Мы ставили «Иисуса Христа — суперзвезду». Я помогал с декорациями, Мари — с освещением, — рассказал он.
— Круто. — Я кивнул со знанием дела, и на этом, считай, все темы для разговора иссякли. Я мог бы расспросить об «Иисусе Христе», но я 1. не знал, что это такое и 2. и не хотел знать, и 3. я вообще в светских беседах не силен. Зато моя мама может трепаться часами, поэтому она решила продлить нашу мучительную неловкость расспросами о графике репетиций, о том, как прошел спектакль, как его восприняла публика.
— Я думаю, что все прошло хорошо. Народу, я думаю, было много. — Мари явно много думала.
Наконец Уилл вставил:
— Мы зашли ненадолго, просто чтобы попрощаться. Мари надо к шести проводить домой. Веселой тебе жизни в пансионе, Майлз.
— Спасибо, — с облегчением ответил я. Хуже вечеринки, на которую никто не пришел, может быть только вечеринка с двумя грандиозно и бесконечно занудными гостями.
Когда они ушли, я снова сел рядом с родителями и уставился на темный экран телевизора — мне захотелось его включить, но я понял, что этого сейчас лучше не делать. Я буквально ощущал, что и мама, и папа смотрят на меня, ожидая, что я вот-вот разревусь или типа того, как будто я не знал с самого начала, что все именно так и будет. Но я ведь знал. Я буквально кожей чувствовал их жалость, с которой они поедали чипсы с соусом, предназначенные для моих воображаемых друзей, но жалеть надо было, скорее, их самих, а не меня: я-то не столкнулся с разочарованием. Моим ожиданиям ситуация соответствовала.
— Майлз, ты поэтому хочешь уехать? — спросила мама.
Я подумал над этим пару секунд, не глядя на нее.
— М-м-м, нет, — ответил я.
— А почему же? — настаивала она. Мама уже не первый раз задавала мне этот вопрос. Ей не особо хотелось отпускать меня в пансион, и она этого не скрывала.
— Это из-за меня? — предположил папа. Он сам учился в Калвер-Крике, в той школе, куда собирался я; а также оба его брата и все их дети. Мне кажется, ему приятно было думать, что я решил пойти по его стопам. Дяди рассказывали мне, что моего папу считали крутым все ребята на кампусе — за то, что он одновременно и буянил, как только мог, и учился на «отлично» по всем предметам. Его жизнь казалась интереснее того жалкого существования, которое я влачил во Флориде. Но нет, я хотел уехать не из-за него. Не совсем.
— Погодите, — сказал я и отправился в отцовский кабинет за биографией Франсуа Рабле. Я любил читать биографии писателей, даже если (как оно и было в случае с месье Рабле) я не прочел ни единого другого их произведения. Я открыл книгу ближе к концу и нашел отмеченную маркером цитату. («НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙ ПОМЕТОК В МОИХ КНИГАХ», — тысячу раз наставлял меня отец. Но как я иначе смогу найти то, что мне нужно?)
— Этот чувак, — начал я, остановившись в дверях гостиной, — Франсуа Рабле, он был поэтом. Его последние слова: «Иду искать великое „Возможно“». Вот и я тоже. Хочу начать поиск уже сейчас, чтобы не пришлось дожидаться смерти.
Это родителей успокоило. Я отправлялся на поиски великого «Возможно», а они не хуже меня знали, что с такими, как Уилл и Мари, я его не найду. Я снова плюхнулся на диван между ними, папа приобнял меня, и мы еще довольно долго сидели так вместе, молча, пока я, наконец, не почувствовал, что можно включить телек. Мы поужинали артишоковым соусом под какую-то передачу с исторического канала, так что в итоге это вышла определенно не самая ужасная прощальная вечеринка на свете.
за сто двадцать восемь дней
Во Флориде, конечно, было и жарко, и влажно. Настолько жарко, что одежда липла к телу, как скотч, а пот лился со лба в глаза, как слезы. Но жара стояла только на улице, поэтому я перемещался перебежками из одного места с кондиционером в другое.
Однако я оказался совершенно не готов к небывалой жаре, которая встретила меня в Алабаме, в двадцати километрах к югу от Бирмингема, в приготовительной школе Калвер-Крик. Родители поставили наш внедорожник на газоне чуть ли не вплотную к стене моей комнаты в общаге. Это была комната номер 43. Но все равно, когда я выходил к машине за вещами, яростное солнце жгло даже сквозь одежду, создавая у меня очень живое представление об адском огне.
Втроем мы разгрузили мои пожитки очень быстро, но в моей комнате, которая, к счастью, хотя бы оказалась в тени, кондиционера не имелось, так что там было не намного прохладнее, чем на улице. Обстановка меня удивила: я навоображал себе мягкий ковер, стены, обшитые деревянными панелями, мебель в викторианском стиле. А по факту за исключением единственного предмета роскоши — частного санузла — это была просто коробка. Стены из шлакоблока, покрытые многочисленными слоями белой краски, бело-зеленый линолеум в клетку, — в общем, больше похоже на больничную палату, а не на общагу моей мечты. Прямо у окна стояла двухъярусная кровать из необработанного дерева с виниловыми матрасами. Столы, комоды и книжные полки крепились к стенам, чтобы мы не могли расставить все по собственному вкусу. И кондиционера не было.
Я сел на нижний ярус кровати, а мама открыла чемодан, вытащила из него стопку биографий, с которыми папа согласился расстаться, и поставила их на полку.
— Мам, я сам могу разобрать вещи, — сказал я. Папа не садился. Он был готов ехать домой.
— Дай я хотя бы постель тебе застелю, — предложила она.
— Да не нужно. Я справлюсь. Не беспокойся. — Такие вещи нельзя оттягивать целую вечность. В какой-то момент пластырь просто необходимо отодрать — больно, но потом всё, и становится лучше.
— Господи, мы же будем так скучать, — сказала вдруг мама, шагая через чемоданы в сторону кровати как по минному полю. Я встал и обнял ее. Папа тоже подошел к нам, и мы сбились в кучку, как птички. Было чрезвычайно жарко, мы все вспотели, так что обниматься слишком долго не могли. Я понимал, что должен заплакать, но я прожил с родителями шестнадцать лет, и первое расставание получилось запоздалым.
— Не волнуйтесь. — Я улыбнулся. — Я враз насобачусь г’варить какмесный.
Маму я рассмешил.
— Только глупостей не делай, — сказал папа.
— Окей.
— Наркотики не пробуй. Не пей. Не кури. — Он-то в Калвер-Крике уже отучился и на себе опробовал такие забавы, о которых я только слышал: ходил на тайные вечеринки, нагишом носился по сенокосу (и вечно сокрушался по поводу того, что в те времена в пансионе были одни пацаны), плюс наркотики, бухло, курево. Курить он потом долго не мог бросить, но теперь его лихие времена остались далеко позади.
— Я тебя люблю, — выпалили они одновременно. Не сказать этого было нельзя, но мне стало жутко неловко — все равно, что смотреть, как дедушка целует бабушку.
— И я вас люблю. Я буду звонить каждое воскресенье. — Телефонов у нас в комнатах не было, но по просьбе родителей меня поселили неподалеку от одного из пяти платных автоматов, установленных в моей новой школе.
Они снова обняли меня — сначала мама, потом папа — и на этом все закончилось. Я выглянул в окно и проводил взглядом джип, уехавший с кампуса по петляющей дороге. Мне, наверное, следовало бы испытывать какую-нибудь сопливую сентиментальную грусть. Но я больше думал о том, что сделать, чтобы не было так жарко, взял стул, стоявший возле письменного стола, и сел в теньке возле двери под карнизом крыши в надежде, что подует ветерок, но так я его и не дождался. На улице воздух был так же неподвижен и тяжел, как и в комнате. Я принялся осматривать свое новое пристанище: шесть одноэтажных строений, по шестнадцать спален в каждом, стояли шестиугольником вокруг большой поляны. Словно старый мотель гигантского размера. Передо мной ходили мальчишки и девчонки: они обнимались, улыбались друг другу, просто шли куда-то вместе. Я немного надеялся, что кто-нибудь подойдет и заговорит со мной. Я даже представил себе этот наш разговор:
— Привет, ты тут только первый год будешь учиться?
— Да, ага. Я из Флориды.
— Круто. Значит, к жаре тебе не привыкать.
— Я же не из Аида, — пошутил бы я. Я сумею произвести хорошее впечатление. Он прикольный. Этот Майлз отвязный чувак.
Но этого, разумеется, не произошло. Жизнь никогда не соответствовала моим фантазиям.
Мне стало скучно, и я вернулся в комнату, снял рубашку, лег на раскаленный виниловый матрас на нижней полке и закрыл глаза. Перерождение в религиозном смысле, с крещением и слезами очищения, — не для меня, а вот переродиться и стать человеком без прошлого — лучше и быть не может. Я стал вспоминать людей, о которых я читал, и которые побывали в подобных пансионах: Джона Ф. Кеннеди, Джеймса Джойса, Хамфри Богарта, а также их приключения — Кеннеди, например, был большим приколистом. Потом я мысленно вернулся к великому «Возможно» и к тому, что могло меня ожидать в этой школе, к людям, с которыми я мог познакомиться; задумался и о том, каким может оказаться мой сосед (за несколько недель до этого мне пришло письмо, в котором говорилось, что его зовут Чипом Мартином, но больше я ничего не знал). Кем бы этот Чип Мартин ни оказался, я молился Богу, что он притащит с собой кучу вентиляторов максимальной мощности — я-то ни одного не взял, а вокруг меня на матрасе уже образовалась лужица пота, от чего меня охватило такое омерзение, что пришлось бросить свои размышления и оторвать от кровати задницу, найти полотенце и вытереть пот. А потом я подумал: «Сначала надо вещи разобрать, а потом уж все приключения».
Приклеив на стену скотчем карту мира и убрав почти всю одежду в комод, я заметил, что от такого горячего и влажного воздуха вспотели даже стены, и решил, что это определенно не время для физического труда. Пришла пора принять восхитительный ледяной душ.
В маленькой ванной комнате за дверью висело огромное зеркало в полный рост, так что избежать лицезрения собственной наготы, когда я наклонился, чтобы открыть кран, мне не удалось. Меня всегда удивляла моя худоба: плечи диаметром не сильно отличались от запястий, в области грудной клетки не было ни жира, ни мускулатуры. В общем, от этой своей неприязни я принялся думать, нельзя ли сделать что-нибудь с зеркалом. Отодвинув белую, как простыня, занавеску я прыгнул в душевую кабинку.
К сожалению, она оказалась спроектирована для человека ростом примерно один метр одиннадцать сантиметров, так что струя холодной воды ударила меня под ребра — целых несколько капель. Чтобы умыть залитое потом лицо, мне пришлось расставить ноги и присесть пониже. Уж Джонну Кеннеди (в котором был метр восемьдесят три сантиметра, точно как и во мне) наверняка так в своем пансионе присаживаться не приходилось. Нет, у меня тут совсем другой мир. И пока водичка из душа тихонько капала на мое потное тело, я думал о том, найду ли я здесь то самое великое «Возможно», или же я глобально просчитался.
Когда, помывшись, я обернул бедра полотенцем и открыл дверь, я увидел невысокого мускулистого пацана с копной каштановых волос. Он затаскивал в мою комнату огромный туристический рюкзак защитного цвета. В нем было полтора метра без кепки, но сложением он отличался завидным, как Адонис в миниатюре. Вместе с ним в комнате появился несвежий запах курева. «Отлично», — подумал я. — «С соседом приходится знакомиться нагишом». Он втащил рюкзак, закрыл дверь и подошел ко мне.
— Я Чип Мартин, — грудным голосом, как у радио-диджея, объявил он. И прежде, чем я успел ответить, добавил, — я пожал бы тебе руку, но тебе, наверное, лучше покрепче держать полотенце, пока ты чего-нибудь не наденешь.
Я рассмеялся и кивнул (Круто, да? Кивнуть в такой ситуации?) и сказал:
— А я Майлз Холтер. Рад встрече.
— Майлс? Как «много миль еще пройти»? — спросил он.
— А?
— Это строчка из стихотворения Роберта Фроста. Ты его не читал, что ли?
Я отрицательно покачал головой.
— Считай, что тебе повезло. — И он улыбнулся.
Я схватил чистые трусы, голубые футбольные шорты Адидас и белую майку, пробормотал, что буду через секунду, и снова скрылся в ванной. Произвел впечатление так произвел.
— А родоки твои где? — крикнул я из ванной.
— Родоки? Отец сейчас в Калифорнии. Сидит, наверное, штаны протирает в своем кресле от «Лэ-Зи-Бой». Или за рулем своего грузовика. Но, в любом случае, он бухает. А мама сейчас, наверное, как раз с кампуса выезжает.
— А, — выдавил я, уже одетый, не зная, как реагировать на столь интимные подробности. Наверное, и спрашивать не следовало, если мне не хотелось такого знать.
Чип забросил пару простыней на верхнюю полку.
— Я предпочитаю сверху. Надеюсь, ты не в обиде.
— Не. Мне без разницы.
— Вижу, ты тут красоту навел, — заметил он, показывая на карту мира. — Мне нравится.
И начал вдруг перечислять названия стран. Монотонно, как будто уже не первый раз это делает.
Албания.
Алжир.
Американские Самоа.
Андорра.
Афганистан.
И так далее. Только покончив со странами на «а», он поднял взгляд и увидел мое замешательство.
— Могу и продолжить, но тебе, наверное, будет скучно. Я за лето выучил. Бог мой, ты и представить себе не можешь, какая у нас там в «Новой Надежде» скучища. Все равно, что сидеть и наблюдать за тем, как растет соя. Ты сам, кстати, откуда?
— Из Флориды, — ответил я.
— Не бывал там.
— Вообще впечатляет. Твои познания в области географии, — сказал я.
— Ага, у каждого человека есть какой-то талант. Я все легко запоминаю. А ты?..
— М-м-м, а я знаю последние слова многих известных людей. У кого-то слабость к конфетам, у меня — к предсмертным заявлениям.
— Например?
— Ну, вот Генрик Ибсен хорошо сказал. Драматург. — Об Ибсене я много знал, но не прочел ни единой его пьесы. Пьесы я читать не любил. Я любил биографии.
— Да, мне известно, кто это, — сказал Чип.
— Ага, ну вот, он какое-то время болел, и как-то сиделка ему говорит: «Похоже, вам сегодня лучше», а Ибсен посмотрел на нее, сказал: «Наоборот» и умер.
Чип рассмеялся.
— Жуть. Но мне нравится.
Мой сосед рассказал мне, что он уже третий год в Калвер-Крике, с девятого класса, а поскольку мы с ним одногодки, теперь будем учиться вместе. Признался, что получает стипендию. Спонсируется по полной программе. Он услышал, что это лучший пансион в Алабаме, подал документы и написал в сопроводительном письме, что ему очень хотелось бы, чтобы его взяли в школу, где можно будет читать толстые книги. Проблема в том, писал он, что дома отец постоянно бьет его книгами по голове, поэтому он в целях безопасности приносит домой только тоненькие книжки в мягкой обложке. На втором году его обучения родители Чипа развелись. Ему «Крик», как он его называл, нравился. Но «тут надо быть осторожным, и с другими учениками, и с учителями. А я реально терпеть не могу осторожность». Он ухмыльнулся. Я тоже ненавидел осторожничать — по крайней мере, мне хотелось это ненавидеть.
Рассказывал он мне все это, потроша свой рюкзак и без разбору бросая в комод одежду. Чип не считал нужным раскладывать носки в один ящик, майки в другой. Он верил в равноправие ящиков и пихал в них все, что лезло. Моя мама умерла бы, увидев такое.
Закончив «разбирать» вещи, Чип с силой ударил меня по плечу, сказав: «Надеюсь, ты сильнее, чем кажешься», и вышел из комнаты, даже не закрыв за собой дверь. Через несколько секунд снова показалась его голова, и он увидел, что я не сдвинулся с места.
— Ну же, Майлз-Много-Миль Холтер. У нас еще дел дофига.
Мы направились в комнату, где стоял телек — по словам Чипа больше нигде во всем кампусе кабельного не было. Летом эта комната служила складом. Ее почти до потолка забили диванами, холодильниками, свернутыми коврами, и сейчас она кишела школьниками, которые пытались отыскать и вытащить оттуда свои вещи. Чип с кем-то здоровался, но меня никому не представлял. Он ходил по диванному лабиринту, а я встал у двери, стараясь изо всех сил не мешать ребятам, которые парами вытаскивали мебель через узкий проход.
Чип нашел свои вещи за десять минут, и еще час мы таскали их в комнату — от комнаты с телеком до сорок третьей мы сходили четыре раза. К тому времени, как мы закончили, мне захотелось забраться в мини-холодильник Чипа и проспать там тысячу лет, но у него самого, похоже, был иммунитет и к усталости, и к разрыву сердца. Я сел на его диван.
— Я нашел его пару лет назад у себя в районе на обочине, — сообщил он по поводу дивана, укладывая мою «Сони-плейстейшн» на свои кроссовки. — Кожа в паре мест потрескалась, но, блин, диван-то офигенно хорош.
На диване не просто имелась пара трещин — на тридцать процентов это был нежно-голубой кожзам, а остальные семьдесят истерлись в губку, но мне он тоже все равно казался офигенным.
— Ладно, — сказал он. — Почти все. — Чип подошел к своему столу и вытащил из ящика серебристую клейкую ленту. — Понадобится твой чемодан.
Я встал, вытащил его из-под кровати, а Чип положил его между диваном и приставкой и начал отрывать тонкие полоски клейкой ленты. Он наклеил на чемодан надпись: «ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК».
— Вот. — Он сел и положил ноги на, м-м-м, журнальный столик. — Теперь совсем все.
Я сел рядом, Чип посмотрел на меня и вдруг сказал:
— Слушай. Я тебя вводить в общество Калвер-Крика не буду.
— Э-э, ладно, — выдавил я, хотя слова и застревали в горле. Я же тащил его диван под раскаленным палящим солнцем, а он теперь заявляет, что я ему не нравлюсь?
— По большому счету, тут две группировки, — объяснил он, и уровень серьезности в его голосе повысился. — Есть обычные пансионеры вроде меня, и есть выходники; они харчуются здесь, но все они — дети богачей из Бирмингема, на выходные уезжают в свои особняки и лежат там под кондиционерами. Это крутые ребята. Мне они не нравятся, так что если ты прибыл сюда с мыслью, что если ты был супер-пупер хреном в бесплатной школе, то будешь супер-пупер хреном и тут, то пусть лучше тебя со мной не видят. Ты же ходил в бесплатную школу?
— Э-э, — ответил я. И рассеянно принялся расковыривать диван, зарываясь пальцами в белую мочалку.
— В бесплатную, потому что если бы ты учился в частной, у тебя бы шорты так по-уродски не сползали. — Он рассмеялся.
Я не натягивал резинку выше бедер, потому что думал, что это круто. Наконец я ответил:
— Да, я ходил в бесплатную. И я не был супер-пупер хреном. Просто обычным хреном. С горы.
— Ха! Отлично. И Чипом меня не называй. Зови меня Полковником.
Я едва не заржал.
— Полковником?
— Ага. Полковником. А тебя мы будем звать… хммм. Толстячком.
— Чего?
— Толстячком, — повторил Полковник. — Потому что ты тощий. Это называется ирония, Толстячок. Слыхал про такое? Ну, пойдем, сигарет добудем и как следует начнем новый учебный год.