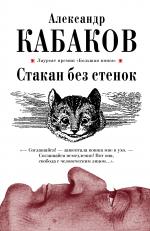- Елена Катишонок. Свет в окне. — М.: Время, 2014. — 672 с.
Тот, кто когда-то прочитал первый роман Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой» и совершил вместе с ней путешествие к синему-синему морю, наверное, навсегда запомнит грустную и необыкновенно трогательную историю жизни Григория и Матрены. Эти герои стали настолько близкими и родными автору и читателям, что просто прервать повествование о них было невозможно. Так появился второй роман, «Против часовой стрелки», рассказывающий о детях и внуках семьи Ивановых. Заканчивался он, как и первый, на острой, пронзительной ноте. Едва ли кто-то, закрыв книгу, не боролся с подступающим к горлу комом. И, конечно, все ждали продолжения.
«Свет в окне», новый роман Елены Катишонок, может удивить ее постоянных читателей. Он рассказывает не только о потомках Григория и Матрены, но и о других персонажах, встречавшихся в предыдущих книгах писательницы. Появляются и совершенно новые лица, которым уделяется внимания не меньше, чем уже знакомым. Художественный мир расширяется, охватывая все больше и больше судеб. Рассказ об одном человеке сменяется рассказом о другом. В результате получается книга, в которой нет главного героя. Вместо него — множество голосов, постепенно сливающихся в одно общее произведение, напоминающее музыкальную пьесу (здесь даже есть своя интерлюдия). Каждый из них повторяет одну и ту же тему — о быстротечности времени и о неизбежном человеческом одиночестве, которое всем нам суждено испытать.
Обитатели мира Елены Катишонок — простые люди, каких миллионы в нашей стране. Они живут в своем Городе, работают, женятся и разводятся, делят квартиры, ссорятся с родственниками, хоронят родителей. Среди них не встречается «исключительных» личностей. Но на долю каждого выпадает столько боли и обиды, что необходимо быть по-настоящему мужественным человеком, чтобы преодолеть их. Автору удается заставить читателя одинаково сопереживать и Лизе, увезенной во время Второй мировой войны в Германию в качестве остарбайтера, и ученому со смешной фамилией Присуха, лишенному самого важного в его жизни — возможности заниматься наукой, и Ларисе, которая так и не смогла смириться со смертью мужа, и Карлу, не разгадавшему тайну отца. Но, пожалуй, самое сильное впечатление остается от рассказа о детстве Ольки, правнучки Матрены и Григория. Девочка, растущая среди скандалов и пьяных дебошей отчима, прячется в книги, мечты и воспоминания. Именно в этих фрагментах текста появляется тот лиризм, который был присущ предыдущим книгам писательницы и которого так не хватает в новом романе:
Давным-давно Максимыч обещал свозить ее на море — поискать янтарики, но прагматичная Лелька надеялась, что и золотую рыбку можно будет покликать. Она ждала, когда Максимыч забудет про свою язву, чтобы они взяли ведерко и поехали. „Надо, чтоб она про меня забыла, Лельця“, — говорил прадед. Обещал свозить, но не успел: умер. Янтарики Лелька искала с бабушкой — и находила изредка, даже если это был не янтарик, а просто отшлифованный морем осколок пивной бутылки. Золотую рыбку кликать не пыталась, душой понимая, что без „старче“ — Максимыча дело это провальное.
Вместе со старшим поколением уходит простота, ясность, уютность художественного мира. Наступает эпоха, в которую вместо семьи появляется ячейка общества, а вместо дома — жилплощадь. Человечность, любовь, понимание отступают перед желанием жить в отдельной квартире. На смену старым приходят новые герои, молодые и амбициозные. У них свое мировоззрение и свой язык. Смириться с их появлением в уже полюбившейся истории трудно. Кажется, что именно они мешают почувствовать тепло, которое согревало читателей в предыдущих книгах. Елена Катишонок мастерски описывает случившиеся перемены, играя с разными стилями, позволяя высказаться новому поколению:
От „CINZANO“ рот стянуло терпкой горечью. Настя перевела дыхание и торопливо глотнула кофе.
— Потихоньку надо, а то быстро забалдеешь, — сочувственно подсказала Зинка и тут же, без перехода, объяснила подруге, как ей повезло. Растолковала про восемь квадратных метров на человека, про отдельную жилплощадь для каждой семьи <…>.
— Так что держи хвост пистолетом и скажи горисполкому спасибо, а то тебе бы всю жизнь со свекрухой жить.Каждое слово в романе не случайно, оно определяет точку зрения на мир, показывает сдвиг временных пластов. Повествование пронизано тоской по прошлому, в котором осталось все искреннее, настоящее.
В детском саду Олька выучила гладкое и веское, как булыжник, слово „коллектив“. С коллективом надо было держать ухо востро. Только в море, в серо-сизой воде коллектив превращался в хохочущих от счастья детишек.
Что ждет героев в будущем, неизвестно. «Свет в окне» заканчивается многоточием. Персонажи продолжают жить дальше, а читателю приходится попрощаться с ними до следующей встречи. Вагон трамвая, так часто появляющийся на страницах книги, еще не достиг конечной остановки. Он несется вперед, хочется верить — в мир, где будет не так одиноко и холодно. Иначе лучше сойти на ближайшей станции и вернуться в прошлое.
Метка: Современная литература
Мо Янь. Устал рождаться и умирать
- Мо Янь. Устал рождаться и умирать / Пер. с кит., примеч. И. Егорова. — СПб.: Амфора, 2014. — 703 с.
В книге «Устал рождаться и умирать» выдающийся китайский романист современности Мо Янь продолжает летописание истории Китая XX века, уникальным
образом сочетая грубый натурализм и высокую трагичность, хлесткую политическую сатиру и волшебный вымысел редкой художественной красоты.
Во время земельной реформы 1950 года расстреляли невинного человека — с работящими руками, сильной волей, добрым сердцем и незапятнанным прошлым. Гордую душу, вознегодовавшую на своих убийц не примут в преисподней —
и герой вновь и вновь возвратится в мир, в разных обличиях
будет ненавидеть и любить, драться за свою
правду, любоваться в лунном свете цветением абрикоса…КНИГА ПЕРВАЯ
ОСЛИНЫЕ МУЧЕНИЯ ГЛАВА 1
Пытки и неприятие вины перед владыкой ада.
Надувательство с перерождением
в осла с белыми копытамиИстория моя начинается с первого дня первого месяца тысяча девятьсот пятидесятого года. Два года до этого
длились мои муки в загробном царстве, да такие, что
представить трудно. Всякий раз, когда меня притаскивали на судилище, я жаловался, что со мной поступили несправедливо. Исполненные скорби, мои слова достигали
всех уголков тронного зала владыки ада и раскатывались
многократным эхом. Несмотря на пытки, я ни в чем не
раскаялся и прослыл несгибаемым. Знаю, что немало
служителей правителя преисподней втайне восхищались
мной. Знаю и то, что надоел старине Ло-вану1
до чертиков. И вот, чтобы заставить признать вину и сломить,
меня подвергли самой страшной пытке: швырнули в чан
с кипящим маслом, где я барахтался около часа, шкворча, как жареная курица, и испытывая невыразимые мучения. Затем один из служителей поддел меня на вилы,
высоко поднял и понес к ступеням тронного зала. По бокам от служителя пронзительно верещали, словно целая
стая летучих мышей-кровососов, еще двое демонов. Стекающие с моего тела капли масла с желтоватым дымком
падали на ступени… Демон осторожно опустил меня на
зеленоватые плитки перед троном и склонился в глубоком поклоне:— Поджарили, о владыка.
Зажаренный до хруста, я мог рассыпаться на кусочки от легкого толчка. И тут откуда-то из-под высоких
сводов, из ослепительного света свечей раздался чуть
насмешливый голос владыки Ло-вана:— Все бесчинствуешь, Симэнь Нао?2
По правде сказать, в тот миг я заколебался. Лежа в лужице масла, стекавшего с еще потрескивавшего тела, я
понимал, что сил выносить мучения почти нет и, если
продолжать упорствовать, неизвестно, каким еще жестоким пыткам могут подвергнуть меня эти продажные служители. Но если покориться, значит, все муки, которые
я вытерпел, напрасны? Я с усилием поднял голову — казалось, в любой момент она может отломиться от шеи —
и посмотрел на свет свечей, туда, где восседал Ло-ван,
а рядом с ним его паньгуани3
— все с хитрыми улыбочками на лицах. Тут меня обуял гнев. Была не была, решил
я, пусть сотрут меня в порошок каменными жерновами,
пусть истолкут в мясную подливу в железной ступке…— Нет на мне вины! — возопил я, разбрызгивая вокруг капли вонючего масла, а в голове крутилось: «Тридцать лет ты прожил в мире людей, Симэнь Нао, любил
трудиться, был рачительным хозяином, старался для общего блага, чинил мосты, устраивал дороги, добрых дел
совершил немало. Жертвовал на обновление образов
святых в каждом храме дунбэйского4
Гаоми 5, и все бедняки в округе вкусили твоей благотворительной еды. На
каждом зернышке в твоем амбаре капли твоего пота, на
каждом медяке в твоем сундуке — твоя кровь. Твое богатство добыто трудом, ты стал хозяином благодаря своему
уму. Ты был уверен в своих силах и за всю жизнь не совершил ничего постыдного. Но — тут мой внутренний
голос сорвался на пронзительный крик — такого доброго
и порядочного человека, такого честного и прямодушного, такого замечательного обратали пятилепестковым
узлом 6, вытолкали на мост и расстреляли! Стреляли всего с половины чи 7, из допотопного ружья, начиненного порохом на полтыквы-горлянки8
и дробью на полчашки.
Прогремел выстрел — и половина головы превратилась
в кровавое месиво, а сероватые голыши на мосту и под
ним окрасились кровью…»— Нет моей вины, оговор это все! Дозвольте вернуться, чтобы спросить этих людей в лицо: в чем я провинился перед ними?
Когда я выпаливал все это, как из пулемета, лоснящееся лицо Ло-вана беспрестанно менялось. Паньгуани,
стоявшие с обеих сторон, отводили от него глаза, но и со
мной боялись встретиться взглядом. Я понимал: им абсолютно ясно, что я невиновен; они с самого начала прекрасно знали: перед ними душа безвинно погибшего, —
но по неведомым мне причинам делали вид, будто ничего не понимают. Я продолжал громко взывать, и мои
слова повторялись бесконечно, словно перерождения
в колесе бытия. Ло-ван вполголоса посовещался с паньгуанями и ударил своей колотушкой, как судья, оглашающий приговор:— Довольно, Симэнь Нао, мы поняли, что на тебя
возвели напраслину. В мире столько людей заслуживает
смерти, но вот не умирают!.. А те, кому бы жить да жить,
уходят в мир иной. Но нам такого положения дел изменить не дано. И все же, в виде исключения и милосердию нашему, отпускаем тебя в мир живых.Это неожиданное радостное известие обрушилось
на меня, будто тяжеленный мельничный жернов, и я
чуть не рассыпался на мелкие кусочки. А владыка ада
швырнул наземь алый треугольник линпай9
и нетерпеливо распорядился:— А ну, Бычья Голова и Лошадиная Морда, верните-ка его обратно!
И, взмахнув рукавами, покинул зал. Толпа паньгуаней потянулась за ним, и от потоков воздуха, поднятых
широкими рукавами, заколебалось пламя свечей. С разных концов зала ко мне приблизились два адских служителя в черных одеяниях, перехваченных широкими
оранжево-красными поясами. Один нагнулся, поднял
линпай и заткнул себе за пояс, другой схватил меня за
руку, чтобы поднять на ноги. Раздался хруст, мне показалось, что кости вот-вот рассыплются, и я завопил что
было мочи. Демон, засунувший за пояс линпай, дернул
напарника за рукав и тоном многоопытного старика, поучающего зеленого юнца, сказал:— У тебя, мать-перемать, водянка в мозгах, что ли?
Или черный гриф глаза выклевал? Не видишь, что он зажарен до хруста, как тяньцзиньский хворост «шибацзе»?10Молодой демон растерянно закатил глаза, но старший прикрикнул:
— Ну что застыл? Ослиную кровь неси!
Молодой хлопнул себя по лбу, лицо его просветлело,
словно прозрел. Он бросился из зала и очень скоро вернулся с заляпанным кровью ведром, похоже, тяжелым,
потому что тащил он его, еле переставляя ноги и изогнувшись в поясе, — казалось, вот-вот свалится.Ведро тяжело хлопнулось рядом, и меня тряхнуло.
Окатило жаркой волной тошнотворной вони, которая,
казалось, еще хранит тепло ослиного тела… В сознании
мелькнула туша забитого осла и тут же исчезла. Демон
с линпаем достал кисть из свиной щетины, окунул в густую темно-красную кровь и мазнул меня по голове. От
странного ощущения — боль, онемение и покалывание,
будто тысячами иголок, — я невольно взвыл. Послышалось негромкое потрескивание, и я ощутил, как кровь
смачивает мою прожаренную плоть, будто хлынувший
на иссохшую землю долгожданный дождь. Меня охватило смятение и целый сонм переживаний. Демон орудовал кистью быстро, как искусный маляр, и вскоре я был
в ослиной крови с головы до ног. Под конец он поднял
ведро и вылил на меня остатки. Жизнь снова закипела
во мне, вернулись силы и мужество. На ноги я встал уже
без помощи служителей.Хоть этих демонов и звали Бычья Голова и Лошадиная Морда, они ничуть не походили на те фигуры с бычьими головами и лошадиными мордами, которые мы
привыкли видеть на картинках, изображающих преисподнюю. От людей их отличала лишь отливающая ослепительной голубизной кожа, словно обработанная ка-
кой-то волшебной краской. В мире людей не бывает ни
ткани такой благородной голубизны, ни подобной листвы деревьев. Хотя цветы есть, маленькие такие, растут на
болотах у нас в Гаоми: утром раскрываются, а к вечеру
лепестки вянут и осыпаются…Долговязые демоны подхватили меня под руки, и мы
зашагали по мрачному тоннелю, которому, казалось, не
будет конца. С обеих сторон на стенах через каждые несколько чжанов11
висели бра причудливой формы, похожие на кораллы, с блюдечками светильников, заправленных соевым маслом. Запах горелого масла становился то
насыщеннее, то слабее, голова от него то затуманивалась,
то прояснялась. В тусклом свете виднелись полчища огромных летучих мышей, висевших под сводами тоннеля.
Их глаза поблескивали в полумраке, а на голову мне то
и дело падали зернышки вонючего помета.Дойдя до конца тоннеля, мы вышли на высокий помост. Седовласая старуха протянула к грязному железному котлу белую и пухлую ручку с гладкой кожей совсем
не по возрасту, зачерпнула черной деревянной ложкой
вонючей жидкости, тоже черного цвета, и налила в большую алую глазурованную чашку. Принявший чашку демон поднес ее к моему лицу и недобро усмехнулся:— Пей. Выпьешь, и оставят тебя все горести, тревоги и озлобление твое.
Но я отшвырнул чашку и заявил:
— Ну уж нет, пусть все горести, тревоги и озлобление остаются в моем сердце, иначе возвращение в мир людей теряет всякий смысл.
И с гордым видом спустился с помоста. Доски, из которых он был сколочен, подрагивали под моей поступью. Демоны, выкрикивая мое имя, бросились за мной.
В следующий миг мы уже шагали по земле дунбэйского Гаоми. Тут мне знакомы каждая горка и речушка,
каждое деревце и каждая травинка. Новостью оказались
вбитые в землю белые деревянные колышки, на которых черной тушью были выведены имена — одни знакомые, другие нет. Таких колышков было полно и на моих
плодородных полях. Землю раздали безземельным беднякам, и моя, конечно, не стала исключением. В династийных историях полно таких примеров, но об этом
перераспределении земли я узнал только сейчас. Земельную реформу в мире людей провели, пока я твердил о своей невиновности в преисподней. Ну поделили
все большие земельные угодья и поделили, меня-то зачем нужно было расстреливать!Демоны, похоже, опасались, что я сбегу, и конвоировали меня, крепко ухватив ледяными руками, а вернее,
когтями за предплечья. Ярко сияло солнце, воздух был
чист и свеж, в небе щебетали птицы, по земле прыгали
кролики, глаза резало от белизны снега, оставшегося по
краям канав и берегам речушек. Я глянул на своих конвоиров, и мне вдруг пришло в голову, что они похожи на
актеров в гриме синего цвета.Дорога шла по берегу реки. Мы миновали несколько
деревенек, навстречу попалось немало знакомых, но
всякий раз, когда я раскрывал рот, чтобы поздороваться,
демоны привычным движением сжимали мне горло
так, что я и пикнуть не мог. Крайне недовольный этим,
я лягал их, но они не издавали ни звука, будто ноги у них
ничего не чувствовали. Пытался боднуть головой, тоже
напрасно: лица как резиновые. Руки с моего горла они
снимали, лишь когда вокруг не было ни души.Подняв облако пыли, мимо промчалась коляска на
резиновых шинах. Пахнуло лошадиным потом, который
показался знакомым. Возница — его звали Ма Вэньдоу, — поигрывая плетью, восседал на облучке в куртке из белой овчины. За воротник он заткнул связанные
вместе длинную трубку и кисет, который болтался, как
вывеска на винной лавке. Коляска моя, лошадь тоже, но
возница моим батраком не был. Я хотел броситься вслед,
чтобы выяснить, в чем дело, но руки демонов опутали
меня, как лианы. Этот Ма Вэньдоу наверняка заметил
меня, наверняка слышал, как я кряхтел, изо всех сил пытаясь вырваться, не говоря уж об исходившем от меня
странном запахе — такого не встретишь в мире людей.
Но он пронесся мимо во весь опор, будто спасаясь от
беды. Потом встретилась группа людей на ходулях, они
представляли историю о Тансэне12
и его путешествии за
буддийскими сутрами. Все, в том числе Сунь Укун с Чжу
Бацзе — мои односельчане. По лозунгам на плакатах,
которые они несли, и по разговорам я понял, что сегодня первый день тысяча девятьсот пятидесятого года.Мы почти достигли маленького каменного мостика
на краю деревни, и тут меня вдруг охватила безотчетная
тревога. Еще немного — и вот они, залитые моей кровью, поменявшие цвет голыши под мостом. От налипших на них обрывков ткани и грязных комков волос исходил густой смрад. Под щербатым пролетом моста собралась троица одичавших собак. Две разлеглись, одна
стоит. Две черные, одна рыжая. Шерсть блестит, языки
красные, зубы белые, глаза горят…Об этом мостике упоминает Мо Янь в своих «Записках о желчном пузыре». Он пишет об этих собаках — они
наелись мертвечины и взбесились. Пишет также о почтительном сыне, который вырезал желчный пузырь
у только что расстрелянного и отнес домой — вылечить
глаза матери. О том, что используют медвежий желчный пузырь, я слышал не раз, но чтобы человеческий…
Еще одна выдумка этого сумасброда. Пишет в своих рассказах чушь всякую, верить никак нельзя.Пока мы шагали от мостика до ворот моего дома, я
снова вспомнил, как меня вели на расстрел: руки связаны за спиной, за воротник заткнута табличка приговоренного к смерти. Шел двадцать третий день последнего
лунного месяца, до Нового года оставалось всего семь
дней. Дул пронизывающий холодный ветер, все небо застилали багровые тучи. За шиворот горстями сыпалась
ледяная крупа. Чуть поодаль с громкими рыданиями
следовала моя жена, урожденная Бай. Наложниц Инчунь и Цюсян не видать. Инчунь ждала ребенка и вскорости должна была разрешиться от бремени, ей простительно. А вот то, что не пришла попрощаться Цюсян, не
беременная и молодая, сильно расстроило. Уже на мосту
я повернулся к находившемуся рядом командиру ополченцев Хуан Туну и его бойцам: «Мы ведь односельчане,
почтенные, вражды между нами не было, ни прежде, ни
теперь. Скажите, если даже обидел чем, стоит ли так поступать?» Хуан Тун зыркнул на меня и тут же отвел
взгляд. Золотистые зрачки посверкивают, как звезды на
небе. Эх, Хуан Тун, Хуан Тун, подходящее же имечко выбрали тебе родители!13
«Поменьше бы трепал языком! —
бросил он. — Политика есть политика!» — «Если вы меня
убить собрались, почтенные, то хоть объясните, какой такой закон я нарушил?» — не сдавался я. «Вот у владыки
преисподней всё и выяснишь», — сказал он и приставил
ружье почти вплотную к моей голове. Голова будто улетела, перед глазами рассыпались огненные искры. Слов-
но издалека донесся грохот, и повис запах пороха…Ворота моего дома были приоткрыты, и я увидел во
дворе множество людей. Неужели они знали о моем
возвращении?— Спасибо, братцы, что проводили! — обратился я
к спутникам.На их лицах играли хитрые улыбочки, и не успел я
поразмыслить, что эти улыбочки означают, как меня
схватили за руки и швырнули вперед. В глазах потемнело, казалось, я тону. И тут прозвенел радостный человеческий возглас:— Родился!
Я разлепил глаза. Весь в какой-то липкой жидкости, лежу между ног ослицы. Силы небесные! Кто бы
мог подумать, что я, Симэнь Нао, воспитанный и образованный, достойный деревенский шэньши 14, стану
осленком с белыми копытами и нежными губами!
1 Яньло-ван (Ло-ван) — владыка ада в китайском фольклоре.
2 «Нао» — букв. «требовать со скандалом», «бесчинствовать».
3 Паньгуань — чиновник при владыке подземного царства, ведущий учёт жизни и смерти.
4 Дунбэй — собирательное название северо-востока Китая.
5 Гаоми — уезд в пров. Шаньдун, родина Мо Яня, место действия
многих его произведений.6 Пятилепестковый узел — узел, связывающий руки и шею.
7 Чи — мера длины, ок. 30 см.
8 Высушенные тыквы-горлянки использовались как пороховницы.
9 Линпай — даосская дощечка с текстами заклинаний.
10 «Шибацзé» — фирменный продукт портового города Тяньцзиня. Долго хранится благодаря хорошей прожарке и отсутствию воды.
11 Чжан — мера длины, ок. 3,2 м.
12 Тансэн — одно из имен монаха Сюаньцзана, героя классического
романа «Путешествие на Запад». Сунь Укун и Чжу Бацзе — его спутники.13 Фамилия и имя Хуан Туна дословно означают «желтый зрачок».
14 Шэньши — одно из сословий императорского Китая, семьи
сдавших экзамены и получивших государственные должности; зд.
«состоятельный человек».
Майкл Каннингем. Снежная королева
- Майкл Каннингем. Снежная королева / Пер. с англ. Д. Карельского. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 352 с.
Майкл Каннингем, автор знаменитых «Часов» и «Дома на краю света», вновь подтвердил свою славу одного из лучших американских прозаиков. Тонко чувствующий современность, Каннингем написал роман «Снежная королева». Его герои братья Баррет и Тайлер, жители богемного Нью-Йорка, одинокие и ранимые, не готовые мириться с утратами, пребывающие в вечном поиске смысла жизни и своего призвания. Они так и остались детьми — словно персонажи из сказки Андерсена, они пытаются спасти себя и близких, никого не предать и не замерзнуть.
Ноябрь 2004
В спальне Тайлера и Бет идет снег. Снежинки — плотные студеные крупинки, а совсем не хлопья, в неверном сумраке раннего утра скорее серые, а не белые, — кружась, падают на пол и на изножье кровати.
Тайлер просыпается, сон сразу же почти бесследно улетучивается — остается только ощущение тревожной, чуть нервной радости. Он открывает глаза, и в первый момент рой снежинок в комнате кажется ему продолжением сна, ледяным свидетельством небесной милости. Но потом становится ясно, что снег настоящий и что его надуло в окно, которое они с Бет оставили открытым на ночь.
Бет спит, свернувшись калачиком, у Тайлера на руке. Он бережно высвобождает из-под нее руку и встает закрыть окно. Ступая босиком по тонко заснеженному полу, идет сделать то, что следует сделать. Ему приятно сознавать собственное благоразумие. В Бет Тайлер встретил первого человека в своей жизни еще более непрактичного, чем он сам. Проснись Бет сейчас, она наверняка попросила бы не закрывать окно. Ей нравится, когда их тесная, забитая вещами спальня (стопки книг и сокровища, которые Бет все тащит и тащит в дом: лампа в виде гавайской танцовщицы, которую в принципе еще можно починить; обшарпанный кожаный чемодан; пара хлипких, тонконогих стульев) превращается в игрушку — рождественский снежный шар.
Тайлер с усилием закрывает окно. В этой квартире все какое-то неровное и перекошенное. Если на пол посреди гостиной уронить стеклянный шарик, он укатится прямиком к входной двери. В последний момент, когда Тайлер уже почти опустил оконную раму, в щель с улицы врывается отчаянный снежный заряд — словно бы спешит использовать последний шанс… Шанс на что?.. На то, чтобы оказаться в убийственном для него тепле спальни? Чтобы успеть впитать жар и растаять?С этим последним порывом в глаз Тайлеру залетает соринка или, может быть, не соринка, а микроскопический кусочек льда, совсем крошечный, не больше самого мелкого осколка разбитого зеркала. Тайлер трет глаз, но соринка не выходит, она прочно засела у него в роговице. И вот он стоит и смотрит — одним глазом видно нормально, второй совсем затуманен слезами, — как снежная крупа бьется в стекло. Самое начало седьмого. За окном белым-бело. Слежавшиеся сугробы, которые день за днем росли по периметру парковки и походили раньше на невысокие серые горы, присыпанные тут и там блестками городской копоти, теперь сияют белизной, как на рождественской открытке; хотя нет, чтобы получилась настоящая рождественская открытка, надо особенным образом сфокусировать взгляд, удалить из поля зрения светло-шоколадную цементную стену бывшего склада напротив (на ней до сих пор потусторонней тенью проступает каллиграфически начертанное слово «цемент», как будто это строение, так давно заброшенное людьми, напоминает им о себе, шепча выцветшим голосом свое имя) и тихую, не отошедшую еще ото сна улицу, над которой сигнальным файером моргает и жужжит неоновая буква в вывеске винного магазина. Даже мишурные декорации этого призрачного, малолюдного квартала, где из-под окон у Тайлера уже год никак не уберут остов сгоревшего «бьюика» (ржавый, выпотрошенный, расписанный граффити, он выглядит причудливо-благостно в своей абсолютной ненужности), одеваются в предрассветном сумраке лаконично-суровой красотой, дышат поколебленной, но не убитой надеждой. Да, и в Бушвике так бывает. Валит снег, густой и безукоризненно чистый, — и есть в нем что-то от божественного дара, как если бы компания, поставляющая в кварталы получше тишину и согласие, в кои-то веки ошиблась адресом.
Когда не сам выбираешь место и образ жизни, полезно уметь благодарить судьбу даже за скромные милости.
А Тайлер как раз не выбирал этот мирно обнищавший район складов и парковок, где стены зданий отделаны древним алюминиевым сайдингом, где при строительстве думали только о том, как подешевле, где мелкие предприятия и конторы едва сводят концы с концами, а присмиревшие обитатели (в большинстве своем это доминиканцы, которые приложили немало сил, чтобы попасть сюда, и наверняка питали более смелые надежды, чем те, что сбываются в Бушвике) послушно тащатся на работу или с работы, самой что ни на есть грошовой, и весь их вид говорит о том, что бороться дальше бессмысленно и надо довольствоваться тем, что есть. Здешние улицы уже и не особенно опасны, время от времени кого-нибудь по соседству, конечно, грабят, но как будто нехотя, по инерции. Когда стоишь у окна и смотришь, как снег обметает переполненные мусорные баки (мусоровозы лишь изредка и в самые непредсказуемые моменты вспоминают, что сюда тоже стоит заглянуть) и скользит языками по растресканной мостовой, трудно не думать о том, что ждет этот снег впереди, — о том, как он станет бурой слякотью, а из нее ближе к перекресткам образуются лужи по щиколотку глубиной, где будут плавать окурки и комочки фольги от жвачки.
Надо возвращаться в постель. Еще одна сонная интерлюдия — и кто знает, может статься, что мир, в котором проснется Тайлер, окажется еще чище, будет укрыт поверх праха и тяжких трудов еще более плотным белым покрывалом.
Но ему муторно и тоскливо и не хочется в таком состоянии ложиться. Отойдя сейчас от окна, он уподобится зрителю тонкой психологической пьесы, которая не получает ни трагического, ни счастливого финала, а постепенно сходит на нет, пока со сцены не исчезнет последний актер и публика наконец не поймет, что представление окончено и пора расходиться по домам.
Тайлер обещал себе сократить дозу. Последние пару дней это у него получалось. Но сейчас, именно в эту минуту, возникла ситуация метафизической необходимости. Состояние Бет не ухудшается, но и не улучшается. Никербокер-авеню послушно застыла в нечаянном великолепии, перед тем как снова покрыться привычными грязью и лужами.
Ладно. Сегодня можно сделать себе поблажку. Потом он снова с легкостью возьмет себя в руки. А теперь ему необходимо поддержать себя — и он поддержит.
Тайлер подходит к прикроватной тумбочке, достает из нее пузырек и вдыхает из него по очереди каждой ноздрей.
Два глотка жизни — и Тайлер мигом возвращается из ночного сонного странствия, все вокруг снова обретает ясность и свой смысл. Он снова обитает в мире людей, которые соперничают и сотрудничают, имеют серьезные намерения, горят желанием, ничего не забывают, идут по жизни без страхов и сомнений.
Он снова подходит к окну. Если та принесенная ветром льдинка действительно вознамерилась срастись с его глазом, то ей это удалось — благодаря крошечному увеличительному зеркальцу он все теперь видит гораздо яснее.
Внизу перед ним все та же Никербокер-авеню, и скоро к ней вернется обычная ее городская безликость. Не то чтобы Тайлер на время об этом забыл — нет-нет, просто неминуемо грядущая серость ничего не значит, вроде того как Бет говорит, что морфий не убивает боль, а отодвигает ее в сторону, превращает в некий вставной номер шоу, необязательный, непристойный (А вот, поглядите, мальчик-змея! А вот женщина с бородой!), но оставляющий равнодушным — мы-то знаем, что это обман, дело рук гримера и реквизитора.
Боль самого Тайлера, не такая сильная, как у Бет, отступает, кокаин высушивает нутряную сырость, от которой искрили провода у него в мозгу. Бьющий по ушам фуз брутальная магия мгновенно переплавляет в кристальной чистоты и ясности звук. Тайлер облачается в привычное свое платье, и оно садится на нем как влитое. Зритель-одиночка, в начале двадцать первого века он стоит голышом у окна, грудь его полнится надеждой. В этот миг ему верится, что все в жизни неприятные сюрпризы (ведь он совсем не рассчитывал, что будет к сорока трем годам безвестным музыкантом, живущим в пронизанном эротикой целомудрии с умирающей женщиной и в одной квартире с младшим братом, который мало-помалу превратился из юного волшебника в усталого немолодого фокусника, в десятитысячный раз выпускающего из цилиндра голубей) складно ложатся в некий непостижимый замысел, слишком громадный для того, чтобы его понять; что в осуществлении этого замысла сыграли свою роль все упущенные им возможности и проваленные планы, все женщины, которым самой малости не хватало до идеала, — все то, что в свое время казалось случайным, но на самом деле вело его к этому окну, к нынешней непростой, но интересной жизни, к неотвязным влюбленностям, подтянутому животу (наркотики этому способствуют) и крепкому члену (тут они не при чем), к скорому падению республиканцев, которое даст шанс народиться новому, холодному и чистому миру.
В том новорожденном мире Тайлер возьмет тряпку и уберет с пола нападавший снег — кому, кроме него, этим заняться? Его любовь к Бет и Баррету станет еще чище, еще беспримеснее. Сделает так, чтобы они ни в чем не нуждались, возьмет дополнительную смену в баре, воздаст хвалу снегу и всему тому, чего снег коснется. Он вытащит их троих из этой унылой квартиры, достучится неистовой песнью до сердца мирозданья, найдет себе нормального агента, сошьет расползшуюся ткань, не забудет замочить фасоль для кассуле, вовремя отвезет Бет на химиотерапию, начнет меньше нюхать кокс, а с дилаудидом1 завяжет совсем и дочитает наконец «Красное и черное». Он крепко сожмет в обьятьях Бет и Баррета, утешит, напомнит, что в жизни очень мало вещей, о которых действительно стоит беспокоиться, будет кормить их и занимать рассказами, которые шире откроют им глаза на самих себя.
Ветер переменился, и снег за окном стал падать иначе, как если бы некая благая сила, некий громадный невидимый наблюдатель предугадал желание Тайлера мгновением раньше, чем тот понял, чего желает, и оживил картину — ровно и неспешно падавший снег вдруг вспорхнул трепещущими лентами и принялся чертить карту завихрений воздушных потоков; и тут — ты приготовился, Тайлер? — настает момент выпустить голубей, вспугнуть пять птиц с крыши винного магазина и почти сразу же (ты следишь?) развернуть их, посеребренных первым светом зари, против снежных волн, набегающих с запада и несущихся к Ист-Ривер (ее неспокойные воды вот-вот пробороздят укутанные белым, словно сделанные изо льда баржи); а в следующий миг — да, ты угадал — приходит время погасить фонари и выпустить из-за угла Рок-стрит грузовик с не потушенными пока фарами и гранатово-рубиновыми сигнальными огоньками, мигающими у него на плоской серебряной крыше, — само совершенство, восхитительно, спасибо.
1 Дилаудид — наркотический анальгетик, производное морфина.
Мастер на все времена
- Сергей Заграевский. Архитектор его величества. — М.: ОГИ, 2013. — 368 с.
Казалось, что в наши дни невозможно написать исторический роман о Руси XII века, который запоем стали бы читать двадцатилетние. Однако Сергей Заграевский, и так весьма разносторонний человек — он и художник, и историк архитектуры, и даже немного философ, — справился с поставленной задачей. Хотя о соответствии исторической действительности и справедливости авторского взгляда на архитектуру пусть судят специалисты (высказывания в сети по теме не менее интересны, чем сам роман, что уже свидетельствует об успехе замысла).
Поначалу «Архитектор его величества» напоминает книгу маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году»: пожилой архитектор «Готлиб-Иоганн, в миру барон фон Розенау, Божией милостию настоятель аббатства Святого апостола Павла в Вормсе» путешествует по чужой для него стране и оставляет некоторые записи: в данном случае письма своему духовнику и непосредственному начальнику — «его высокопреосвященному сиятельству Конраду, архиепископу Вормсскому, в миру графу фон Штейнбаху». Однако где-то с середины сквозь мемуарно-публицистический налет проступает вторая сущность книги, которую ассоциативно можно сопоставить с текстами Милорада Павича: это слегка мудреная средневековая фантастика, написанная позже изложенных событий, но умело стилизованная, где судьба аббата фон Розенау переплетается с легендой о Святом Граале. Традиционные зачины и концовки каждого письма через некоторое время вызывают не удивление, но удовольствие, а тяжеловесность авторского повествования — лишь мнимая: и рука у господина архитектора легкая, и слог хороший.
С моей ермолкою связано и забавное прозвище, полученное мною среди здешнего народа. Дело в том, что она похожа на скуфьи, которые носят монахи византийской церкви, которых здесь из-за этого часто называют «скуфейниками». А меня, поскольку я иноземец, за глаза прозвали то ли на немецкий, то ли на французский лад — «Скуфер», произносят и «Скуфир», и «Куфир».
Сам герой-повествователь, аббат фон Розенау, постепенно обрусевает и все с большей симпатией относится к происходящим с ним неприятностям, от которых его спасают стечения обстоятельств — или, быть может, чья-то вышняя воля. Он проникается весьма нежными чувствами к стране, изначально им ненавидимой, здесь находит покровителей и свою любовь. Но больше всего подкупает молодость души героя, который оказался на Руси на излете жизни. Он не преисполнен бесконечного старческого брюзжания, напротив — ввязывается в головокружительные аферы, его смекалка не знает границ, а трудолюбие неистребимо. Даже постоянное отпущение грехов, о котором он просит своего духовника, всегда соотносится с личной точкой зрения героя на произошедшее: не вмещая себя в рамки общепринятой нормы, он считает, что его судьба — в его руках.
Жаль, что нам неведомо, как на самом деле установил Господь наше посмертное бытие. Может быть, в раю окажутся только те, кто всю жизнь честно и хорошо выполнял свою работу? Не знаю, ибо никогда не был силен в богословии, просто строил храмы. Честно и, смею надеяться, хорошо.
Вероятно, потому, что книгу так легко прочитать человеку другого поколения и другого возраста, она оказалась в списке и «Национального бестселлера», и «Русского Букера». Ведь можно сколько угодно спорить о том, точно ли предстает история на страницах произведения и насколько велик замысел создания — однако если роман популярен, то все вопросы отходят на второй план.
Александр Кабаков. Стакан без стенок
- Александр Кабаков. Стакан без стенок. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 256 с.
В Редакции Елены Шубиной выходит сборник эссе, рассказов и путевых записок лауреата премии «Большая книга» Александра Кабакова. По словам автора, «в результате получились весьма выразительные картины — настоящее, прошедшее и давно прошедшее. И оказалось, что времена меняются, а мы не очень… Все это давно известно, и не стоило специально писать об этом книгу. Но чужой опыт поучителен и его познание не бывает лишним. И стакан без стенок — это не просто лужа на столе, а все же бывший стакан».
ОСАЖДЕННЫЙ Все меньше хочется выдумывать. Видимо, попал
под влияние общей тенденции.А уж если выдумывать, то что-нибудь несусветное — летающих женщин, бессмертных мужчин, демонов и ангелов — в общем, всякую фантастическую белиберду, которой и без того хватает, включая не белиберду, а классику… Впрочем,
это не останавливает. Что ж, если майорский нос
гулял сам по себе вдоль питерских каналов, так
уж после этого ничего и не выдумай? И пусть себе
кот садился в трамвай, потирая усы гривенником, — никто не запретит и нам придумывать
сказки и фантастические романы…Да что угодно, лишь бы не начинать тоскливую
как бы реалистическую тягомотину: «Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин
средних лет, живущий в гигантском столичном
городе, вышел из подъезда своего многоэтажного
дома и отправился в большой банк, где он служил
топ-менеджером…» Ужас! К тому же сразу, как
только потребуются детали, начнешь путаться
и нести чушь, поскольку сам менеджером ни топ,
ни каким другим в банке не служил, квартируешь
в умирающей пятиэтажке, и не средние идут твои
годы, а вполне уже, по чести говоря, преклонные.Нет, положительно — нон-фикшн притягателен! И никаких фантазий не надо. Не надо напрягать воображение, а потом получать от критика презренное клеймо «булгаковщина» (а то и вовсе «аксеновщина»). И жизнь изучать в ее
конкретных и разнообразных проявлениях не
требуется — достаточно одно проявление записать точно и без прикрас, а читатель уж сам извлечет из этой правды свою, ему необходимую правду.Да, положительно — только нон-фикшн! Хватит беллетристики, побаловались, пора и честь
знать. Вот вам истинная история, документально
подтвержденный случай.Итак:
Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин средних лет, живущий в гигантском
столичном городе, вышел из подъезда своего многоэтажного дома и отправился в большой банк,
где он служил топ-менеджером. Паспортные данные Петра Ивановича, его ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, а также адрес по месту постоянной
регистрации и другие реквизиты любой желающий может найти в социальных сетях, Фэйсбуке,
Одноклассниках и прочих. Там же, в Фэйсбуке,
вы можете ознакомиться и с той историей, которую
мы собираемся вам здесь рассказать, но, конечно,
там она будет изложена пристрастно, а здесь мы
абсолютно объективны. Так что, если понравится — лайкните. А если вас смущает то, что на старомодном листе бумаги, содержащем слишкам многа букаф, и лайкнуть-то негде, то лайкните где угодно, какая разница.Итак:
Ранним весенним утром… Весна в том году была короткая, зато жаркая, в полном соответствии
с обещаниями ученых — в основном, как обычно,
британских — вовсе упразднить сдержанно жизнерадостные демисезоны, весну и осень, оставив
только экстремистские лето и зиму. Поэтому Петр
Иванович вышел из дому налегке. На нем были:
узкое и коротковатое, из черного кашемира, соответственно текущему деловому тренду, пальто
нараспашку… А также узкий, строго по тренированной фитнесом фигуре темный костюм… И, понятное дело, сияющие ботинки стиля oxford
brogues. Уже только по вышеописанному экстерьеру можно было бы заключить, что жизнь Семенова удалась, или, чтобы употребить актуальный оборот, состоялась. Если же добавить, что
спустя пять минут он вновь появился в нашем
поле зрения, но уже выехав из паркинга под домом на автомобиле почтенной немецкой марки
и модели текущего года, то следует признать, что
жизнь его не только состоялась, но именно удалась.Итак:
Петр Иванович Семенов, господин средних
лет… Средних — это сорока трех. К такому прекрасному возрасту у нашего фигуранта (воспользуемся популярным в текущие времена борьбы
с коррупцией словом) было все, что положено
фигуранту. Несколько счетов не только в родном банке, но и в других, отделенных от РФ госграницами. Приличный домик в Испании и еще более приличный по известному Новорижскому
шоссе. Еще одно транспортное средство, находящееся в пользовании жены, японский затейливый кроссовер. И, наконец, сама жена, девушка
Алена Васильевна Семенова, неполных тридцати пяти лет, со скромным модельным прошлым и столь же скромным деловым настоящим, обремененным заботами о собственном оздоровительном бизнесе «СПАщая красавица». Пусть
нас простят за упоминание близкого Петру Ивановичу человека в ряду его материального имущества, тут ничего обидного нет, а только логика жизни.Итак:
Живущий в гигантском столичном городе…
Боже, как удивителен этот город! Не будем даже
и пытаться перечислить хотя бы главные чудеса — просто проедем по его Третьему транспортному кольцу, будь оно неладно с его вечными
пробками, да оглянемся вокруг, да задохнемся
от вида небоскребов, упирающихся в сиреневое
от гари небо, да зажмуримся на мгновение, взлетая по стартующей в бесконечность эстакаде, да
представим себе это пространство, эти двадцать
миллионов обитателей, эти миллиарды вдохов
и выдохов… И миллиарды рублей, добавим мы,
так же растворенных в городском воздухе, как
дыхание горожан и выхлопы машин, в основном
пока еще не соответствующие современным европейским стандартам. Только вдохов и выдохов
на всех горожан приходится примерно поровну,
выхлопы зависят от года выпуска автомобиля
и мощности… А денежки вообще выпадают из воздуха сугубо неравномерно, густо оседая на некоторых депозитах и совершенно игнорируя большинство текущих, зарплатных и пенсионных,
счетов и просто дырявые карманы среднего населения — не путать со средним классом. В результате возникает, как сказали бы электрики,
разница потенциалов, а где разница потенциалов,
там и напряжение, спросите у тех же электриков,
а где напряжение, там, того и гляди, пробежит
искра и, соответственно историческому прецеденту, возгорится из нее пламя. Черт возьми!
Черт возьми, иногда восклицал про себя Петр
Иванович, да что ж они, не видят, что ли?! Кто
они, Семенов отчетливо не представлял, но на
всякий случай время от времени принимал участие в, как говорится, протестных акциях. Он шел
или стоял на мостовой вместе с немалым количеством горожан, среди которых встречалось порядочно таких же господ в кашемировых пальто,
тоже, видимо, смущенных разностью потенциалов — впрочем, возможно участвующих в упомянутых акциях лишь соответственно тренду, то
есть моде, вроде как на то же узкое и укороченное пальто.Итак:
Вышел из подъезда своего многоэтажного дома… Не всегда П.И. Семенов жил в этом многоэтажном новостроенном доме (монолит, планировка свободная, первичная отделка) со своею женой Алёной и девятилетним сыном Иваном.
Вернее, сын тогда еще только намечался, а Петр и Алёна жили в малогабаритной трешке с родителями Алёны и ее младшим братом. Район Капотня для готовящегося возникнуть сына был не слишком подходящим. Да и совместная жизнь с родителями жены тяготила, прямо скажем, бедного — тогда еще бедного — Семенова даже больше
Капотни. А у самого героя жилья не было никакого, поскольку он происходил из города Каменска-Шахтинского Ростовской области. И совсем
недавно он произошел из простого менеджера
в старшие менеджеры по работе с физическими
лицами… Короче, еще много денег на срочные
и специальные, особо выгодные вклады утекло,
прежде чем безо всякой ипотеки Семенов приобрел четырехкомнатную в новостройке, в тихом,
но перспективном районе Октябрьского Поля.
В эту квартиру тесть с тещей приходили только
в гости, никак не отвыкнув приносить с собою домашние заготовки квашеных огурцов и капусты,
которых никто в доме Семеновых давно не ел,
предпочитая обходиться продуктами из приличных магазинов. Открывая гостям, а спустя некоторое время закрывая за ними стальную дверь
с сейфовыми замками, Петр Иванович всякий
раз удовлетворенно отмечал и толщину, и качество стали, и хитроумность замков любимой двери, потому что только на нее и была вся надежда.Итак…
И отправился в большой банк, где он служил…
Именно служба в банке и привила Петру Ивановичу Семенову любовь к стальным дверям и веру в них как в единственное достойное препятствие
той самой искре и тому самому пламени, о которых говорилось выше. Будучи работником банка,
он отчетливо представлял себе, как всё ненадежно в этом ненадежнейшем из миров. Он помнил,
как в страшные дни уже далекого, слава Богу,
первого кризисного года тихо шумела у стеклянных, слегка усиленных решетками входных дверей банка толпа угрюмых вкладчиков и как ему
хотелось оказаться тогда в сейфовом помещении,
за броневыми дверями, и никогда не выходить оттуда. А ведь еще не было тогда не только сына Ивана, проводящего теперь, к счастью, учебный год на
безопасном острове, однако ведь на каникулы-то
возвращающегося на родину, но и жены Алёны,
слабой бизнесвумен… Какие двери?! Вырвут танком. Привяжут тросом и вырвут.Итак:
Топ-менеджером… В этом качестве он имел
возможность слегка растянуть обеденное время
и, допивая американский кофе с молоком в одном
из наиболее приличных итальянских кафе, которых вокруг банка развелось больше, чем в каком-нибудь квартале Милана, беседовать с коллегой,
таким же топом, о том, что волновало. «Дом надо
строить, вот что, отсидимся, если что, по-любому, — говорил он коллеге, и коллега соглашался,
а Семенов продолжал так же убежденно и невразумительно: — Умные люди давно в дома посъезжали, отсидятся, если что, по ходу…»Тут мы простимся с уже поднадоевшим приемом и прекратим раскручивать одну первую фразу, тем более что мы ее уже до конца использовали. Дальше изложение будет строгое и документально подтверждаемое — если хотите, ссылки
на соответствующие сайты пришлем. Действие
продолжается уже летом, наступившим вслед за
тою ранней весной, и осенью, довольно быстро
вытеснившей то лето.Итак:
Петр Иванович Семенов, у которого, как сказано, уже были дом в Испании и еще один, совсем нехилый, по Новой Риге, решил строить третий,
совершенно особого типа Дом — именно такой,
с большой буквы «Д».Дом этот должен был стать одной сплошной
стальной дверью, которую не вырвешь никаким
танком, да и, собственно, неоткуда будет ее вырывать — кругом вроде дверь… Пожалуй, что и дверь
эту будем писать с большой «Д».Для начала Петр Иванович Семенов продал
испанскую и новорижскую недвижимость, поскольку искомой безопасности ни та, ни другая
не предоставляли, а деньги имело смысл пустить
на строительство Дома, уже шедшее полным ходом и быстро истощавшее счета, один за другим.
Конечно, можно было бы ограничиться усилением обороноспособности новорижского жилища,
но это было бы затратнее, чем построить Дом
с нуля, — Петр Иванович через некоторых знакомых был осведомлен, во что обходится реформа обороноспособности. Кроме того, Семенова
смущало расположение дома: его привлекательная престижность, увеличивающая цену каждой сотки, увеличивала и риск — пламя, если возгорится, был уверен Семенов (и не он один
был в этом уверен), прежде всего полыхнет
именно на Рублевке и Новой Риге… Что касается
Испании, региона Марбелья, то относительно
этого жилья сомнения у Петра Ивановича усиливались после почти каждого выпуска новостей. Буйные толпы, шатающиеся по улицам
Южной Европы, в том числе Испании, сюжеты
о раздаче бесплатной еды голодным и забастовках госслужащих, лишенных тринадцатых зарплат, бутылки с «коктейлем Молотова», летящие в полицейских, — всё это нисколько не привлекало Петра Ивановича, и он даже сожалел, что когда-то купил испанский домик. Вложение можно было сделать и много более выгодное — к примеру, купить еще одну московскую квартиру, в сталинском доме, да сдать дипломату, или две элитных однушки в новостройках и тоже сдать, своему брату менеджеру, только еще начинающему…Словом, теперь Петр Иванович Семенов строил Дом.
Участок был выбран идеальный — на небольшом (проще защищать) полуострове, выступающем в водохранилище. Конечно, получить разрешение на покупку этой, еще недавно принадлежавшей районной администрации земли в прибрежной зоне было непросто. Тут речь даже не
шла о том, чтобы кому-нибудь занести, как положено, тут решалось всё на уровне бескорыстных
личных контактов в тесном и почти совершенно
закрытом кругу. Однако ж желание Петра Ивановича было настолько сокрушительным, что однажды он услышал заветное «ну, если горит тебе,
Петруха, стройся, только на новоселье не забудь
позвать», и стройка началась.Началась она даже не с нулевого, а с подводного цикла: в водохранилище вокруг полуострова
была установлена мощная стальная сетка, исключающая приближение к будущему Дому любых плавсредств, включая субмарины. Эта сетка
была установлена по примеру военно-морских
баз и стала как бы подводной Дверью.Потом были проведены саперные работы на
перешейке, соединяющем полуостров с материком — то есть с бывшим совхозным полем, понемногу распродающимся под коттеджи и таунхаусы. Минирование обошлось без чрезвычайных
происшествий, оставленный для хозяев и нужд
дальнейшего строительства проход был обозначен широкой аллеей молодых сосен, в целях маскировки перемежающихся с беспородной растительностью.Работы велись в ночное время, бригада молдаван немедленно по окончании была депортирована на добровольной основе, снабженная выходным пособием и советом всё забыть.
Жена Алёна поначалу ни во что посвящена не
была, но, как любящий человек, что-то почувствовала. Петя стал более молчалив, чем был прежде, глаза его приобрели еще более обычного сосредоточенное выражение, а на письменном столе
в его домашнем кабинете теперь постоянно лежал
школьный учебник физики, раскрытый на странице, на которой рассказывалось о разнице потенциалов, чреватой искрой… Кроме того, она слышала, как муж задумчиво, за какой-нибудь несложной работой, повторял стихотворную строчку «…из
искры возгорится пламя…», хотя вообще стихов
не любил и не знал. Когда же Петр Иванович привез ее взглянуть на завершающееся строительство Дома, уверенность ее окончательно сформировалась.Дом был выстроен из бетона, серый куб в один
этаж. Бетон был сплошной, окна в нем прорезаны
узкие и высоко от земли, в обычное время они закрывались стальными ставнями с мощными замка´ми, запирающимися изнутри одной кнопкой
с центрального пульта.Дверь в Дом вела стальная, когда она бывала
открытой — недолго, чтобы хозяева успели пройти, — можно было подивиться толщине: полметра стали, столько же, сколько бетона в стенах,
и вдвое толще, чем дверь в городской квартире.
Замко´в было четыре, по одному с каждой стороны, когда их запирали с центрального пульта,
глубоко в стены вдвигались стальные стержни,
почти в руку толщиной каждый.При запертой Двери и ставнях Дом снаружи
выглядел просто как сплошная бетонная глыба
правильной формы, украшенная металлическими накладками. Похоже было на какой-то брошенный недострой, уже начинающий зарастать
бурьяном — усилия ландшафтного дизайнера
дали результат…Внутри же Дом был совершенно обычный, мебель сюда перевезли с Новой Риги, и даже все интерьерные идеи снова воплотили. Натуральное
черное и красное дерево, тонкая кожа, зеркальное
стекло и прочие штучки, наличием которых внутри Дома вполне объяснялся суровый и неприступный вид Дома снаружи. Во всяком случае,
трезво оценивающий действительность человек
понял бы мотивы и соображения, руководившие
Семеновым при строительстве бетонной крепости.
Если в Доме цена дверных ручек на внутренних
дверях больше, чем три средних по стране зарплаты, то лучше укрыть их в бетонном кубе, за броневой дверью. Поскольку последствия разности потенциалов в учебнике физики описаны понятно…
Владимир Маканин. Долгожители
- Владимир Маканин. Долгожители. — М.: Эксмо, 2014. — 384 с.
В «Эксмо» в новой авторской редакции вышел сборник рассказов «Долгожители» лауреата многих литературных премий писателя Владимира Маканина. Герои его сюжетов – как правило, люди за тридцать, за плечами которых уже есть опыт любви и измен. Они знают, что лучший друг может предать, а враг – помочь. И все же в жизни персонажей есть место чуду и подвигу, верности и прощению.
ДОЛГОЖИТЕЛИ
По типологии (если в первом приближении) он был просто честный человек и энтузиаст. Однако жизнь нас пришпиливает на конкретные булавки. Жизнь груба… Жизнь заставит определиться пожестче. А потому в своем исследовательском институте стареющий Виктор Сушков являл собой знакомый всем тип шестидесятых и семидесятых — он был, как вокруг пошучивали, БОРЕЦ ЗА ПРАВА, БЕГАЮЩИЙ ПО КОРИДОРАМ. Когда-то он был напористым комсомольцем… Когда-то активным профсоюзным деятелем… Теперь он был симпатичный шустрый старичок.
Едва заслышав про какую-то несправедливость начальствующих, про их подлянку или обычный зажим рядового сотрудника, Виктор Сергеевич тотчас начинал собирать подписи. Это в нем осталось. Старый гвардеец… Суетлив, конечно. Однако в нескольких случаях он все-таки не дал выгнать человека с работы, а кому-то сумел — помог с жильем. А то и защитил женщину, не позволив ее травить… Само собой, хороший семьянин. Инженер Сушков, чуть что собирающий подписи!.. С этажа на этаж — торопится, бежит по коридору Института, и глаза так серьезны. Таким бы ему и запомниться! Но, увы, еще постарел… В маленьких честных его глазках проступило невостребованное. И жалкое. И уже не напирал, а просил. В руках, как водится, бумага. С письмом… С заявлением… С протестом… И наготове дешевенькая шариковая авторучка — отзовет в сторону, просит: подпиши.
Но люди в коридорах — они ведь такие! В большинстве своем хуже Виктора, они не сомневались, что они лучше. (Мы ведь такие.) Когда Виктор Сергеевич Сушков в 65-м ушел-таки на пенсию, эти самые люди, сослуживцы, кислили физиономию ему вслед. И меж собой характеризовали его, романтика по-советски, до обидности кратко:
— Зануда… Житья не давал.
А был еще Виктор Одинцов — давний по жизни (по юности) приятель Виктора Сушкова. Как тип — прямо ему противоположный, сам в себе. И совсем не говорун.
Молчалив… Этакий рослый малообщительный мужчина… Скрытный (и удачливый) любитель молоденьких женщин.
Этот мрачноватый Одинцов был холостяк (оправдывал фамилию). И был он, вплоть до выхода на пенсию, фотограф. Но не классный. Просто работа. Заведовал фотоателье, что по тем нашим временам кое-что значило. Маэстро… Человек, более или менее известный, если кружить возле метро «Таганская».
Штат его ателье был невелик — один качок-охранник и три-четыре девицы, не больше. Эти тонкие женские ручонки помогали Одинцову в его фототрудах и оформляли, как заведено, всякие платежи. Бумаги. Квитанции… Девицы были собой очень даже недурны. Что было видно уже сразу с улицы — через большое стекло его маленького ателье.
Поскольку начальник самолично решал, кого оставить на нехитрой работе, а кого нет, девицы от Виктора вполне зависели, и он этим вполне пользовался. Раз в два года наш мрачноватый одинокий Одинцов менял контингент и вновь им пользовался. Умел!.. Любопытно, что Виктор проделывал все это буднично, как бы нехотя. Лицом насупившись… И молчком. Такой вот мужчина. Жил с одной, жил с другой. (Начинал он почему-то с самой скромной, с дурнушки.) А то и с двумя сразу жил, разнообразя себе неделю. Но, кажется, тоже без страсти. Тоже спокойно. Только чтобы не мучили желания. (Не каждый же день большая любовь!..)
Однажды в середине дня заглянув к ним в фотоателье и не найдя Одинцова, я спросил у трудового народа, где Виктор Олегович. Не вышел ли куда пообедать старый седой барсук — и не сказал ли чего?
— Сказал?.. Разве он умеет говорить? — вмазала мне одна из девиц, и вокруг дружно захихикали.
— Едем порыбачить? На парудней, а? — спрашивал мрачноватого Виктора Одинцова говорливый Виктор Сушков. Звонил ему… И они сговаривались. (Обычно после получения пенсии.)
— Едем.
Порыбачить — значило посидеть с удочками, слегка попьянствовать. Повспоминать молодость… Поностальгировать. А что еще делать двум (наконец-то!) пенсионерам. Они это здорово придумали! Они посылали весь мир на хер. Запасясь продуктами, они съезжались и ловили рыбку. Забравшись в глухое Подмосковье… Ночуя в развалюхе-избе.
Приезжал иногда к ним и я.
Но в их разговорах было кое-что еще. Кое-что удивительное!.. Оба Виктора ощущали себя долгожителями. Они это обнаружили вдруг. У них обоих, как выяснилось, бабки и деды жили по сто лет… Разве это не обязывает? (Жить!) Разве это не вдохновляет?.. Так что даже теперь, на пенсии, жизнь обоих Викторов отнюдь не кончалась — вся их долгая жизнь была еще впереди.
Когда они, оба в азарте, заводили речь о своем сокровенном, казалось, оба слегка спятили! Сколько жара, огня!.. Долгожительство стало их идеей, их пунктиком. Их восклицательным знаком!.. Открывшимся (наконец) смыслом их бытия.
Кстати сказать, Виктор Сушков и я тоже могли бы поговорить о прочем-разном. Виктор Сушков мой земляк. Из Оренбуржья, и даже район один. Тоже ведь можно было повспоминать. Подергивая удилищами. Попивая водочку… Припомнить словечки. Оживить давний лесок, холмы — географию детства.
Однако же нет! В основном разговоры вели они — два Виктора. Их было не перебить. Мрачноватый Одинцов тоже к этим годам разговорился! (Выйдя на пенсию!) Именно долгожительство (притом соревновательное, кто дольше!) стало любимым их сюжетом. Будущие долгие-долгие дни — вот что их привлекало. Вот что подталкивало заскучавшую было у реки мысль… Будущее манило. Будущее (почти бесконечное) их ждало — и они смело шагали ему навстречу. В конце концов, пенсии им хватает. Много ли им надо!..
Это будущее завлекало, как завлекает, скажем, игра на деньги. Или как под парусом. Они поймали ветер!.. Я с трудом их понимал. Но что-то я тоже чувствовал. Задевало… Некая абстрактная светлая даль. Невозможно было не почувствовать их живой восторг, их упоение нечаянно найденным кладом.
А шутливые «дарственные» друг другу! А завещания! Это уж точно был род азартной забавы. Интеллектуальная игра ничем не занятых стариков. Происходило это изысканное действо картинно: оба Виктора, безмерно гордые, обменивались «бумагами». Самосочиненными текстами. Галантно… Из рук в руки… При свидетеле (в моем, скажем, присутствии) — тексты зачитывались. Когда знаешь, что проживешь сто лет, завещать — это большая радость. У костра — вслух! С удовольствием. Со вкусом… С повторением выигрышных словечек. Юридические скользкие термины. Крючковатые фразы. Весь этот бред нотариальных контор.
Зачитывалось, перечитывалось, пересмеивалось и… сжигалось. Вот оно, наше наследство. Гори!.. Благо костер в шаге. Что-то здесь было от киношного сжигания денег. Сначала, как бы дразня
«наследника», колебались: еще только держали уголком бумаги у самого края огня. Языки пламени тянулись, лизали. И наконец огонь получал… Хватал… В какую-то секунду огонь поглощал этот опус, так мгновенно исчезавший, но так смело заигрывавший с вечностью.
— А вот тебе еще. Послушай!
— Ну-ка…
— Дарю… Отрываю, можно сказать, от сердца, — начинал один из Викторов зачитывать другому свое новое дарение.
Жизнь человека и жизнь вещи… Невозможность (или все-таки возможность) противостоять Времени. Каким-то косвенным образом то и это в их игровой забаве увязывалось. Сказать, что «совки» запоздало ощутили (наконец-то) вкус собственности, мне не хочется. (Мелковато.) Скорее уж напротив. Их, долгожителей, забавляло бессилие вещей. Обреченность вещей… Их это поддразнивало. Их щекотало… И чего-чего только не отдавалось! Так гр. Виктор Одинцов завещал после своей нескорой смерти гр. Виктору Сушкову свой старенький «жигуль» (который, как оба прекрасно знали, не протянет и двух-трех очередных лет). В другой «бумаге» он оставлял тезке-долгожителю чайный сервиз, недорогой, но хрупкий — терявший, как все мы знали, чашку за чашкой в наших частых чаепитиях у реки. И в подпитиях тоже… Мы всё пили из чашек.
Зато Виктор Сушков, как все былые романтики, не умел сосредоточиться на ценном и завещал гр. Виктору Одинцову чаще всего Разное… Стертый коврик, что будет позаимствован из коридора их исследовательского института… Книгу жалоб, выброшенную из местного магазинчика. (Ее выбросили попросту: прямо в окно. В траву.) Суровую переписку некоего гр. Боброва с жэком!.. В азартной необходимости дарить и дарить они завещали любой попавший под руку (и под ногу) предмет и всяческий хлам. Пустую бутылку из-под марочного коньяка! Ботинок бомжа! Кепку азербайджанца!.. Завещали они друг другу, но и нам вдруг тоже перепадало (за компанию). Маньяки!.. Они пьянели от немыслимо долгих лет своих дедов. Они захлебывались от избытка здоровья и своей возможности жить бесконечно.
Иной раз вдруг чувствовался натуг их веселья. Чуть-чуть пережим. Это правда… Но ведь забавно! И потом — вокруг дикая природа. Глухое место. И кому здесь не захочется жить вечно… Забытая людьми речка. У догорающего костра!.. И ведь так нечаст смех в рядах потертого и потерянного нашего старичья. Среди сотен и сотен ноющих. Среди тысяч жалующихся на болячки!
Соревнуясь в абсурдной щедрости (и не сомневаясь, что он переживет всех), Виктор Сушков, сидя у костра, передал мне однажды (знай наших!) бумаженцию, где в здравом уме и твердой памяти завещал после смерти не что-нибудь, а свою квартиру. Он, кажется, уже и не знал, что дать. Он отдал бы все. Щедрость распирала!.. Он только хихикал… И ведь сам не бросил в костер, не дал огню… как расхрабрился!.. Конечно, ноль. Конечно, без нотариуса. А все же бумага! А я его еще поддразнил — подержал бумагу у пламени. Но не сжег. И, вчетверо сложив, сунул в карман.
Однако же шутливо разбрасывающийся своим добром Виктор Сергеевич Сушков ничуть не рисковал. Знал, что переживет меня, — это было ясно. Притом надолго!.. Один его дед прожил ровно сто, другой даже перескочил, перебрался, перемахнул через этот странный психологический бугор — 101!.. А про древних суматошных бабок Виктора и говорить нечего. Большие были любительницы покушать! Оладышки! Огурчики! Окрошка!.. Когда ударяешь на «о», живешь долго. Похоронив своих мужей, бабки, конечно, тоже когда-то померли.
Мария Рыбакова. Черновик человека
- Мария Рыбакова. Черновик человека. — М.: Эксмо, 2014. — 288 с.
В основе романа «Черновик человека» Марии Рыбаковой, известной благодаря роману в стихах «Гнедич», – реальная история российской поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной, которая начала писать взрослые стихи, когда была еще ребенком, прославилась на весь мир и, не выдержав славы, погибла. На самом деле Рыбакова рассказывает о трагическом феномене поэта в современном мире, раскрывая черты целого поколения.
Она встала, и тогда, наконец, он испугался.
«Что это?» — воскликнул он, сжавшись в комок.
«Я зажгу свет, — сказала она, — тогда ты сам увидишь».
По-моему, это был единственный момент в его жизни, когда Питер почувствовал страх. «Не зажигай свет», — закричал он.«Питер Пэн«1
Во вторник: купить пистолет.
Автобус медленно-медленно плетется. Останавливается все время. Особенно если инвалид в коляске хочет в него поместиться или старуха с ходунками. А еще слепые входят, в очках и с палкой или — с собакой на коротком поводке. Автобус проезжает «Макдоналдс», аптеку, кофейню, ресторан, супермаркет, стоянку автомашин, книжную лавку, школу, парк с тощими пальмами, салон массажа, церковь, еще церковь, еще церковь, буддийский храм, спортивный зал, поле для игры в бейсбол, магазин «Все товары — за доллар», грузовик, с которого продают бутерброды, рынок старья в бывшем кинотеатре, салон красоты, где обещают новую молодость, пивной бар, еще один пивной бар, студию йоги, салон, где набивают татуировки, бюро поручительств под залог.
…сначала были просто личинки, мельтешили в воде, питались, ни глаз, ни рук, ни мозга; потом они удлинились и рыбками стали, с чуткой кожей, ели, плавали, размножались, плавники появлялись, жабры, глаза и губы, кости всякие; потом рыбы на сушу стали выползать, плавники в лапы превратились, к жабрам легкие прибавились, стали ящерицами, огромными как дома, ползали по земле, и никто им не мешал. Некоторые, помельче, оперились, передними лапами махали-махали, приобрели крылья и полетели. А другие по песку струились и стали змеями. Третьи жe мехом обросли, и отрастили длинные лапы, и стали кормить детенышей молоком.
Пассажир на переднем сиденье громко беседует сам с собой. Черт знает кто в автобус набивается, говорит он. Не уважают общественный транспорт. В какие инстанции обращаться в случае конца света. Водитель, остановитесь на следующей.
…меховые бегали-бегали, по веткам прыгали-прыгали, передней лапой срывали фрукты, били деревья палками, вставали на задние лапы, и оттого эти лапы у них постепенно в ноги превращались, а передние лапы — в руки. И мех стал редеть.
Купить пистолет. Потом еще не забыть забрать платье из химчистки.
Света выходит напротив библиотеки, идет по узкой улице, усаженной цветущими акациями. Она глубоко вдыхает: акация пахнет конфетой. Но вскоре и деревья, и запах кончаются. Земля залита асфальтом, улицы просматриваются на сотни метров вперед. На окнах домов — решетки, за заборами груды металлолома. Здесь можно вести войну.
…обезьяны боролись за существование, и победили самые умные, то есть те, которые потом людьми стали. Самые умные и оружие себе получше придумали, и о наступлении врагов друг друга предупреждали, потому что говорить научились. Ну, может, не говорить, а рычать или свистеть, но так, чтобы понятно было, кого надо бояться и откуда враг идет.
Чтобы попасть в магазин, надо перейти широченную улицу и пройти мимо бутербродной. Запах лука и колбасы проникает за дверь магазина. На стене рекламный плакат: «Спросите о скидках на „Глоки“!» «Глок» — короткое слово, похожее на щелчок курка. «Глок» — фирма, производящая оружее. Рядом стоит картонная фигура солдата с винтовкой в одной руке и пистолетом в другой. Форма на нем защитного цвета, лицо измазано зеленым: маскировка. На полках — ботинки, рюкзаки, ремни и маски, наручники, фонари, сумки для амуниции, кобура из черной кожи, намордники.
…у людей все как у зверей. Люди чувствуют боль, как животные. У них память есть и сновидения, как у собак, которые во сне перебирают лапами, вспоминая погоню. Люди бывают злого нрава, как тигры-людоеды, а бывают добряками, как щенята. И плачут люди, как волки скулят, и радуются, как мурлыкающие коты. За манатки свои борются, как собака — за кость. За женщину бьются, как олени — за самку. Помогают друг другу, как обезьяны, которые друг у друга в шерсти блох выискивают.
Совсем маленькие пистолеты на витрине слева. Но продавец говорит, что они только для полицейских. Продавец старый, кожа на его руках потемнела и задубилась от возраста, сосуд в глазу лопнул. Он спрашивает, что Света ищет. Она говорит: пистолетик. Для чего? Ну, чтобы в тумбочке держать, если кто заберется в дом. Понятно, говорит он, для охраны дома. Да, соглашается Света, для охраны.
«Зиг Зауэр» или «Глок», что лучше? Продавец показывает, как опускать казенную часть ствола, как вставлять магазин. Да, пули для них, конечно, тоже продаются. Сначала надо убедиться, что пистолет не заряжен. Вот, возьми в руку. Хорошо лежит? Теперь целься, только не туда, где люди стоят, а в угол. Даже если знаешь, что пистолет не заряжен. Теперь нажми на спусковой крючок. Что-то слабовата ты.
…и поэтому их потомки иногда все же рождаются с шерстью по всему телу и даже с мехом на лице. То же и с хвостом: у наших предков он пропал, но и сейчас иногда бывает, что появляется человек с хвостом.
Могу показать револьверы, говорит продавец. Они тебе больше нравятся? Почему? Потому что дуло и рукоять округленные? Ну да, наверно, форма красивая. Никогда об этом не думал. Вот, нажми на кнопку, что происходит? Барабан откидывается, видишь эти аккуратные норки? Для патронов. Взводишь курок. Ставишь палец на спусковой крючок. Нажимаешь.
«Ругер» триста пятьдесят седьмого калибра, «Магнум». Очень хорош. Но слишком тяжел. «Таурус» с длинным дулом. Что, трудно? Надо больше качаться. Возьми в руку «Смит и Вессон» тридцать восьмого калибра. Помнишь, что надо делать? Откидываешь барабан, удостоверяешься, что незаряжен. Поднимаешь, целишься в угол. Взводишь курок. Что, легко? Теперь нажимаешь на спусковой крючок.
Нашла, говорит Света. Мое оружие.
Из револьверов можно стрелять сразу после осечки. Их не заклинивает. Тридцать восьмой — правильный калибр. Мой сын, полицейский, всегда оставляет «триста пятьдесят седьмой» в машине, а «тридцать восьмой» берет с собой, когда идет на задание.
Эти револьверы, они двойного действия, продолжает объяснять продавец. Можно взвести курок и выстрелить один раз, а можно сразу выпустить все шесть пуль, не взводя каждый раз, — но точность от этого может пострадать. Лучше стоять близко к цели.
Когда берешь револьвер, направляй его дуло не на себя и не на друга, а куда-нибудь в угол. Если живешь на втором этаже многоэтажного дома, помни, что дуло нельзя направлять ни в пол, ни в потолок, а только в ту сторону, где нет соседей. Не держи палец на спусковом крючке, пока не пришло время стрелять. Знай свою цель.
…только вот с хилыми и слабыми у человека вышла загвоздка. В природе слабые вымирают, а сильные выживают и размножаются, что ведет к улучшению вида. А у людей слабым облегчают существование. И поэтому они могут и жить, и размножаться.
Не клади оружие на видное место. Не клади оружие под подушку, на тумбочку возле кровати, под матрац или в шкаф для одежды. Не прячь его в шкатулку, где лежат драгоценности. Чтобы купить оружие в Калифорнии, надо предоставить документ, что живешь в Калифорнии: например, принести счет за газ и чтобы в счете был указан твой адрес. Любой совершеннолетний сотрудник любого предприятия имеет право держать заряженное оружие на месте работы.
…но все же если взглянуть, например, на людей, погруженных в депрессию, то становится понятно, что их привлекательность для противоположного пола намного меньше, чем привлекательность веселых людей. Какая девушка посмотрит на печального парня? Значит, потомства у него будет меньше. Безумных сажают в сумасшедшие дома, где вряд ли у них завяжутся любовные отношения. К тому же (за исключением отдельных случаев) душевная болезнь приводит к ослаблению или угасанию полового инстинкта. А то, что общество заключает преступников в тюрьмы или в некоторых странах казнит их, без сомнения, препятствует их дальнейшему размножению.
Только смотри, в револьвере меньше патронов, чем в «Ругере», скажем.
Это не проблема, отвечает Света, шести мне будет достаточно.
…что же касается совсем не приспособленных к жизни людей, то они кончают с собой или умирают от тоски.
* * *
Когда ей было тринадцать лет, Света сидела у телефона и ждала звонка. Она уже начинала подозрительно относиться и к мыслям своим, и к талантам, и в первое мгновение попыталась прогнать внезапно возникшее подозрение: вдруг она никогда уже больше не будет счастлива? Это чувство было навеяно, возможно, разочарованием и слишком долгим ожиданием у телефона, который все не звонил и не звонил. Она сидела в старом кресле (на обивке были фиолетовые цветы) у деревянного столика с черным телефоном. В окне маячил тополь, начисто лишенный листьев и совершенно неподвижный в белом дневном воздухе. Вдали раздавался мужской голос, он, кажется, звал кого-то: эй, там! Но никто не отвечал.
…Задом наперед, совсем наоборот, крутился в голове стишок. Из какой-то книжки. Или мультфильма? Издевательство какое-то — если вдруг окажется, что все совсем наоборот. И зачем? Все же было прекрасно до сих пор, и море, и мать, и Ба, и страна, и даже Вселенная. Прекрасно было дотрагиваться до сухой черепашьей кожи, когда соседская черепаха высовывала голову из-под панциря. Прекрасно было, когда по волосам тебя гладила рука старшего товарища, которому понравились твои стихи. Прекрасно было, разморившись на горячем песке, переползти в тень под навесом. Но что если все это было только на время. Что если когтистая лапа загребла все и все отняла у Светы, и больше не отдаст, и больше не будет ничего прекрасного. Будет молчащий телефон, белый дневной свет, неподвижное дерево, голос вдалеке, который зовет не ее.
Задом наперед, совсем наоборот. Ты, что смеялась, будешь теперь плакать. Ты много разговаривала, а теперь замолчишь. Тебя хвалили, теперь тебя будут не замечать. Пусть уж лучше ругают, смеются, чем вот так, молчаливо, одна у окна, перед телефоном. А может, так и будешь, молчаливо, одна, у окна, перед телефоном. Всю. Оставшуюся. Жизнь.
Что, плачешь?
1 Перевод с англ. — Марии Рыбаковой.
Охота на свободу
- Виктор Ремизов. Воля вольная. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 416 с.
У городского жителя, гулявшего только в прозрачных лесах средней полосы, представление о тайге складывается лишь благодаря бардовским песням. В них романтично настроенные шестидесятники рвались в непроходимые чащи со словами: «А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги».
Песни звучат в голове все время, пока читаешь роман Виктора Ремизова «Воля вольная». Он как раз о северных лесах и людях, непонятно как выживающих там, где уже за забором таится опасность. Романтика Юрия Кукина тут разбивается о мрачный быт местных жителей. Волнующие ароматы хвои и дыма заменяются более реалистичным зловонием. Тайга у Ремизова душно пахнет свежесодранными шкурками соболей, порубленными для наживки рябчиками и соляркой от охотничьих вездеходов.
Промороженные, просоленные морскими ветрами деревенские мужики с задубевшей от непогоды кожей и коричневыми желудями ногтей из поколения в поколение ведут образ жизни, который не терпит сантиментов. Несколько месяцев в году они проводят в тайге, расставляют капканы на пушного зверя и занимаются освежеванием лосиных туш. Икра — местное золото — добывается здесь тоннами. Двадцать процентов с улова отходит местным ментам, остальное отправляется в другие регионы страны и даже в Москву. Браконьерство в этих краях необходимо, чтобы пережить зиму.
Вечная тема противостояния власти и народа в романе выражается в ненависти охотников к ментам. «Для Студента, как и для большинства самостоятельных поселковых мужиков, мент не мог быть нормальным человеком. Мент был противоположностью вольной природы, на которой они жили. Самой воле вообще». Люди в сером мешают спокойно заниматься делом, постоянно требуя денег. Вялотекущий процесс взяточничества прерывается, когда один из охотников, Степан Кобяков (Кобяк), случайно сталкивается с начальником районной милиции Тихим и его замом Гнидюком, таранит их уазик, стреляет под ноги и скрывается в тайге.
Правда остается за Кобяком. Это понимают и местные мужики, и подполковник Тихий. Последний злится на Гнидюка, который первым полез в кобяковский вездеход с обыском, спровоцировавшим разборку. Однако тому надо выслужиться перед начальством и настучать в Москву. Возня за власть вызывает разбирательства на федеральном уровне. На Степана Кобякова начинается охота.
Дальше сюжет готов скатиться в обычный детектив, однако погоня за Кобяком отступает на задний план. Виктор Ремизов, работавший геодезистом в тайге, чувствует лес так же тонко, как и местные, и делает его главным героем повествования. Красота заснеженных деревьев незыблема, несмотря на людские страсти. Человек в тайге остается гостем, который обязан жить по законам природы.
Степан шел и чувствовал, как тепло любви ко всему этому охватывает душу. В лесу он всегда становился мягче: улыбался, с собаками, деревьями и горами молча разговаривал… И никакие менты не встанут у него на дороге. Эти поганцы так же его сейчас интересовали, как позавчерашний ветер.
Почти всем героям Виктор Ремизов дает говорящие имена и фамилии. Подлый до мозга костей майор Гнидюк, уставший от необходимости принимать решения подполковник Тихий, несгибаемый Кобяков (фамилия созвучна с именем половецкого хана Кобяка, мутившего воду в междоусобное время), а также деревенские мужики: свойский Дядь Саша, суетливый Поваренок и другие.
Ситуация, в которой оказался Кобяк, объединяет местных. Руководствуются они не сверхидеей, а, скорее, правилом из песни «Муравейник» Виктора Цоя:
И мы могли бы вести войну
Против тех, кто против нас,
Так как те, кто против тех, кто против нас,
Не справляются с ними без нас.Помогают они с тем же спокойным упорством, с каким распутывают сети или ставят капканы на соболя. В этих краях время течет медленнее, а проблемы вечности превращаются в песчинки.
Брат недавно вернулся с Кольского полуострова. Там тоже тайга. При въезде на его участок помор предупреждает: «В пятистах метрах отсюда живет мишка, но я ему брошу тюленью тушу, и он вас не тронет». Местные жители говорят медленно, тщательно произносят каждое слово: их жизнь расписана на годы вперед — торопиться некуда. По меркам обитателей тайги, мы, городские, движемся со сверхзвуковой скоростью, но вряд ли знаем, куда придем.
Только детские книги писать
- Виктор Пелевин. Любовь к трем цукербринам. — М.: Эксмо, 2014. — 446 с.
Лучшая аннотация к новой книге Пелевина принадлежит пользователю, ведущему аккаунт петербургского книжного магазина «Порядок слов» в «Фейсбуке»: «В общем — новый роман от автора предыдущих уже в продаже». Я знаю автора этого поста, это хороший человек.
Словосочетание «новый Пелевин» как-то неловко уже произносить: все примерно представляют, что может быть написано в «Любви к трем цукербринам». Виктор Пелевин создал очень мрачную и вполне традиционную для «себя последнего» книжку. Отмеченное многими рецензентами отставание от трендов, мемов и примет современности в «Цукербринах» настолько вопиюще для автора, как бы выпускающего ежедневную газету раз в год, что кажется намеренным, — но тогда непонятно, зачем вообще какая бы то ни было привязка к современности.
Представляется, что по условиям некого кабального и ростовщического договора этот грустный, умный, глубокий и тонкий человек в 2014 году обязательно должен был написать о «Фейсбуке» и Украине, хотя все уже давно успели это сделать. Невольно вспоминается персонаж из «Жизни насекомых», пожалуй, больше других пелевинских живых существ заслуживающий сострадания: жук-скарабей, обреченный вечно катить перед собой свой круглый навозный Йа.
Ясновидец, названный в романе Киклопом («старинное произношение»), удерживает мир в равновесии, подглядывая и подлатывая дыры в будущем, могущие привести к катастрофам гораздо страшнее тех, что происходят сейчас. Птицы, владеющие миром, хотят убить создавшего их бога, Древнего Вепря, «чтобы у них не было больше никакой причины», и в качестве орудий убийства используют людей. Прямо чувствуется, как автор любит приложение Angry Birds, — всю свою нескончаемую фантазию и мощный изобразительный талант он тратит на то, чтобы в механике мобильной игрушки проступили контуры вечного противостояния Творца, Творения и существ, его населяющих.
В глазах Древнего Вепря застыла бесконечная любовь — и бесконечная печаль. Николаю показалось, что тот похож на старого доброго сапожника, наплодившего много неблагодарных детей, которые ежедневно попрекают его свой бедностью и неустройством — а сапожник только втягивает голову в плечи, стирает попадающие в него плевочки и старается работать шибче, зная, что дети никогда не поймут, какой крест несет их отец, ибо они и есть этот крест…
Пробивает на слезу, если вдуматься.
По сюжету сисадмин Кеша, работающий в офисе сайта Contra.ru (невероятно остроумный намек), троллит знакомых в «Фейсбуке» насчет Украины; черная заэкранная сила порно высасывает жизненные силы из мастурбирующих перед компьютерами людей; наконец, виртуальная реальность захватывает нас по полной программе. Если кто вдруг еще не понял (я сам не сразу догадался), «цукербрин» — это Марк Цукерберг плюс Сергей Брин, которые устроили нам в будущем Матрицу под названием «фейстоп» с разными ужасами: человек подвешен в капсуле, а ему через вживленные в мозг электроды показывают то яркую и приятную, то мрачную и опасную жизнь — все как у нас. Нет, мы-то ее сами себе, конечно, устроили.
Ксю Баба там, например, есть. (Расшифровать?..)
Google Dick и Google Pussy — а раньше, в наше время, поисковик такой был.
Антон Носик зачем-то упомянут, и даже имя Пелевин не стал смешно перевирать, как он это делает с именами других отечественных деятелей культуры.
В конце все взрывается.
Прозорливо и увлекательно, сил нет.
Если серьезно, то удержаться от хамоватого тона в отзыве на новую книгу моего самого любимого писателя я не могу из-за горькой обиды. Ведь после надоевшей мертворожденной конспирологии в самом конце книги появляются сорок страничек такой неожиданной, простой и чистой красотищи, что действительно идут мурашки по спине и появляется комок в горле — и мучительно хочется, чтобы все следующие книги Пелевина были такими.
Души умерших после взрыва в офисе «Контры» героев попадают в маленький рай, созданный ангелом Сперо, который при жизни был тихой девушкой, ухаживавшей за редакционным садом-оранжереей. В этот транзитный Эдем души попадают в виде умных зверей, чтобы отправиться дальше в другие, подходящие именно им миры: Утренник и Качели.
Трогательная детсадовская наивность заключительной главки столь оглушительна, что нельзя не поверить — самый желчный и мрачный писатель современности написал ее совершенно всерьез.Потому что такое не всерьез написать нельзя:
В пещере живет уж. Но запертые там овечки думают, что там гадюка. Этот уж то и дело проползает мимо овечек, а их трясет от страха, когда они слышат шуршание в сухой траве… Ужу не хочется никого пугать, ему самому жутко. Он не понимает, в чем дело, и просто мечется по своей пещере от страха. И вместе они создают такой выброс ужаса, что его невозможно не заметить издалека.
Ангела, рассказывающего это, при жизни звали Надеждой. Пелевин все-таки выговорил это слово. Теперь — только детские книги писать.
Мелодия прошлого лета
- Алексей Никитин. Victory Park. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 376 с.
Случилось так, что заголовок «Как я провел это лето» уже давно перестал быть темой школьного сочинения и превратился в идею для отчетной заметки в социальных сетях. Альбомы с пляжными снимками, эстафеты рассказов об отдыхе в трех словах и многочисленные песни о наступающей осени — этим последние две недели до отказа заполнены френд-ленты. Если вы устали следить за тривиальными постами и смотреть одинаковые фотографии, прочтите роман Алексея Никитина «Victory Park».
Время действия: конец мая — начало сентября 1986 года. Место действия: жилой район «Парк „Победа“» в Киеве. Героев всех и не перечислить: студент-физик (в прошлом историк) Пеликан, его возлюбленная (а по совместительству любимица завсегдатаев парка) Ирка, их ровесник Иван Багила, его дед — старый Багила, фарцовщик Белфаст, продавщицы гастронома Катя и Гантеля, химик-технолог Леня Бородавка, криминальный авторитет Алабама, букинист Малевич… Традиционные для Никитина подробные биографические сводки о каждом из них позволяют почувствовать себя дальним родственником в тесном, почти семейном кругу героев романа. Все свои недолгие каникулы они твердят: мы знаем, что вы делали в прошлом веке.
Шутки-прибаутки о «пятнах коммунизма в ультрафиолетовом диапазоне», «ритуалах инициации советскоподданного» и «грехе интеллектуального первородства» сопровождают многонациональных героев, приехавших из Киргизии, Казахстана, Эстонии и Литвы:
— Вы, эстонцы, такие нетерпеливые! — ответил Йонас Бутенас своему другу, Акселю Вайно, когда тот в третий раз намекнул, что вильнюсскую базу Легпищепромоптторга давно уже пора брать.
— Мы не только нетерпеливые, мы еще и быстрые, как балтийский шторм, — согласился подполковник Вайно.Работники проправительственных структур здесь чем-то неуловимо смахивают на героев советского производственного романа, студенты — на повзрослевших крапивинских мальчиков, а покровители подпольной жизни парка словно сошли со страниц уже послеперестроечных детективов. Постепенно разница между художественным миром книги и окружающим миром читателя стирается: мы сейчас точно знаем разве что где найти «левайсы» и «Остров Крым» Аксенова, а вот ответы на более серьезные вопросы мироздания по-прежнему прячутся в безвоздушном пространстве:
Будь другом, достань из моего дипломата еще бутылку, а то не хочется заканчивать разговор вакуумом. При мысли о нем оптимистический ужас, в котором я существую постоянно, сменяется экзистенциальным. А победить его можно только коньяком.
Получившаяся картина увлекает читателя в думы о судьбах родины, которые в совокупности с предыдущими заслугами русскоговорящего украинца Никитина обеспечивают «Victory Park» попадание и в список «Нацбеста», и в лонг-лист «Русского Букера», а также второе место в «Русской премии».
В этом романе Алексей Никитин избавился от почти мистической раздвоенности сюжетных линий, отличавшей повесть «Истеми» и роман «Маджонг», также вышедших в издательстве «Ад Маргинем Пресс», но создал неевклидово пространство, в котором параллельные прямые все-таки пересекаются. Автор с деланной простотой описал одну из самых неоднозначных эпох страны, которая, похоже, никогда не была единой. Посмотреть на привычное советское глазами украинцев, прожить маленькую часть чужой жизни — вот что в полной мере позволяет сделать «Victory Park».
Три части книги — словно три месяца лета. Каждый герой — друг из дворовой компании, парень с района. Даже город словно бы тот, в котором прошло детство. Это не книга. Это песня — о прекрасном и далеком.