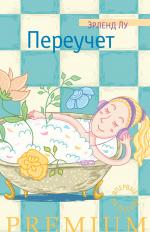- Сью Монк Кидд. Обретение крыльев. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014.
В декабре в издательстве «Азбука» впервые на русском языке выйдет книга американской писательницы Сью Моник Кидд «Обретение крыльев». Действие в романе развивается на протяжении тридцати пяти лет. На долю двух героинь, принадлежащих к разным социальным слоям, но связанных одной судьбой, выпадут тяжелейшие жизненные испытания: предательство, разбитые мечты, несчастная любовь. Но с юных лет героини верят, что они способны изменить мир. Они надеются, что обретут крылья, о которых когда-то в детстве толковала матушка.
Хетти Гримке Подарочек Давным-давно в Африке люди умели летать. Я услышала эту историю от матушки, когда мне было десять. Однажды вечером она сказала:
— Хетти, твоя бабка сама видела. Говорила, будто видела летящих над деревьями и облаками людей. Приехав сюда, мы утратили прежнюю магию.
Матушка была сама мудрость. Ее, в отличие от меня, не учили читать и писать — обучила сама жизнь, подчас немилосердная.
— Не веришь? — Она взглянула в мое недоверчивое лицо. — Тогда откуда у тебя это, девочка? — И похлопала по моим выпирающим костлявым лопаткам. — Все, что осталось от крыльев. Сейчас это лишь плоские косточки, но когда-нибудь у тебя вновь вырастут крылья.
Я не уступала матушке в уме и сообразительности. Даже в десять лет понимала, что история про летающих людей — полная чушь. Мы вовсе не особенный народ, утративший магию. Мы — рабы, которые никуда не денутся от своих цепей. Лишь позже я осознала, что она имела в виду: летать мы все- таки умели, но в этом не было никакого волшебства.
* * * День прошел как обычно. Я кипятила постельное белье рабов на заднем дворе, следя за огнем под чаном с водой. Глаза жгло от капель щелока. Утро выдалось холодным, и солнце напоминало маленькую белую пуговицу, притороченную к небу. Летом мы поверх панталон носили домотканые хлопчатобумажные платья, а когда вдруг в ноябре или январе в Чарльстон ленивой девчонкой заявлялась зима, мы облачались в саки — платья из толстой пряжи. Старые хламиды с рукавами. Моя доходила мне до лодыжек. Не знаю, сколько немытых тел она прикрывала, прежде чем попасть ко мне, но запахами пропиталась всевозможными.
Утром госпожа успела разок пройтись тростью по моей спине за то, что я заснула во время чтения молитв. Каждое утро все рабы, кроме старой чокнутой Розетты, набивались перед завтраком в столовую и, борясь со сном, повторяли за госпожой короткие стихи — вроде «Возрыдал Иисус» — из Библии. Еще она громким голосом молилась о смирении, столь любимом Богом. Но стоило начать клевать носом, и ты получала звонкую затрещину посреди Божеских изречений.
От обиды меня подмывало надерзить рабыне по прозвищу Тетка.
— Да минует меня чаша сия, — повторила я за госпожой и добавила: — Иисус рыдал, потому что, как и мы, оказался здесь вместе с госпожой.
Тетка была поварихой и знала госпожу с пеленок. На пару с дворецким Томфри она заправляла делами и — единственная из нас — могла, не опасаясь удара тростью, посоветовать что-то госпоже. Матушка велела держать язык за зубами, но я не слушалась, а потому Тетка лупила меня по заду по три раза на дню.Я была тот еще подарочек. Впрочем, звали меня иначе. Подарочек — «корзиночное» имя. Настоящее же давали господин и госпожа. А мать посмотрит, бывало, на чадо в корзине, и взбредет ей на ум какое-нибудь имя — то ли разглядит что-то в облике ребенка, то ли подумает о дне недели, или погоде за окном, или даже о мире в целом. Мою матушку при рождении нарекли Лето, а по-настоящему — Шарлотта. У нее был брат, которого в корзине назвали Мучение. Люди думают, я все сочиняю, но это чистая правда.
Человек с «корзиночным» именем, по крайней мере, получал что-то от матери. Господин Гримке назвал меня Хетти, а матушка, взглянув впервые, подумала о том, как же быстро я родилась, и нарекла Подарочек.
В тот день, пока я помогала Тетке на заднем дворе, матушка трудилась в доме над платьем из золотистого сатина с турнюром для госпожи. Она слыла в Чарльстоне лучшей швеей, все пальцы у нее были исколоты иглой. Вам вряд ли доводилось видеть такие наряды, которые мастерила моя матушка, и она не пользовалась готовыми выкройками, терпеть их не могла. Сама выбирала на рынке шелк и бар- хат и обшивала семейство Гримке — оконные шторы, стеганые халаты, кринолины, штаны из оленьей кожи, а также нарядная экипировка жокеев для Недели скачек.
Вот что я вам скажу: белые люди жили ради Недели скачек. Пикники, балы и всяческие развлечения шли бесконечной чередой. Во вторник устраивался прием у миссис Кинг, в среду — обед в жокейском клубе. В субботу гремел бал Святой Цецилии, для которого господа берегли лучшие наряды. Тетка говорила, что Чарльстон помешался на роскоши.
Госпожа была низенькой женщиной с полной талией и мешками под глазами. Она не разрешала моей матушке работать на других дам, хотя те умоляли ее, и матушка тоже, надеясь оставить себе часть жалованья. Но госпожа говорила: «Не могу допустить, чтобы ты делала что-то для них лучше, чем для нас». Вечерами матушка рвала материю на полосы для лоскутных одеял, я же одной рукой держала сальную свечу, а другой сортировала полоски по цветам. Она обожала яркие тона, находила неожиданные сочетания — фиолетовый с оранжевым, розовый с красным. А еще любила треугольники. Черные. Нашивала их почти на каждое лоскутное одеяло.
У нас были свои маленькие сокровища — деревянная шкатулка для лоскутков, мешочек для иголок и ниток и настоящий латунный наперсток. Матушка говорила, что однажды он станет моим. Когда она не работала с наперстком, я носила его на кончике пальца, словно драгоценность. Мы набивали лоскутные одеяла хлопком-сырцом и обрывками шерсти. И перьями, они лучшая набивка, и мы не пропускали на земле ни одного пера. В иные дни матушка приходила с карманами, полными гусиного пуха, надерганного из дыр в матрасах. Когда нечем было набить одеяло, мы обдирали длинные плети мха с дуба, что рос во дворе, и вшивали их между подкладкой и верхом — с клещами и прочей гадостью.
Мы с матушкой обожали возиться с лоскутными одеялами.
Какой бы работой ни загружала меня Тетка во дворе, я то и дело поглядывала на верхний этаж, где шила матушка. У нас был условный сигнал: я переворачивала ведро вверх дном и ставила его около кухни — это означало, что все спокойно. Матушка откроет, бывало, окно и бросит ириску, стащенную из комнаты госпожи. Иногда прилетала связка тряпичных лоскутков — премиленький набивной ситец, полосатая или клетчатая ткань, муслин, привозное полотно. Один раз — даже латунный наперсток. Больше всего матушке нравилось таскать ярко-красные нитки. Отмотает, бывало, себе ниток, засунет в карман и отправится с ними на прогулку.
В тот день на дворе кипела работа, и я даже не надеялась, что с неба посыплются ириски. Мария, рабыня-прачка, обожгла руку углем из утюга, и ее пришлось отправить восвояси. Тетка бесилась из-за задержки стирки. Томфри велел мужчинам забить свинью, а та с ужасным визгом носилась по двору. Охотились на хрюшку все — начиная со старого кучера Снежка и заканчивая уборщиком конюшен Принцем. Томфри хотел поскорей разделаться со свиньей, потому что госпожа терпеть не могла галдежа во дворе.
Гвалт входил в ее список рабьих грехов, который мы знали наизусть. Номер первый — воровство. Номер второй — неповиновение. Номер третий — лень. Номер четвертый — гвалт. Считалось, что раб должен быть Святым Духом — его не видно, не слышно, но он всегда под рукой.
Госпожа окликнула Томфри, велев навести порядок, — мол, леди не обязательно знать, откуда берется бекон. Услышав это, я сказала Тетке: «Госпожа не знает, с какой стороны бекон входит и с какой выходит». И получила от Тетки затрещину.
Вооружившись длинной палкой, которая называлась у нас боевой дубинкой, я выуживала из котла покрывала и развешивала их на перекладине рядом с Теткиными травами.
В конюшне сушить белье запрещалось — следовало беречь лошадиные глаза от щелока. Глаза рабов — дело другое. И я принялась изо всех сил колотить палкой по простыням и одеялам — «выколачивать грязь».
Закончив со стиркой, я освободилась и смогла насладиться грехом номер три. Пошла по тропинке, которую протоптала за день, пока сновала туда- сюда — от задворков усадьбы, мимо кухни и прачечной, в сторону раскидистого дерева. Некоторые его ветви были толще моего туловища, и каждая из них закручивалась, как лента из шкатулки. Злые духи летают по прямой, а на нашем дереве — ни одной не изогнутой веточки. Когда донимала жара, мы, рабы, собирались под его сенью. Матушка всегда говорила: «Не сдирай серый мох, а то дерево не защитит нас от солнца и любопытных глаз».
Обратный путь проходил мимо конюшни и каретного сарая. Тропинка из знакомой мне карты. Говорят, в доме хозяев есть глобус, на котором обозначена остальная часть мира, но я его ни разу не видела. Я брела и мечтала о том, чтобы нас с матушкой отпустили в родную каморку без окна, ютившуюся над каретным сараем. В нее из конюшни и коровника поднимался такой густой навозный дух, что казалось, тюфяки набиты им, а не соломой. Комнатушки прочих рабов размещались над кухней.
Налетел порыв ветра, и я прислушалась к щелканью парусов в гавани по ту сторону дороги. Никогда не ходила туда, но временами ветер доносил запахи. Паруса затрещат, бывало, как щелкающий бич, и все мы навострим уши, гадая — то ли на соседнем дворе секут раба, то ли перед отплытием корабль паруса расправляет. Если раздавались вопли — мы получали ответ.
Солнце скрылось, оставив в облаках складку, словно пуговица оторвалась. Я взяла боевую дубинку и ни с того ни с сего воткнула ее в тыкву, растущую в огороде. После чего швырнула через ограду серый орех, он с треском стукнулся о землю.
Затем наступила тишина. Из задней двери раздался голос госпожи:
— Тетка, сейчас же приведи ко мне Хетти. Я пошла в дом, готовясь к взбучке за тыкву.
Сара Гримке В день моего одиннадцатилетия мама перевела меня из детской. Целый год я мечтала избавиться от фарфоровых кукол, волчков и крошечных чайных сервизов, разбросанных по полу, равно как и от выставленных в ряд маленьких кроватей, — от всего этого бедлама. Но теперь, когда долгожданный момент настал, я медлила на пороге новой комнаты. Обитая темными панелями, она пропиталась запахом моего брата — запахом дымка и кожи. Дубовая кровать с балдахином из красного бархата, возвышаясь на массивном остове, казалась ближе к потолку, чем к полу. Меня сковал страх при мысли о том, что я буду жить в такой громадине.
Собравшись с духом, я ринулась через порог. Таким безыскусным способом я брала барьеры девичества. Все считали меня отважной девочкой, но на самом деле я была не такой уж бесстрашной, скорее отличалась черепашьим нравом: встретив на пути опасность, норовила замереть и затаиться. «Если тебе суждено оступиться, делай это дерзко» — такой девиз придумала я для себя, до сих пор он помогал мне преодолевать пороги.
Все утро с Атлантики дул холодный свежий ветер, разнося по небу облака. На несколько мгновений я замерла в комнате, прислушиваясь к шуму длинных листьев карликовых пальм. Скрипели карнизы веранды. Стонали цепи над крыльцом. Внизу, в кухне, мать командовала рабами, которые, готовясь к празднованию моего дня рождения, доставали из шкафов китайские соусники и веджвудовские чашки. Горничная Синди потратила не один час на смачивание и завивку маминого парика, по лестнице поднимался кисловатый запах паленых волос.
Я смотрела, как Бина, наша няня, складывает в старый массивный шкаф мои вещи. Вспомнилось, как она качала колыбель Чарльза, помогая себе каминной кочергой, как звенели на ее руках браслеты из ракушек каури, как она пугала нас сказками о Буге Га — старухе, летающей на метле и высасывающей жизнь из непослушных детей. Мне будет не хватать Бины. И милой Анны, спавшей с большим пальцем во рту. И Бена с Генри, любивших до одури прыгать на кроватях, пока матрасы не взрывались фонтанами гусиных перьев. И маленькой Элизы, прятавшейся у меня в кровати от ужасной Буги.
Разумеется, мне давно следовало переселиться из детской, но пришлось ждать, пока Джон не уедет в колледж. Наш трехэтажный дом считался самым большим в Чарльстоне, но все равно не хватало спален, спасибо… гм… плодовитости матери. У нее было десять детей: Джон, Томас, Мэри, Фредерик, я и обитатели детской — Анна, Элиза, Бен, Генри, малютка Чарльз. Мама говорила, что я не похожа на других, отец называл особенной. У меня были ярко-рыжие волосы и веснушки — целые россыпи веснушек. Братья однажды нарисовали углем у меня на щеках и лбу Орион и Большую Медведицу, соединив «солнечные» крапинки. Я не возражала — на несколько часов стала их вселенной.
Все твердили, что я папина любимица. Не знаю, выделял ли он меня среди других или просто жалел, но сам был моим любимцем. Работая судьей в Верховном суде Южной Каролины, он принадлежал к верхушке плантаторского класса, которую в Чарльстоне считали элитой. Он воевал с генералом Вашингтоном, побывал в плену у британцев, но из скромности не рассказывал об этих вещах. Это делала мама.
Ее звали Мэри, и на этом заканчивалось ее сходство с матерью нашего Господа. Ее предки — первые семейства Чарльстона, небольшая компания лордов, которых король Карл послал основать город. Мать не уставала талдычить об этом направо и налево, и в какой-то момент мы перестали в негодовании закатывать глаза. Помимо надзора за домом, кучей детей и четырнадцатью рабами, на ней висел целый ряд общественных и религиозных обязанностей, способных измотать всех королев и святых Европы. Когда я была готова прощать, то говорила, что мать просто измучена, хотя и догадывалась, что она не слишком добра.
Бина разложила гребни и ленты на новом туалетном столике, повернулась ко мне и, заметив мой несчастный вид, поцокала языком:
— Бедная мисс Сара.
Меня всегда раздражало слово «бедная» рядом с моим именем. Впервые я услышала гадкое заклинание Бины в четыре года.
Метка: Современная литература
Сказка о потерянном времени
- Алексей Макушинский. Пароход в Аргентину. — М.: Эксмо, 2014.
Наверное, в конце XXI века будут говорить, что Алексею Макушинскому стоило бы родиться на век раньше. Отменный стилист, автор, чью мелодию можно угадать с двух нот, возводит литературу в разряд изящных искусств и не стесняется работать, руководствуясь лишь одним принципом «искусство ради искусства» и абсолютно не считаясь с такими критериями, как ясность текста, доступность его пониманию читателя; и даже — интересный сюжет.
Роман «Пароход в Аргентину» мог бы стать отличным поводом для пари: кто добрался до последней страницы, тот и выиграл. Другая группа потенциальных читателей должна отправиться туда, где можно отвлечься от всех дел и посвятить себя знакомству с произведением. Лучше всего подойдет Прибалтика, Париж или, собственно, Аргентина — они в книге упоминаются чаще всего.
Главный герой, вернее, герой, о котором ведутся разговоры, — это выдуманный автором архитектор Александр Николаевич Воскобойников, или, на европейский манер, Александр Воско. Он родом из Прибалтики, откуда эмигрировал в начале XX века, некоторое время жил в Европе, в том числе в Париже, пока не отправился руководить строительством в Аргентине. Потом опять вернулся в Европу, где и встретился с рассказчиком, с которым автор недвусмысленно ассоциирует себя (рассказчику даже приписывается первый роман Макушинского «Макс» — даты создания и публикации тоже совпадают!).
В последних главах «Парохода в Аргентину» повествователь размышляет как Наталья Громова, которая в недавно вышедшей книге «Ключ. Последняя Москва» всё пытается понять, почему так важны архивные сведения об очень отдаленно связанных с ней людях. Кто знает, помогла ли двум литераторам архивная работа (у одной — с настоящими архивами, у другого — с вымышленными) разобраться в себе; если да, то подобный вид деятельности вполне можно было бы рекомендовать в качестве психотерапии.
Постарайтесь быть счастливым в жизни, если у вас получится. Это трудно, но если очень постараться, то может ведь и получиться, кто знает?
Главная особенность романа «Пароход в Аргентину» не в том, что автор хотел описать жизнь великого человека на фоне разрушающего всё и вся века, а в том, как он это описал. Макушинский остается верен себе: «Пароход в Аргентину» обладает той же стилистикой, что и предыдущий роман автора «Город в долине». Длина предложений в романах Макушинского запросто может стремиться к бесконечности:
На автострадной стоянке возле Дижона, где мы выпили кофе и поменялись местами, она, разгоняясь, чтобы снова выехать на дорогу, крутя замотанной в шарф головой, проговорила вдруг, что претензия у нее только одна, именно что ее родители сильнее любили друг друга, чем любили ее, — и затем взяла такой разгон, так лихо проскользнула между двумя, впритык друг за другом тащившимися по правой полосе грузовиками, выскочила на левую полосу, и так нагло, совсем не по-французски, скорее в стиле немецких „БМВ“ или „Порше“, принялась наезжать на ненароком подвернувшееся маленькое „Пежо“, покуда „Пежо“ это не убралось, дрожа от страха, направо, что, вцепившись в дверной подлокотник, я уже не пытался продолжить беседу.
Нельзя сказать, чтобы умный читатель не понимал, для чего автор так делает. Умный читатель чувствует, что подобное издевательство вполне обоснованно: в данном случае, например, строение предложения позволяет ощутить динамичность эпизода; в следующий раз предложение примерно такой же длины будет пародировать убийственно научный стиль речи. Умный читатель хочет лишь одного: тишину, кресло, плед и концентрацию на книжке. Увы, чтение этого романа в неподходящих условиях неминуемо провоцирует диссонанс между аудиторией и автором.
Необходимо прочувствовать, насколько филигранно Макушинский работает с языком. Он играет с внутренней формой слова («После тридцати, пишет он в одном месте, жизнь грозит превратиться в рутину, из которой понемногу выпадает затем буква „т“…») и с передачей русского языка иностранцем («Кто-то смотрит дома телевизорную… телевизионную передачу о Прусте…»). В том, как русский рассказчик передает содержание интервью Александра Воско американской журналистке, есть что-то медийное: так сквозь русский перевод прорывается оригинал интервью: «Мой отец, говорит А. Н. В., был родом из города Нижний Ломов (from the town of Nizhny Lomov), можете себе это представить (can You imagine)?..» К месту в этой книге пришлись бы дореволюционные «еры». Наверное, в некоторой степени этот «Пароход в Аргентину» проще было написать, чем прочитать…
Автор хочет занять место в ряду серьезных литераторов. Великое семитомное творение Марселя Пруста, четырехтомная эпопея Льва Толстого — не иначе как эти произведения вдохновляли Алексея Макушинского. Если «Пароход в Аргентину» когда-нибудь войдет в школьную программу, то наверняка пополнит список произведений, которые школьникам хотелось бы из нее исключить.
Эрик-Эмманюэль Шмитт. Попугаи с площади Ареццо
- Эрик-Эмманюэль Шмитт. Попугаи с площади Ареццо. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 576 с.
Один из самых успешных французских писателей Эрик-Эмманюэль Шмитт в своем новом романе «Попугаи с площади Ареццо» задает вопрос о том, что такое любовь, самому себе. Автор разворачивает перед изумленными и заинтригованными читателями настоящий сериал том, «сколько родов любви», доводя каждый микросюжет до кульминации. Поговаривают, оторваться от чтения невозможно.
Часть первая
Благовещение
ПРЕЛЮДИЯ Всякий, кто попадал на площадь Ареццо в Брюсселе, испытывал некое замешательство. Хотя круглую площадь и тенистый газон окаймляли роскошные каменные и кирпичные дома в версальском стиле, а рододендроны и платаны полноправно представляли северную растительность, все же некий намек на тропики щекотал ваши чувства. Нет, не было ничего экзотического ни в этих сдержанных фасадах, ни в высоких окнах с мелкой расстекловкой, ни в балконах с коваными решетками, ни в кокетливых мансардах, сдававшихся внаем за бешеные деньги; ничего экзотического не было и в этом небе, зачастую сером и печальном, чьи облака цеплялись за шиферные крыши.
Оглядевшись по сторонам, вы не поняли бы, в чем дело. Надо было знать, куда смотреть.
Владельцы собак догадывались первыми. Следуя за своей псиной, которая, уткнувшись носом в землю, неистово обследовала участок, они замечали органические остатки, усевавшие все вокруг, — мелкие темные испражнения с белесым гнилостным налетом; тогда собачники задирали голову и замечали в ветвях странные природные сооружения; листву пронизывало квохтанье, то и дело мелькало яркое крыло, многоцветные птичьи вспорхи сопровождались резкими выкриками. Тут-то зеваки и догадывались, что площадь Ареццо населена целой колонией попугаев.
Как эти пернатые, родом из дальних краев — Индии, Амазонии или Африки, — умудрялись привольно жить в Брюсселе, с его скверным климатом? И почему они облюбовали самый фешенебельный квартал?
1 — Женщина уходит от тебя, потому что перестала видеть в тебе достоинства, которыми ты никогда не обладал.
Захарий Бидерман улыбнулся. Его забавляло, что молодой сотрудник, выдающийся интеллектуал с блестящим образованием, наивен, как подросток.
— Встретив тебя, она подумала, что нашла отца своих будущих детей, но дети были тебе не нужны. Она не сомневалась, что займет подле тебя место, равноценное сначала твоим учебным занятиям, затем твоей должности, но ничего подобного не произошло. Твоя жена надеялась, что твои многочисленные знакомства позволят ей сойтись с людьми, полезными для ее карьеры, но в мире политики и финансов певиц не слушают — их затаскивают в постель.
Тут он рассмеялся, хотя его тридцатилетний собеседник сидел с постной физиономией, и воскликнул:
— Да это не брак был, а недоразумение!
— Наверно, во всяком браке таится ошибка? — спросил собеседник.
Захарий Бидерман встал и обогнул стол, поигрывая ручкой из черного каучука, с платиновой окантовкой, на которой поблескивали его инициалы.
— Брак — это договор, в идеале заключенный двумя проницательными существами, которые знают, на что идут. Увы, в наше время люди приходят в мэрию или церковь, как правило, с туманом в голове. Они ослеплены, одурманены страстями, их снедает любовный жар, если они уже сошлись, и нетерпение, если еще не были близки. Мой дорогой Анри, люди, вступающие в брак, очень редко оказываются в здравом уме и твердой памяти.
— То есть вы хотите сказать, что для удачного брака вовсе не нужно быть влюбленным?
— Нашим предкам это было известно. Они заключали союзы с холодной головой и понимали, как важно встать на якорь.
— Никакой романтики.
— В супружестве нет никакой романтики, мой бедный Анри! Романтично увлечение, исступление, пафос, жертва, мученичество, убийство, самоубийство. Строить жизнь на таком фундаменте — занятие сродни возведению дома на зыбучих песках.
За спиной Захария Бидермана попугаи и попугаихи подняли неодобрительный гвалт. Раздраженный их трескотней, экономист толкнул створку окна, распахнутого в дивное весеннее утро.
Анри обвел глазами кабинет, оформленный со строгой роскошью, мебель авторского дизайна, шелковый ковер с абстрактным рисунком, стены, обшитые светлым дубом (работа краснодеревщика столь искусна, что почти незаметна). На западной и восточной стене два наброска Матисса друг против друга, женское лицо и мужское, разглядывали Захария Бидермана. На языке у Анри вертелся вопрос.
Захарий Бидерман насмешливо наклонился к нему:
— Я слушаю ваши соображения, Анри.
— Простите?
— Вы хотите знать о моем союзе с Розой… Но вы парень несколько зажатый и не решаетесь заговорить со мной об этом прямо.
— Я…
— Скажите честно, разве я заблуждаюсь?
— Нет.
Захарий Бидерман подтянул к себе табурет и по-приятельски сел напротив Анри:
— Это мой третий брак. И третий брак Розы. Понятно, что ни она, ни я не хотим морочить друг другу голову. — Он хлопнул себя по ляжке. — Учимся мы только на своих ошибках. На сей раз заключен жизнеспособный союз. Полное взаимопонимание. Я сомневаюсь, что кто-то из нас будет о нем сожалеть.
Анри подумал о том, чтó Захарий Бидерман приобрел, женившись на Розе, — богатство. Потом он сообразил, что экономист, со своей стороны, утолил политические и общественные амбиции Розы: она стала супругой высшего должностного лица, комиссара ЕС по антимонопольной политике, знакомого с главами государств и принятого в этом кругу.
Будто читая мысли Анри, Захарий Бидерман продолжал:
— Супружеский союз — это объединение, столь обремененное последствиями, что следовало бы снять ответственность с заинтересованных сторон и облечь ею людей серьезных, объективных, компетентных — истинных профессионалов. Если распределение ролей в фильме устанавливает кастинг-директор, почему подобной службы нет при составлении супружеских пар? — Он вздохнул, воздев свои удивительные синие глаза к лакированному деревянному потолку. — Нынче в голове у людей жуткая каша. Насмотрелись мыльных опер, вот и глядят на мир сквозь розовые очки. — Бдительно покосившись на часы, он закончил свое сольное выступление: — Короче, мой дорогой Анри, я от души рад, что вы разводитесь. Вы выходите из сумерек и начинаете двигаться к свету. Добро пожаловать в клуб ясновидящих!
Анри покачал головой. Он вовсе не находил эти слова обидными, принимая их с благодарностью и веря в искренность Захария Бидермана, который, несмотря на склонность к сарказму и парадоксу, был не циником, а тонким ценителем ясности: сталкиваясь с изобличением лжи или обмана, он испытывал чистое удовольствие борца за истину.
Захарий Бидерман сел на рабочее место с чувством вины, проговорив на личные темы целых шесть минут. Ценя эти маленькие передышки, на пятой минуте разговора он начинал ощущать, что теряет время впустую.
Утром, в шесть минут десятого, рабочий день Захария Бидермана, как обычно протекавший в его особняке на площади Ареццо, уже наполовину прошел: проснувшись в пять утра, он успел про- работать множество документов, написал с десяток страниц обзора и наметил с Анри приоритетные дела. Бидерман был наделен железным здоровьем и обходился несколькими часами сна; этот гигант излучал энергию, покорявшую окружающих и позволявшую ему, экономисту по образованию, занимать самые высокие посты в структурах европейской власти.
Понимая, что разговор окончен, Анри встал и вежливо кивнул Захарию Бидерману; тот, углубившись в отчет, уже не замечал его присутствия.
Едва Анри вышел, как секретарь, мадам Сингер, улучила минуту и проникла в кабинет. Сухопарая, с почти военной выправкой, затянутая в английский брючный костюм из темно-синего джерси, она встала чуть позади, справа от шефа, и терпеливо ждала, пока он ее не заметит.
— Да, Сингер?
Она протянула ему папку с бумагами на подпись.
— Спасибо, Сингер.
Он называл ее Сингер — так солдат обращается к товарищу по оружию: она не была для него женщиной. Ее формы не могли отвлечь его от занятий, она не склоняла к нему соблазнительного бюста, не обнажала точеных ножек, не вертела аппетитной попкой, за которую хочется ущипнуть. Коротко остриженные тусклые седые волосы, поникшие черты бледного лица, горькая складка губ, никакого парфюма — Сингер была поистине бесполым функционером, и этот облик сопутствовал ей все двадцать лет карьеры. Вспоминая о ней, Захарий Бидерман восклицал: «Сингер — само совершенство!» И Роза была того же мнения, что служило лучшим подтверждением мнения шефа.
Разделавшись с подписанием бесчисленных бумаг, он справился, назначены ли на сегодня встречи.
— Сегодня у вас пять посетителей, — объявила Сингер, — господин Моретти из Европейского Центробанка. Господин Каропулос, министр финансов Греции. Господин Лазаревич, компания «Финансы Лазаревич». Гарри Палмер из «Файнэншиэл таймс». Мадам Клюгер из фонда «Надежда».
— Очень хорошо. Мы отведем каждому по полчаса. С последней разберусь быстрее, тут ставка невелика. Но учтите, Сингер: совершенно недопустимо прерывать какую-либо из этих встреч. Подождите, пока я вас не вызову.
— Конечно, месье.
Это указание повторялось изо дня в день, и все (Сингер в первую очередь) воспринимали его как уважение, проявленное влиятельным человеком в адрес гостя.
Битых два часа он блистал перед посетителями умом. Слушал с неподвижностью крокодила, подстерегающего добычу, потом встряхивался, задавал несколько вопросов и приступал к блестящему, аргументированному и прекрасно выстроенному рассуждению, которое ни один из собеседников не прерывал: во-первых, поскольку Захарий Бидерман говорил негромко и напористо, а во-вторых — признавая интеллектуальное превосходство хозяина. Встречи заканчивались всегда одинаково: Захарий Бидерман брал девственно-чистую карточку, быстро набрасывал на ней фамилии и телефоны, всегда по памяти и без малейших колебаний, похожий на врача, выписывающего рецепт после выяснения симптомов и установления диагноза.
Без пяти одиннадцать, когда ушел четвертый посетитель, Захарий Бидерман ощутил странный зуд. «Может, я голоден?» Не в силах сосредоточиться, он высунулся в приемную, где Сингер восседала за своим письменным столом, и объявил, что отлучится к жене.
Лифт, спрятанный за китайской лакированной панелью, поднял его на верхний этаж.
— Ах, дорогой, какой сюрприз! — воскликнула Роза.
По правде говоря, сюрприза тут никакого не было, потому что Захарий Бидерман заявлялся каждый день в комнаты Розы, чтобы вместе позавтракать, но оба делали вид, что это его внезапный каприз.
— Прости, что беспокою тебя в неурочный час.
Если никому, и даже Розе, не позволялось входить в кабинет Захария Бидермана без вызова, сам он имел право не спрашивая открывать любую дверь своего дома. Роза смирилась, полагая, что доступность является неотъемлемым признаком амплуа любящей супруги, и ее приятно возбуждало, что «неурочный час» всегда приходился на одно и то же время — одиннадцать часов утра.
Она накрыла чайный стол, поставила блюдо с венской сдобой и сластями. Они беседовали, дегустируя угощения; он хватал их и с упоением пожирал, а она, заботясь о фигуре, подолгу грызла единственный финик, придерживая его двумя пальчиками.
Они заговорили о последних событиях, о напряженности на Среднем Востоке. Роза, получившая образование в области политологии, живо интересовалась международным положением; супруги пустились дотошно анализировать ситуацию, выказывая осведомленность; каждый старался удивить другого неизвестной тому подробностью или неожиданным замечанием. Они обожали такие беседы, то было соперничество без проигравших.
Они никогда не заговаривали о личном, ни о детях Розы и ее предыдущих мужьях, ни о детях Захария и его бывших женах, предпочитая по-студенчески беседовать на общеполитические темы, свободные от семейных забот и домашних дрязг. Счастье этой четы шестидесятилетних молодоженов покоилось на забвении прошлых браков и их последствий.
Прервав тираду о положении в секторе Газа, Захарий похвалил миндальное печенье:
— О, какой восторг!
— Ты про черное? Оно с лакрицей. Он проглотил еще одно:
— Откуда это?
— Из Парижа, «Ладюре».
— А вафельки?
— Из Лилля, от Мерка.
— А шоколадные конфеты?
— Ну разумеется, из Цюриха, дорогой! От Шпрюнгли.
— Твой стол напоминает таможенный конфискат.
Роза усмехнулась. Ее мир был предельно сложным. Будь то блюда, вина, одежда, мебель, цветы, она приобретала все самое лучшее, не заботясь о цене.
Ее записная книжка отражала пристрастие к совершенству, тут собрались лучшие представители профессий, будь то обойщик, багетчик, паркетчик, специалист по налоговому праву, массажист, дантист, кардиолог, уролог, туроператор или ясновидящая. Зная, что пребывание на вершинах недолго и опасно, она часто освежала свой список, и это занятие поглощало ее. Будучи расчетливой, она умела казаться легкомысленной, вернее, любила пустяками заниматься всерьез. Единственная дочь успешного промышленника, она с равным усердием вела домашнее хозяйство и анализировала графики безработицы или палестино-израильский конфликт.
— Твои лакомства по-прежнему самые аппетитные из всех, что я пробовал, — объявил он, погладив ее по щеке.
Роза поняла намек и мигом села к нему на колени. Он прижал ее к себе, глаза его заблестели; они потерлись носами, и она ощутила его желание.
Она поерзала на коленях у мужа, еще больше заводя его.
— Ах ты, мужлан неотесанный! — выдохнула она.
Он впился ей в губы и проник языком в ее рот, она отвечала ему тем же; их поцелуй был долгим и жадным, с привкусом лакрицы.
Потом он слегка отстранился и шепнул:
— У меня встреча.
— Жаль…
— Ты можешь подождать меня.
— Я знаю, — прошептала она, не открывая глаз. — Дыши глубже, пока спускаешься в лифте, а то встреча пройдет неудачно.
Они заговорщически рассмеялись, и Захарий Бидерман вышел.
Роза сладостно потянулась. С Захарием она переживала вторую молодость, вернее, свою подлинную молодость, поскольку та, первая, была слишком строгой и сдержанной. Теперь, в шестьдесят лет, она наконец обрела тело — тело, которое Захарий обожал, до которого был лаком и охоч, которому платил дань ежедневно, а то и чаще. Она знала, что в семь вечера он вернется с заседания и набросится на нее. Подчас он бывал груб, и она гордилась синяками и ссадинами, считая их трофеями своей сексуальной привлекательности. Эта ночь, наверно, снова будет бурной. Кто из ее подруг мог бы таким похвастаться? Которой из них столь же часто овладевал мужчина, да еще так неистово? Для прошлых мужей она не была такой желанной. Только теперь она расцвела и прямо-таки излучала счастье.
Набив брюхо сластями, Захарий Бидерман вернулся в кабинет более умиротворенным, хотя сердце еще колотилось и возбуждение не улеглось. Он поднял трубку внутреннего телефона:
— Сингер, есть еще посетители?
— Госпожа Клюгер из фонда «Надежда».
— Предупредите ее, что на встречу с ней я отвожу десять минут. В одиннадцать двадцать пять шофер везет меня в Комиссию.
— Хорошо, господин Бидерман, скажу.
Захарий Бидерман подошел к окну и выглянул на площадь Ареццо; на ближайшем дереве у попугаев возник переполох: два самца повздорили из-за самки, которая не желала сделать собственный выбор, и по ее очевидной растерянности можно было заключить, что она ждет исхода поединка.
— Ах ты, шлюшка! — пробурчал он себе под нос.
— Госпожа Клюгер! — торжественно объявила его спине Сингер.
Развернувшись, Захарий Бидерман увидел перед дверью, которую закрыла Сингер, крупную женщину в черном приталенном костюме — вдовий прикид.
Он смерил ее взглядом, улыбнулся одними глазами и важно произнес:
— Подойдите.
Женщина подошла на неправдоподобно высоких каблуках, раскачивая бедрами так, что вдовий образ развеялся как дым. Захарий вздохнул:
— Вам сказали? У меня только семь минут.
— Это ваш выбор, — ответила она.
— Если вы владеете вопросом, семи минут достаточно.
Он сел и расстегнул ширинку. Мнимая вдова встала на колени и с профессиональным проворством занялась им. Через шесть минут Захарий Бидерман испустил сдержанный стон, привел себя в порядок и благодарно кивнул ей:
— Спасибо.
— К вашим услугам.
— Госпожа Симон уладит детали.
— Так и предполагалось.
Он проводил ее до дверей и почтительно распрощался с ней, обескуражив Сингер, затем вернулся к себе в кабинет.
Нервозности и усталости как не бывало. Он был бодр и готов к бою. Уф, день может продолжаться в намеченном ритме.
— Три минуты, у меня три минуты, — замурлыкал он на веселенький мотивчик, — три минуты, а потом — в Берлемон.
Он схватил личную почту и просмотрел ее. Два приглашения и один необычный бледно-желтый конверт. Внутри сложенный пополам листок с таким содержанием: «Просто знай, что я тебя люблю. Подпись: ты угадаешь кто».
Он в ярости сдавил голову руками. Какая идиотка отправила ему это послание? Какая из его прежних любовниц могла придумать эту глупость? Шинейд? Виргиния? Оксана? Кармен? Довольно! У него больше не будет долгих связей! Женщины рано или поздно привязываются, начинают демонстрировать «чувства», и им уже не выбраться из этой липкой патоки.
Он взял зажигалку и сжег листок.
— Да здравствуют жены и шлюхи! Только эти женщины держат себя в руках.
Джонатан Литэм. Сады диссидентов
- Джонатан Литэм. Сады диссидентов / Пер. с англ. Т. Азаркович. — М.: АСТ: CORPUS, 2015. — 586 с.
Американский писатель, автор девяти романов и коротких рассказов и эссе Джонатан Литэм создал монументальную семейную сагу «Сады диссидентов». История трех поколений «антиамериканских американцев» Ангруш — Циммер — Гоган собирается, как мозаика, из отрывочных воспоминаний множества персонажей. В этом романе, где эпизоды старательно перемешаны и перепутаны местами, читателям предлагается самостоятельно восстанавливать хронологию и логическую взаимосвязь событий.
Глава 1
Два судилища
Кончай спать с черным копом — или вылетишь из коммунистической партии. Таков был ультиматум — нелепое резюме того выговора, который вынесла Розе Циммер клика, собравшаяся на кухне у нее дома, в Саннисайд-Гарденз, в тот вечер, поздней осенью 1955 года.
Ей позвонил Сол Иглин, главный коммунист, и сообщил, что с ней желает встретиться «комитет». Нет-нет, они будут рады, даже счастливы, сами зайти к ней, сегодня же вечером, после своего совещания неподалеку от Гарденз. В десять — не слишком поздно? Это был не вопрос — приказ. Да, Сол понимает, как устает Роза на работе, понимает, как много значит для нее сон. Обещал, что надолго они не задержатся.
Как же это случилось? Легко. Даже обыденно. Такое случалось каждый день. Любой мог запросто вылететь из партийных рядов, если сморкался или моргал подозрительно часто. А теперь, после стольких-то лет, настал и Розин черед. Она приоткрыла окно кухни, чтобы услышать их шаги. Сварила кофе. До нее доносились голоса обитателей коммунальных проулков Гарденз: курильщиков, любовников, обиженных на кого-то подростков. Уже несколько часов, как наступила зимняя тьма, но сегодня, в этот ранний ноябрьский вечер, воздух казался на удивление благоуханным и ласковым, будто земля напоследок решила вспомнить ушедшее лето. Окна в чужих кухнях тоже были распахнуты, и в переулках сливались в общий гул разные голоса — голоса многочисленных Розиных врагов, немногих друзей и еще многих, многих других, кого она просто терпела. Однако все они были ее товарищами. И все, даже настроенные против нее, испытывали к ней должное уважение. Вот этого самого уважения и собирались ее лишить комитетчики, уже переступавшие порог кухни.
Их было пятеро, считая Иглина. Вырядились все чересчур парадно — в жилеты и пиджаки, а теперь рассаживались на Розиных стульях, будто сойдя с типичного образчика советской живописи, — они принимали такие позы, словно собирались приступить к некоему интеллектуальному действу: к погоне за химерой, к выяснению отношений диалектическим методом, тогда как никакой диалектики тут не было и в помине. Одна лишь диктатура. И подчинение диктату. Но Роза все-таки готова была их простить. Эти люди — все, кроме Иглина, — слишком молоды, им не довелось, как ей, пережить интеллектуальные кувырки тридцатых годов, они не видели рождения европейского фашизма и Народного фронта; во время войны они были еще детьми. Они просто трутни — люди, нацепившие костюмы независимой мысли, но ставшие рабами партийного «группояза». Никто из них не имел никакого веса, кроме единственного независимого и вдумчивого человека — истинного и авторитетного организатора, к тому же вхожего в производственные цеха — Сола Иглина. Иглин, надевший сегодня галстук-бабочку, уже настолько облысел, что волосы, как зимнее солнце, закатились за высокую дугу его черепа. И только Иглин — один из всех — вел себя как настоящий мужчина: он не глядел ей в глаза. Один только он ощущал стыд от всего происходившего.
Таков был коммунистический обычай, коммунистический обряд: домашнее судилище, когда почтенные линчеватели пользуются твоим гостеприимством, и одновременно швыряют гранату партийной политики в твои убеждения, и берутся за нож, чтобы намазать тост маслом, а вместо этого отрезают тебя от всего того, чему ты отдал всю жизнь. Пускай это можно было бы счесть коммунистическим обычаем и обрядом, но нельзя сказать, что явившиеся юнцы поднаторели в подобных действах или чувствовали себя в своей тарелке. Зато Роза была ветераном по этой части: восемь лет назад она уже проходила подобное судилище. Они сидели и потели — она же ощущала только усталость от их смущенного похмыкиванья и покашливанья.
Заявившаяся к ней живопись говорила о посторонних пустяках. Один молодой человек нагнулся и рассматривал Розин алтарь Авраама Линкольна — столик на трех ножках, где красовались давнишний шеститомник Карла Сэндберга, помещенная в рамку фотография, запечатлевшая Розу с дочерью у статуи мемориала Линкольна в Вашингтоне, и памятная фальшивая центовая монета величиной с кружок ливерной колбасы. У этого молодого человека были светлые волосы, как у Розиного первого мужа — вернее, единственного мужа, и все-таки мысленно Роза постоянно допускала эту неточность, словно впереди ее ожидала некая новая жизнь, требовавшая расстановки номеров. Молодой человек с идиотским видом взвесил медальон на ладони и, склонив голову набок, будто проникшись уважением к весу этой вещицы, вдруг обнаружил достойный способ приступить к разговору.
— Значит, Старина Эйб? — сказал он.
— Положите на место.
Он обиженно поглядел на Розу.— Нам известно, миссис Циммер, что вы ярый борец за гражданские права.
Как и можно было ожидать в подобный вечер, каждое замечание попадало в точку — вольно или невольно. Вот, значит, преступление, которое партия решила вменить в вину Розе: излишнее рвение в борьбе за равноправие негров. В тридцатые годы ее назвали бы — как позже стали выражаться враги красного движения — преждевременной антифашисткой. А сейчас? Чересчур пылкой поборницей эгалитаризма.
— У меня было несколько рабов, — сказала Роза, — но я их освободила.
В лучшем случае, это был тычок в сторону Сола Иглина. Разумеется, молодой человек этого не понял.
И тут, как и ожидалось с самого начала, в разговор вступил Иглин, чтобы «управиться» с Розой.
— А где Мирьям? — спросил он.
Как будто то, что он знал, как зовут дочь Розы, каким-то образом сглаживало неловкость от непрошеного вторжения в ее жизнь. Он не был ни другом, ни врагом, хотя прежде они с Розой сотни раз ощупывали друг друга в темноте. Сейчас Иглин выступал просто вкрадчивым посредником, безучастным проводником партийной политики. Сегодня ей было явлено четкое доказательство — будто она нуждалась в таких доказательствах! Оказывается, можно приютить мужчину у себя в постели, в собственном теле, научиться играть на его нервной системе, как Падеревский на клавишах, — и ни на дюйм не сдвинуть его ум, завязший в бетоне догмы.
Или, если уж на то пошло, в бетоне полицейских будней.
Кстати сказать, ни одного, ни другого мужчину ей так и не удалось разлучить с женой.
Роза ответила, пожав плечами:
— Она сейчас в таком возрасте, что вечно где-то пропадает, а где именно — мне неизвестно.
Мирьям, чудо-ребенку, исполнилось пятнадцать. Перепрыгнув через один класс, она уже второй год училась в средней школе и практически не появлялась дома. Мирьям проводила время у друзей и в университетской столовой Куинс-колледжа, флиртуя с разными умниками, евреями и неевреями, — с мальчишками, которые еще пару лет назад чесали себе яйца и шлепали друг друга скатанными в трубочку комиксами где-нибудь на табуретах в прохладительных кафе или в вагонах надземки. С такими мальчишками, которые внезапно умолкали и даже принимались дрожать, когда оказывались рядом с Розой Циммер.
— Заигрывает с кузеном Ленни?
— Сол, одно могу сказать тебе точно: она где угодно, но только не с кузеном Ленни.
Надо сказать, именно Розин троюродный брат, Ленин Ангруш, подарил ей когда-то тот поддельный огромный центовик. Он называл себя нумизматом. Чтобы Ленни пользовался успехом у пятнадцатилетней Мирьям? Мечтать не вредно.
— Давайте не тратить время попусту, — предложил тот молодой человек, который перебирал ее линкольновские реликвии.
Розе не следовало недооценивать брутальную мощь молодости: у него она имелась. Иглин не являлся единственной силой в этой комнате только потому, что Роза видела в нем единственную силу, которую сама готова была признать. Этот молодчик явно стремился выделиться — похоже, соперничая с остальными и претендуя на статус протеже Иглина. Причем это служило лишь прелюдией: со временем он нанесет удар в спину самому Иглину. В этом можно было не сомневаться.
Да уж, бедняга Сол. Все еще по уши в параноидальном навозе.
Роза принялась разливать кофе компании этих смельчаков, которые пришли заявить, что она выбрала себе не того негра. Они заговорили, и ей, пожалуй, следовало прислушаться к их вердикту. Решено было не доводить дело до исключения из партийных рядов, однако Роза отныне лишалась привилегии секретарствовать на встречах с профсоюзными чиновниками, включая профсоюз на ее собственном рабочем месте, в «Риалз Рэдиш-н-Пикл». Значит, у нее отнимают последние партийные обязанности. Там, в «Риалз», Роза с наслаждением несла почетную службу в полной ужаса тишине, пока ее неуклюжие товарищи запугивали рабочих, чьи трудовые будни, чья сплоченность, рождавшаяся, когда они стояли бок о бок, погрузив руки по локоть в чаны с холодным рассолом, и посрамляли любые абстрактные рассуждения этих позеров-организаторов, которые, напялив аккуратные подтяжки и штаны из шотландки без единой складочки, просто не понимали, что выглядят в этих шутовских костюмах пролетариев глупее некуда, будто вырядились на Хэллоуин.
Да кто они вообще такие — эти люди, заявившиеся к ней в квартиру? Пусть катятся ко всем чертям!
И все же привычная Розина ярость была несоразмерна случаю. Шайка этих моральных бандитов, рассевшихся у нее на кухне, включая Иглина, словно уплыла куда-то вдаль, и голоса их притихли. Всё разворачивалось словно по готовому сценарию, и казалось, это происходит не с ней, а с кем-то другим. Одноактная пьеса, достойная театральной труппы социалистов из Саннисайд-Гарденз, поставленная прямо на Розиной кухне. Главную роль исполняло тело Розы — ведь шла речь о поведении этого самого тела, — но не более того. Душа — если только в ее теле еще оставалась душа — здесь не участвовала. Розы здесь уже не было. Это отлучение, похоже, было делом давно решенным. Роза подогрела и стала вновь разливать кофе в мейсенский фарфор свекрови своим линчевателям, несмотря на то, что те совали нос в ее, Розину, половую жизнь. Пускай даже делали это в выражениях, достаточно уклончивых, чтобы им самим не сгореть со стыда. Им — но не ей. По сути, учили ее, с кем спать. Точнее, с кем не спать. Или — велели вообще ни с кем не спать. Не заключать союзов солидарности в стенах собственной спальни с мужчинами, которые, в отличие от них самих, обнаруживали достаточную стать и самообладание, чтобы желать Розу, чтобы относиться к ней без почтения.
Потому что эти-то люди, оккупировавшие Розину кухню, хоть и явились сюда с палаческой миссией, были трогательно почтительны: они испытывали уважение к Розиной силе, к ее биографии, к обхвату ее груди, что был вдвое шире, чем у каждого из них. Она ведь участвовала в марше протеста в день рождения Гитлера на Пятой авеню, а американские коричневорубашечники швырялись в нее гнилыми овощами. Она устраивала демонстрации в защиту чернокожих чуть ли не раньше, чем те сами начали их устраивать. Нести неграм революцию — это здорово! А вот привечать у себя в постели одного конкретного чернокожего копа — совсем не здорово. Ох уж эти лицемеры! Из тумана их болтовни снова и снова неизменно всплывало слащавое словцо — «связи». Они обеспокоены ее связями. Они имели в виду, разумеется, одну связь — союз ее стремительно стареющего еврейского коммунистического влагалища с крепким и любвеобильным членом черного лейтенанта полиции.
Между тем Роза спрашивала своих визитеров с видом полоумной официантки-зомби: вам с молоком или со сливками? С сахаром? А может быть, вам нравится черный? Мне тоже нравится черный. Она успела прикусить язык, острота так и не прозвучала. По секретарской привычке она вела запись. Стенографировала собственное судилище как чужое в далеком воображаемом блокноте. Стенограмма — пускай даже мысленная — это движение пальцев, царапающих закорючки на бумаге, почти минуя сознание стенографистки. Вот Роза Циммер, урожденная Ангруш, бич Саннисайд-Гарденз. Ей бы измолотить бойцовскими кулаками эти податливые тени, заполонившие ее кухню, эти жуткие тени партийной догмы. А ей безразлично. Да уж, это второе судилище — просто жалкая пародия на первое. Вот то первое — было нечто. Но тогда Роза являлась важной фигурой в американском коммунистическом движении. Тогда она состояла в важном коммунистическом браке, и ей предстоял важный коммунистический развод. Тогда она была молода. Сейчас — увы, нет.
Вдруг воображаемая ручка прекратила царапать воображаемый блокнот. Роза еще больше удалилась от событий, происходивших на ее глазах, от своей теперешней жизни, грозившей вот-вот рухнуть под натиском беспорядка.
— Иглин? — вопросительно произнесла она, обрывая монотонный, пересыпанный намеками бубнеж.
— Да, Роза?
— Выйдем отсюда.
Последовал обмен тревожными взглядами, но Иглин успокоил соратников, шевельнув бровями, — совсем как дирижер, взмахнув своей палочкой, заставляет оркестр умолкнуть. А потом они с Розой вышли на свежий воздух, в открытый двор Гарденз.
Пьер Леметр. До свиданья там, наверху
- Пьер Леметр. До свиданья там, наверху / Пер. с французского Д. Мудролюбовой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 544 с.
Историко-психологический роман «До свиданья там, наверху» Пьера Леметра, получившего за него в 2013 году Гонкуровскую премию, наконец переведен на русский язык. Выжить на Первой мировой, длившейся четыре года, — огромное везение. Так почему герои романа, художник Эдуар и его друг Альбер, чудом уцелевшие в кровавой бойне, завидуют павшим товарищам? Тогда как хладнокровно распоряжавшийся их жизнями капитан Анри д’Олнэ-Прадель с легкостью зарабатывает миллионы на гробах.
НОЯБРЬ
19181 Все те, кто думал, что война скоро закончится, уже давно умерли. На войне, разумеется. Вот почему в октябре Альбер достаточно скептически воспринял слухи о Перемирии. Он доверял им не больше, чем распространявшимся вначале пропагандистским утверждениям о том, что пули бошей настолько мягкие, что, как перезрелые груши, расплющиваются о форму, заставляя французских солдат взвизгивать от смеха. За четыре года Альбер повидал целую кучу тех самых скончавшихся от смеха, получив немецкую пулю. Он, конечно, отдавал себе отчет, что отказ поверить в то, что Перемирие вот-вот наступит, сродни магической уловке: чем сильнее надеешься на мир, тем меньше веришь в перемены, которые его предвещают, — чтобы не сглазить. Однако волны вестей о грядущем Перемирии день ото дня становились все упорнее, и уже повсюду твердили, что войне, похоже, скоро конец. Даже печатались призывы — совсем уж маловероятные — демобилизовать старослужащих, которые уже несколько лет тянут лямку на фронте. Когда наконец перспектива Перемирия стала реальной, даже у самых закоренелых пессимистов забрезжила надежда выбраться живыми. В результате в наступление никто особенно не рвался. Говорили, что 163-му пехотному дивизиону предстоит попытаться переправиться через Маас. Кое-кто еще поговаривал о том, что надо расправиться с неприятелем, но в целом в низах, если смотреть со стороны Альбера и его товарищей, после победы союзников во Фландрии, освобождения Лилля, разгрома австрияков и капитуляции турок фанатизма сильно поубавилось, чего не скажешь об офицерах. Успешное наступление итальянских войск, взятие Турнэ англичанами, а Шатийона американцами… словом, было понятно, что лед тронулся. Многие войсковые части принялись намеренно тянуть с наступлением, четко обозначилось разделение на тех, кто, как Альбер, охотно дожидался бы конца войны, посиживая с сигаретой на вещмешке и строча письма домой, и тех, кто жаждал напоследок поквитаться с бошами. Демаркационная линия проходила аккурат между офицерами и всеми остальными. Ну и чего тут нового? — думал Альбер. Начальники жаждут оттяпать у противника как можно больше территории, чтобы за столом переговоров выступать с позиции силы. Еще чуть-чуть, и они станут уверять вас, что лишние тридцать метров могут и впрямь изменить ход конфликта и погибнуть здесь и сейчас куда полезнее, чем накануне.
К этой категории и принадлежал лейтенант д’Олнэ-Прадель. Говоря о нем, все отбрасывали имя, фамилию Олнэ, частицу «де», а заодно и дефис и называли его попросту Прадель, знали, что ему это как нож по сердцу. Действовало безотказно, так как он считал делом чести не выказывать недовольства. Классовый рефлекс. Альбер его недолюбливал. Может, потому, что Прадель был красив. Высокий, стройный, элегантный, густые, очень темные вьющиеся волосы, прямой нос, тонкие, изящно очерченные губы. И темно-синие глаза. На вкус Альбера, так отвратная рожа. При этом вечно сердитый вид. Есть такие нетерпеливые типы, что не признают умеренных скоростей: они либо мчатся во весь опор, либо тормозят, третьего не дано. Прадель наступал, выпятив плечо вперед, будто собирался раздвинуть мебель, он резко накидывался на собеседника и вдруг садился — его обычный ритм. Это было даже забавно: он со своей аристократической внешностью выглядел одновременно страшно цивилизованным и жутко брутальным — как и эта война. Может, как раз поэтому он отлично вписался в военный пейзаж. К тому же крепкий тип — гребля и теннис, точно.
Чего еще Альбер терпеть не мог в Праделе — так это волосы. Ими поросло все, даже фаланги пальцев, черные волоски торчали из воротничка рубашки, доходя до самого кадыка. В мирное время ему явно приходилось бриться несколько раз в день, чтобы выглядеть прилично. На некоторых женщин этот волосяной покров наверняка производил впечатление — самец, дикий, мужественный, испанистый. Даже на Сесиль ничего… Впрочем, и без Сесиль Альбер на дух не переносил лейтенанта Праделя. А главное, он ему не доверял. Потому что в душе Прадель был нападающим. Ну нравилось ему идти на штурм, в атаку и чтобы все ему покорялись.
С недавних пор лейтенант малость поутих. Видно, с приближением Перемирия его боевой дух резко сдал, подорвав патриотический порыв. Мысль о конце войны была способна доконать лейтенанта Праделя.
Он выказывал признаки нетерпения, что внушало беспокойство. Его раздражал недостаток рвения у подчиненных. Прадель расхаживал по траншее, сообщая солдатам фронтовые сводки, но, сколько бы он ни вкладывал воодушевления, вещая, что мы раздавим врага и прикончим его последней пулеметной очередью, в ответ раздавалось лишь невнятное брюзжание, люди покорно кивали, потупившись. За этим стоял не просто страх смерти, а страх, что придется умереть сейчас. Погибнуть последним, думал Альбер, все равно что погибнуть первым — глупее не придумаешь.Но именно это им и предстояло.
До сих пор в ожидании Перемирия все было относительно спокойно, и вдруг внезапно все пришло в движение. Сверху спустили приказ подобраться к бошам вплотную и поглядеть, что у них творится. Однако и без генеральских погон нетрудно было догадаться, что боши делают ровно то же, что и французы: ждут не дождутся конца войны. Так нет же, было велено убедиться в этом лично. Начиная с этого момента никто уже не мог восстановить точную последовательность событий.
Для выполнения рекогносцировки лейтенант Прадель отправил в разведку Луи Терье и Гастона Гризонье. Трудно сказать, почему именно их — первогодка и старика, может, чтобы соединить энергию и опыт. В любом случае и то и другое оказалось бесполезным, потому что жить посланным оставалось не больше получаса. По идее они не должны были забираться слишком далеко. Им предстояло углубиться на северо-восток метров на двести, в нескольких местах перекусить колючую проволоку, потом доползти до второго ряда проволочного заграждения, наскоро оглядеться и двигать назад, чтобы доложить, что все в порядке, тем более что заранее было ясно, что там и смотреть-то не на что. Терье и Гризонье, впрочем, не слишком опасались подобраться к неприятелю вплотную. Если они и обнаружат бошей, то, учитывая сложившуюся в последние дни ситуацию, те позволят им посмотреть и вернуться, — все ж какое-никакое развлечение. Только вот когда наши наблюдатели, согнувшись в три погибели, добрались до немецкой линии обороны, их подстрелили, как кроликов. Просвистели пули. Три. Затем воцарилась тишина; противник счел, что дело сделано. Наши было попытались разглядеть, что там стряслось, но так как Терье и Гризонье отклонились к северу, то нам не удалось засечь, где именно их подбили.
Солдаты вокруг Альбера затаили дыхание. Потом раздались крики. Сволочи! Чего еще ждать от этих бошей? грязные подонки! варвары! и все такое. К тому же погибли солдат-первогодок и «дед». Какая, в общем-то, разница, кто погиб, но всем казалось, что застрелили не просто двух французских солдат, а два символа. Короче, все пришли в ярость.
В следующие минуты артиллеристы из тыла с несвойственной им быстротой снарядами 75-го калибра жахнули по немецким оборонительным линиям (и откуда только узнали, что стряслось?).
И понеслось.
Немцы открыли ответный огонь. Французы без промедления подняли всех в атаку. Пора свести счеты с этими гадами! На календаре было 2 ноября
1918 года.Кто ж знал, что не пройдет и десяти дней, как война будет окончена.
К тому же напали-то в День поминовения усопших. Даже если не придавать значения символам, а все же…
Снова в полной сбруе, подумал Альбер, готовясь лезть на эшафот (это лестница, по которой выбирались из траншеи, — понятна перспектива?), чтобы без оглядки ринуться на вражеские ряды. Парни, выстроившись друг за другом, вытянувшись как струна, нервно сглатывали слюну. Альберт стоял третьим в цепочке, вслед за Берри и молодым Перикуром, тот обернулся, будто хотел удостовериться, что все точно здесь. Их взгляды встретились. Перикур улыбнулся Альберу — будто мальчишка, собравшийся отколоть номер. Альбер попытался выдавить улыбку, но не смог. Перикур вернулся в строй. В ожидании сигнала к атаке в воздухе физически повисло напряжение. Французы, оскорбленные поведением бошей, теперь сосредоточились на овладевшей ими ярости. Над головами снаряды с обеих сторон прочерчивали небо, удары сотрясали землю даже в траншеях.
Альбер поглядел вдаль, высунувшись из-за плеча Берри. Лейтенант Прадель, стоя на приступке, в бинокль изучал вражеские ряды. Альбер снова встал в строй. Если бы не шум, он мог бы поразмыслить о том, что именно привлекло его внимание, но пронзительный свист не прекращался, пресекаемый лишь разрывами снарядов, сотрясавшими тело с головы до ног. Попробуй-ка сосредоточиться в таких условиях!
В данный момент парни застыли в ожидании сигнала к атаке. Стало быть, самое время приглядеться к Альберу.
Альбер Майяр, стройный молодой человек, малость флегматичный, скромный. Он был не слишком разговорчив, у него лучше ладилось с цифрами. До войны он служил кассиром в отделении банка «Унион паризьен». Работа ему не слишком нравилась, но он не увольнялся из-за матери. Как-никак единственный сын, а мадам Майяр обожала любых начальников. Подумать только, Альбер — директор банка! Ясное дело, она немедленно преисполнилась энтузиазма: уж Альбер («с его-то умом») не преминет добраться до самого верха служебной лестницы. Слепое обожание власти она унаследовала от отца, тот был помощником заместителя главы департамента в министерстве почты, и тамошняя административная иерархия казалась ему олицетворением мироустройства. Мадам Майяр любила всех начальников без исключения. Без различия их качеств и происхождения. У нее имелись фотографии Клемансо, Морраса, Пуанкаре, Жореса, Жоффра, Бриана…
С тех пор как скончался ее супруг, возглавлявший бригаду облаченных в униформу музейных смотрителей Лувра, знаменитости доставляли ей незабываемые ощущения. Альбер, скажем прямо, не горел на работе, но не перечил матери — все же так с ней легче. И тем не менее он пытался строить собственные планы. Хотел уехать, мечтал о Тонкине, правда так, туманно. Во всяком случае, хотел оставить бухгалтерию и заняться чем-нибудь другим. Но он был не слишком скор, ему на все требовалось время. К тому же вскоре появилась Сесиль, он немедленно втюрился: глаза Сесиль, губы Сесиль, улыбка Сесиль и, само собой, грудь Сесиль, попка, о чем тут еще можно думать?!
В наши дни Альбер Майяр считался бы не слишком высоким — метр семьдесят три, — но в то время это было вполне. Девицы поглядывали на него. Особенно Сесиль. Ну в общем… Альбер долго пялился на Сесиль, и в результате — когда на тебя так смотрят, почти не сводя глаз, — она, естественно, заметила, что он существует, и в свою очередь посмотрела на него. Лицо у него было трогательное. Во время битвы на Сомме пуля оцарапала ему висок. Он здорово испугался, но в итоге остался лишь шрам в форме скобки, который оттянул глаз чуть в сторону — такой тип лица. Когда Альбер получил увольнение, очарованная Сесиль мечтательно погладила шрам кончиком указательного пальца, что вовсе не способствовало поднятию боевого духа. В детстве у Альбера было бледное, почти круглое личико, с тяжелыми веками, придававшими ему вид печального Пьеро. Мадам Майяр, решив, что сын такой бледный оттого, что у него малокровие, отказывала себе в еде, чтобы кормить его хорошей говядиной. Альбер много раз пытался объяснить ей, что она заблуждается, но мать не так-то легко было переубедить, она находила все новые примеры и доводы, страх как не хотела признать, что была не права, даже в письмах пережевывала то, что случилось давным-давно. Ужасно утомительно. Поди знай, не потому ли Альбер, как началась война, сразу записался в добровольцы. Узнав об этом, мадам Майяр разохалась, но она так привыкла работать на публику, что было невозможно определить, что за этим кроется — тревога за сына или желание привлечь к себе внимание. Она вопила, рвала на себе волосы, впрочем быстро взяла себя в руки. Так как о войне у нее были самые расхожие представления, она тотчас прикинула, что Альбер («с его-то умом») вскорости отличится и его повысят; вот он в первых рядах идет в атаку. Она уже вообразила, что он совершает геройский поступок, его немедленно производят в офицеры, он становится капитаном, бригадиром, а там и генералом, на войне такое случается сплошь и рядом. Альбер, не вникая в ее речи, собирал чемодан.
С Сесиль все вышло совсем по-другому. Война ее не пугала. Во-первых, это «патриотический долг» (Альберт был удивлен, он ни разу не слышал этих слов из ее уст), и потом, на самом деле нет никаких причин страшиться войны, ведь это почти что формальность. Все так говорят.
У Альбера-то закрадывались некоторые сомнения, но Сесиль была сродни мадам Майяр — у нее имелись твердые представления. Ее послушать, так война продлится недолго. И в это Альбер почти что готов был поверить; Сесиль, с ее руками, нежным ротиком и всем прочим, могла заявить Альберту все, что угодно. Кто не знает Сесиль, тот вряд ли поймет, думал Альбер. Для нас с вами эта Сесиль всего лишь хорошенькая девушка. Но для него — совсем другое дело. Каждая клеточка ее тела состояла из особых молекул, ее дыхание источало особенный аромат. Глаза у нее были голубые, конечно, вам от этих глазок ни жарко ни холодно, но для Альбера это была пропасть, бездна. Или хоть взять ее губы — на миг поставьте себя на место нашего Альбера. С этих губ он срывал такие горячие и нежные поцелуи, что у него сводило живот и что-то взрывалось внутри, он ощущал, как ее слюна перетекает в него, он упивался, и эта страсть была способна творить такие чудеса, что Сесиль была уже не просто Сесиль. Это было… Так что пусть она себе утверждает, что с войной справятся в два счета, Альберу так хотелось, чтобы в два счета Сесиль справилась и с ним…
Теперь-то он, ясное дело, смотрел на вещи совсем иначе. Он понимал, что война — всего лишь гигантская лотерея, где вместо шариков крутятся настоящие пули, и уцелеть в этой войне все четыре года и есть настоящее чудо.
А оказаться похороненным заживо, когда до конца войны рукой подать, — это уж точно вишенка на торте.
А между тем дело шло именно к этому. Погребен заживо. Альбертик.
Сам виноват, что не повезло, сказала бы его матушка.
Лейтенант Прадель повернулся к своему подразделению, его взгляд уперся в первую шеренгу, стоявшие справа и слева смотрели на него как на мессию. Лейтенант кивнул и набрал воздуха в грудь.
Несколько минут спустя Альбер, пригнувшись, бежал в кромешном аду, ныряя под артиллерийскими снарядами и свистящими пулями, изо всех сил сжимая винтовку, грузный шаг, голова втянута в плечи. Солдатские башмаки вязли в земле, так как в последние дни шел непрерывный дождь. Одни рядом с ним орали как сумасшедшие, чтобы захмелеть и расхрабриться. Другие держались так же, как он, — сосредоточенно, живот скрутило, в горле пересохло. Все бросились на врага, движимые последней вспышкой гнева, жаждой мести. Это, наверное, срикошетило объявленное Перемирие. Людям довелось пережить столько, что теперь, в самом конце войны, когда погибло множество товарищей, а столько врагов остались в живых, им, наоборот, хотелось устроить бойню и покончить со всем этим раз и навсегда. Они разили не глядя.
Без суда и следствия
- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 156 с.
Говорят, чужая душа — потемки, а внутренний мир человека искусства — тем более. Так что если вы то и дело ждете вдохновения и дарите миру свои творения, это повод обратить внимание на новый роман норвежца Эрленда Лу «Переучет». А уж если вы непризнанный и неоцененный поэт, как героиня книги, Нина Фабер, стоит внимательно отнестись к изложенным в тексте мыслям и переживаниям. Чтобы не повторить ее судьбу и не попасть под трамвай. Дважды.
Нина Фабер после долгого перерыва вновь начинает писать стихи и возлагает огромные надежды на свой новый поэтический сборник «Босфор», который должен вернуть ее творчество в поле зрения читателей и литературных критиков. Но после нескольких разгромных рецензий она буквально слетает с катушек. За день, описанный в книге, Нина совершает череду поступков, выходящих за грани приличия и даже — закона. Случайное убийство Бьерна Хансена, который отменил встречу с читателями Нины, оправдавшись переучетом в книжном магазине, не вызывает у нее ни капли сожаления. Этого мало, и обиженная писательница начинает охоту на Рогера Кюльпе, несчастного студента, не понимающего в поэзии ровным счетом ничего, но написавшего ужасный отзыв на «Босфор». Кто дал ему, некомпетентному выскочке, право так рассуждать о ее стихах — вот что волнует героиню в первую очередь:
Судя по всему, заключает Нина, у этого Кюльпе нет никаких оснований писать о ее стихах или кого другого и уж во всяком случае называть ассоциации заезженными. Сутью поэзии как раз является личное истолкование того, что все видят и переживают и даже могут описать, но не такими словами, как Нина, или Кюльпе, или я не знаю кто. Но если человек мыслит исключительно категориями массового истребления людей (студент увлекается литературой о геноциде и репрессиях), то личные заметки на тему любви, старости или мостов в Стамбуле, вероятно, кажутся ему заезженными. Нину колотит от ярости. Да как он смеет! И как он посмел…
Писательница ужасно одинока. Нет никого, с кем она была бы по-настоящему близка. Лу подчеркивает это и создает трагикомедию, добавляя в повествование забавно-грустные сюжеты из жизни Нины, одним из которых становится эпизод общения с ежиком Юсси.
Нет, он (ежик) не относится к ней плохо, он вообще не испытывает к ней никаких чувств, только к молоку. Для Юсси Нина — некое неизбежное зло, увязанное с появлением молока. Завидев Нину, ежик понимает, что близится молоко, оживляется и радуется, а Нина толкует это как доказательство связи между ней и Юсси.
Эрленд Лу делит историю на восемь этапов, во время которых в сознании героини тоже происходит «переучет». Ее действия кажутся нелогичными, реплики — порой бессмысленными. Но когда она рыдает, сидя на тротуаре, впервые за весь день находится человек, который готов ее поддержать. Молодая женщина, поклонница Нины Фабер, казалось бы, может дать ей стимул «возродиться из пепла» после душевного опустошения. Ведь если есть хоть один человек, которому близка твоя поэзия, в творчестве появляется смысл.
Логика автора принципиально другая. Хотя Нина Фабер не гонится за славой, ей ужасно обидно за себя и свои стихи. Она растоптана и морально уничтожена безразличием критиков, которые, по сути, решают, быть или не быть книге. И они поставили на сборнике Нины крест. Как и Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», Эрленд Лу заостряет вопрос об ответственности рецензентов за свои слова. Оба — Латунский, незаслуженно забраковавший роман Мастера, и Кюльпе, разгромивший сборник «Босфор», — караются авторами за небрежное отношение к литературе.
Нина мучительно ищет способ избавиться от «литературно-критического узла», в котором она запуталась. Писательница уходит в себя, и даже физические страдания не могут перекрыть душевную боль. Ей досадно за то, что успех приходит к жалким, ничего из себя не представляющим «юным дарованиям», у которых есть влиятельные покровители. За то, что признание зависит от моды на стихотворную тематику. И если ты не вписываешься в общее направление, литературной премии тебе не видать.
Тактичная лирика Нины была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном, крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия, вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом доставалась другим.
Неужели после стольких неудач и разочарований героине остается только сдаться? В ее стихах часто повторяются фразы «Раньше у меня было больше. Теперь меньше». Меньше надежды, сил, веры в себя и в других людей. Лу играет с читателем, заставляя поверить в трагическую концовку и как будто обрывая предпоследнюю главу. Но пережив столкновение с трамваем, Нина трижды восклицает: «Я поэт!» Она жива и не остановится, она будет писать.
Люди и людоеды
- Светлана Алексиевич. Время секонд хэнд. Голоса Утопии. — М.: Время, 2013.
Сегодня пространство российской культуры наполнено шумом улицы. В театре, кино и литературе стоит галдеж повседневности, который не несет в себе никакой цели. Светлана Алексиевич завершает свой художественно-документальный цикл «Голоса Утопии» пятым романом «Время секонд хэнд» и не просто выносит на суд читателей историю обычного маленького человека, но и, представляя Россию без прикрас и преувеличений, стремится узнать, почему мы такие, откуда все наши беды.
В предыдущих книгах писательница поднимала самые острые проблемы отечественной истории — от Афгана до Чернобыля. На этот раз в центре ее внимания истории людей, которые жили в одном государстве и неожиданно для себя стали гражданами других стран — с другими флагами, национальными идеями (или вовсе без них) и понятиями. Сегодня этот диагноз — возрождение СССР — звучит часто. За двадцать лет мы и не могли стать совсем другими, потому что живем под управлением людей, выросших в Советском Союзе, и в городах, инфраструктура которых создана в те годы.
Алексиевич становится внимательным наблюдателем того, как сложно поколению наших родителей перешагнуть свои советские комплексы и стать жителями новой России. Для них, не имевших возможности видеть разнообразие продуктов на прилавках магазинов, йогурт до сих пор — почти деликатес, а причина вечной экономии не в скаредности, но в привычке, идущей из условий жизни в той стране.
Светлана Алексиевич записывает реплики свидетелей ушедшей эпохи, дает слово тем, чьи голоса еще можно услышать в региональной глухой прессе, но редко когда на телевидении. Слишком они простые и несчастные. Если и появляются эти люди на экране, то лишь в ток-шоу, где нужно поворошить грязное белье. Алексиевич белье не интересует, она скрупулезно приводит читателя к со-общению и со-переживанию с маленькими людьми.
В романе есть несколько знаковых моментов. Один из них — рассказ матери об ушедшем из жизни сыне. Это сложно придумать, такое можно только услышать. Главное, по Алексиевич, — не страну потерять, а сына. Хотя иногда кажется, что автора интересует именно государство, общество, политика.
Название романа «Время секонд хэнд» кажется слишком надуманным. Потому что книга рассказывает не о времени, не о секонд хэнде, а о человеке, который даже в тяжелые годы остается любящим, трогательным и нежным. Один из героев вздыхает: «Победили обыватели. Я не вижу людей с горящими глазами». У многих героев романа глаза — именно «горящие». Некоторые из них вспоминают свою счастливую советскую жизнь. И тогда тема «совка» получает другой оттенок — при любом режиме, даже самом людоедском, человек может быть счастливым. «Мои родители — не „совки“, они — романтики! Дошколята в нормальной жизни. Я их не понимаю, но я их люблю» — вот эту формулу одной из героинь книги нужно взять за основу, чтобы понять историю тех лет. К советскому прошлому необходимо относиться объективно, помимо «людоедства» признавать высмеянные сегодня «дружбу народов» наших родителей, походы, книги, первомайские демонстрации, их любимые фильмы и поэтов.
Исповеди простых людей, наполненные афоризмами и тонкими мыслями, не дают оторваться от чтения книги: «Родители не догадываются, насколько у их детей все серьезно», «Главный в доме — книжный шкаф», «Мужчина не бывает старше 14 лет»…
Алексиевич слишком сосредоточена на черных красках, поэтому ей не удается представить полноценную картину. Вступление и редкие комментарии автора скорее напоминают публицистику «Новой газеты», нежели литературное произведение. Ее либеральная запальчивость на «такой-сякой» Советский Союз находится на контрасте с жизнеописанием людей. Алексиевич возмущена возрождением советского в нашей жизни, но не объясняет, отчего происходит это возрождение. Вместо нее говорят те, чьи истории попали в книгу.
Светлана Алексиевич пишет, что сейчас есть комсомол, который называется «Наши», не проверяя (она не журналист, который обязан проверять факты), что дело комсомола продолжают не только одиозные «Наши», но и вполне мирный и полезный Российский союз молодежи. Вряд ли Алексиевич была бы против трудовых отрядов, вожатых, строителей, профильных лагерей для молодежи — но всем этим сегодня занимается именно преемник комсомола, без всякой идеологической подпитки. Наверное, проще через запятую возмутиться «Нашими», чем признать, что «советское» — не всегда значит плохое.
Писательница сосредотачивает свое внимание на историях самоубийц, поэтому книга имеет довольно мрачную интонацию. Она говорит лишь об одной стороне современной России. Не ищет тех, у кого получилось; в центре ее внимания те, у кого не вышло, не сложилось. Но нет только «черного» — есть и «белое», есть и оттенки. И в России с ее самоубийцами, политиками, нечистью живут те, о ком тоже надо рассказывать.
В одном из интервью Светлана Алексиевич обещает, что следующая ее книга будет о любви. Возможно, там найдется место счастливым историям. Ведь даже в мрачном «Времени секонд хэнд» порой мелькает свет — когда люди без оглядки на все несчастья любят так, как сценаристам плохих фильмов даже не снилось. И несмотря на кровь и даже чернуху, в книге есть любовь — человека к человеку. Именно этим сочетанием интересны истории, записанные Алексиевич. Автор говорит: «Мы были готовы умереть за свои идеалы. Драться в бою. А началась „чеховская“ жизнь. Без истории. Рухнули все ценности, кроме ценности жизни».
Благодаря Светлане Алексиевич теперь не обязательно ехать в плацкартном вагоне по России и записывать истории пассажиров. Самые интересные из них собраны под одной обложкой. Монологи, без которых невозможно понять себя и свою страну. Писательница ничего не сочиняет, она всего лишь дает слово тем, кого слушать необходимо.
Александр Нилин. Станция Переделкино: поверх заборов
- Александр Нилин. Станция Переделкино: поверх заборов. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 560 с.
К концу ноября в Редакции Елены Шубиной выйдут воспоминания Александра Нилина о частной жизни «писательского городка». С интонацией одновременно иронической и сочувствующей мемуарист рассказывает о своих соседях по даче, среди которых Борис Пастернак, Александр Фадеев и Ангелина Степанова, Валентина Серова и Константин Симонов, Чуковские, Катаевы … Полагаясь на эксклюзив собственной памяти, автор соединяет в романе первые впечатления ребенка с наблюдениями и размышлениями последующих лет.
I. Поверх заборов
Глава первая
1 Среди игрушек моих в последний год войны выделил бы кроме большой, не заряженной, естественно, ракетами, ракетницы фотоаппарат — тоже немецкий, трофейный и тоже не заряженный, что менее естественно, пленкой. Не было пленки, ничего не поделаешь, да и не требовалось ее для осуществления моих детских замыслов.
Ни тогда, ни потом я не хотел ничему учиться — и фотографировать не учился (да и у кого я в тот год мог учиться, если бы даже вдруг захотел). Зато легко воображал себя приезжавшим иногда на дачу к моему отцу Виктором Тёминым, известным во время войны фотокорреспондентом, — я и всю дальнейшую жизнь себя постоянно кем-то воображал и до сих пор воображаю; интересно, в чьем образе умру (неужели в своем собственном наконец?).
Весной сорок пятого года маршал Жуков хотел Тёмина расстрелять за то, что фотограф самовольно улетел на его самолете в Москву. Но тут же выяснилось, что маршальским самолетом фотограф доставил в газету «Правда» снимок знамени над Рейхстагом (позже я услышал, чего стоила организация этой затеянной политуправлением фотосъемки), — и Жукову из-за исторического значения снимка пришлось свое решение о расстреле корреспондента отменить.
О намерении Жукова я не мог тогда знать, но видел, сколько на пиджаке всегда пьяного фотографа боевых наград.
Я бродил по поселку — и всех встречных (а на аллеях Переделкина народу встречалось тогда мало) фотографировал, и в частности Александра Александровича Фадеева.
Заслуги и звания Александра Александровича в ту пору не были мне известны — он, кстати, в сорок пятом году и не стал еще писательским министром (правда, членом Центрального комитета партии оставался, что вряд ли мог принять я во внимание, не осведомленный о партийной иерархии, и уже не помню сейчас, знал ли о роли коммунистической партии вообще). Но, вероятно, в тоне взрослых, произносящих имя Фадеева, что-то я улавливал — и когда при следующей встрече Александр Александрович серьезным голосом спросил меня: «А когда принесешь карточки, Саша?» — необычайно взволновался: в мечтания, которые смело полагал я реальностью, вторглась реальная реальность, с ней я как-то себя не соотносил (и соотношу ли сейчас, не излечившись от мечтаний?).Я прибежал домой и спешно стал рисовать — не карандашом, заметьте, а обмакнутым в чернильницу пером — и ждал с испугом, но и не оставлявшей меня надеждой, что фокус мой пройдет.
На мою удачу — удачей, однако, считаю, не тогда, конечно, а сегодня, осмысливая всю свою жизнь целиком, не то вовсе, что мой обман не раскрылся, а то, о чем сейчас скажу, — на тогдашнюю, подчеркну, мою удачу, Фадеев так никогда больше про снимки не спросил.
Удачей же — одной из очень немногих за всю, повторяю, жизнь — стало открытие для себя жанра «изображения и рассказа»: я фантазирую, что фотографирую натуру, а на самом деле пытаюсь нарисовать ее, сменив со временем перо на пишущую машинку в прошлом веке и на компьютер в наступившем.
Поэтому и не стоит удивляться, что Александр Александрович Фадеев занимает в моих воспоминаниях большую площадь.
Хотя есть на то и другие причины.
Фотографировал я Фадеева летом, но в сознание мое он вошел как человек из зимы.
Так и вижу до сих пор снег на краю дачного участка с нашими глубокими в нем следами — и Фадеева в узком черном пальто (я любил военную форму и людей в ней, сам носил шинель, перешитую из гимнастерки жившим на адмиральской даче портным по фамилии Свиньин), остановившегося на дороге, которая называется теперь улицей Горького.
Мы с отцом пилим дерево.
Генетический — по отцовской линии — крестьянин, я терпеть не мог с детства физический труд (позже догадался, что не люблю вообще никакой труд — ни физический, ни тем более умственный, не знал, что буду к нему приписан). Но в раннем детстве моем выбирать не приходилось: младший брат, любящий всякий труд, еще не родился, в семье, кроме отца, мужчин больше не было — и я пилил дрова, колол, помогал корчевать «вагой» (никогда потом не слышал больше названия этого инструмента) пни; мы даже разобрали на дрова бревенчатый блиндаж, оставшийся на участке нашем с войны (до боевых действий в Переделкине не дошло, но блиндажи вырыли).
А летом и картошку копал и окучивал, на слуху были слова «рассада», «усы» (клубника тоже была своя); помидоры не успевали приобрести красный цвет за лето, дозревали, зеленые, на закрытой террасе.
Но пока стоит снежная зима, и Фадеев от дороги идет к нам в своем узком черном пальто.
Фадеев берет у меня пилу, и они с отцом вместе пилят, о чем-то, мне неинтересном (я не вслушиваюсь), разговаривают.
И вдруг вижу, что лицо Александра Александровича меняется, словно вспомнил он о чем-то важном, — и чуть краснеет.
«Павлик, — спрашивает он отца, — а у тебя есть разрешение лесхоза — пилить?»
Лесхоз вообще-то в двух шагах от нашей дачи. Но разрешения пилить сухое дерево нет — отец не удосужился спросить и отвечает, что нет, нет разрешения. Фадеев огорчен — пилят тем не менее дальше.
Смысл вопроса доходит до меня много позднее.
Фадеев ощущает себя государственным человеком — и всякое нарушение общих для всех правил ему неприятно.
Возникла — уж не припомню, в какие годы, но кажется мне сейчас, что до весны пятьдесят шестого, — бредовая идея: дать улицам в нашем городке литературные имена (контора, ведавшая литфондовскими дачами, отделяла свои владения от остальной части поселка псевдонимом «городок писателей»).
Я потому считаю ее бредовой, что, выбери Литфонд (или кто там утверждал названия) имена безусловных классиков — Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, кто бы с начальством спорил.
Но когда вместе с Гоголем и Лермонтовым (Пушкину и Льву Толстому не повезло) увековечить захотели советских классиков: Вишневского, Павленко, Тренева, — получился эстетический винегрет с комическим привкусом. Писателей, в иерархии стоящих примерно рядом, оказалось больше, чем улиц. И Николай Погодин, например, жил на улице Тренева, которого вряд ли считал лучшим, чем сам, драматургом.
А когда Николай Федорович в шестидесятом году умер, его именем назвали безымянную до того улицу (в то время почти без домов), ведшую к вокзалу. По-моему, драматургии в сочетании названий улиц с именами тех, кто продолжал жить на них, побольше, чем в пьесах, временно прославивших наших соседей.
Есть столичная улица имени Фадеева, но жил он последние годы, когда в городе, на улице Горького, а дачный его адрес — улица Вишневского, дача № 4.
2 Когда въезжаешь в Переделкино со стороны Москвы, набирая ход от Самаринского пруда при подъеме на горку к перекрестку (где, кстати, на ржавых железках перечислены все наши улицы), недолго и проскочить мимо улицы Вишневского — она у самого подножия резко, но укромно ныряет в тень от елок.
Вместе с тем эта улица — не пролог даже к истории писательского поселения, а ее краткий курс: мне кажется, разобравшись в странностях улицы Вишневского (от изначальных соседств до названия), дойдешь когда-нибудь и до романной сути всей местности.
На наших сегодняшних улицах непременны стрелки-указатели, направляющие в музеи Пастернака, Чуковского, Окуджавы.
А вот улицу Вишневского я бы и саму уподобил стрелке, надломленной почти посредине шлагбаумом, за которым теперь новые каменные дома, сразу ставшие для меня подобием миража.
Замечал неоднократно, что обрывающий мои шаги в прошлое шлагбаум сильнее воздействует на мое воображение, чем когда бродил я по той же улице, утратившей былых жильцов-арендаторов, но сохранявшейся в том же пейзаже, в каком застал я ее впервые почти семьдесят лет назад.
К музеям местным в знакомых мне с детства и отрочества дачах я отношусь равнодушнее, чем к улице Вишневского.
3 Улица некогда упиралась во всегда запертые ворота, окрыленные высотой сплошного забора. За воротами и забором различалась лишь крыша самой дачи, где жил писательский министр Александр Фадеев.
Но я успел захватить время, когда забора еще не было, ворота не запирались и хозяин — арендатор дома министром не был.
И теперь, когда нет ни дома, где и жил он и ушел из жизни добровольно совсем нестарым (в пятьдесят пять лет), ни возникших при нем забора и ворот, а стоят на месте фадеевской дачи чужие каменные строения за другим забором и другими воротами — и шлагбаум нынешний пересек бы, пожалуй, сегодня дорогу тогдашнему длинному (в пол-улицы Вишневского) черному «ЗИСу», вызванному мною за Александром Александровичем из воспоминаний ребенка в свое нынешние воспоминание, — все равно моему рассказу никакое предметное отсутствие былого не мешает.
Для меня реальной остается та несуществующая дача, а сегодняшняя постройка — что-то вроде помех на экране старого телевизора.
С этой улицы начиналось поселение — и обозначалась судьба — не одного только поселка, но самого понятия «Переделкино», перебродившего затем в писательском сознании.
4 Первый коттедж на будущей улице Вишневского сделан был улучшенной, как стали говорить позднее, планировки — комнат на восемь. Он предназначался видному партийному деятелю Льву Каменеву, потерявшему в полемике со Сталиным все шансы оставаться во власти.
Понизив его в должностях и унизив насколько хотел, Сталин по просьбе Горького совсем было согласился пощадить соперника, дав ему должность директора издательства Academia, но после смерти Горького передумал — и не удержался, казнил Каменева. В дачу тот не въехал.
Из дачи решили сделать Дом творчества — вроде общей мастерской для писателей, не имевших дач.
К тому, чтобы жить мне сразу после рождения в Переделкине, коттедж Каменева имеет непосредственное отношение. Живший в Доме творчества мой тридцатилетний отец решился на авантюру — поселиться в дачном поселке. Риск даже не в том был, что самочинно вселялся он в дачу репрессированного Пильняка — и мог навлечь на себя гнев карательных органов. Не менее существенным для литературного будущего становился риск быть отторгнутым писательской средой как самозванец, захотевший сделаться соседом едва ли не всех тогдашних литературных знаменитостей.
Впрочем, к тридцать восьмому году въехать в дом, в котором не поселился призрак репрессированного хозяина, едва ли представлялось возможным. Скажем, Бабелю построили новый дом в полусотне шагов от неслучившейся дачи Каменева, но репрессированным суждено было стать и ему.
В это второе на будущей улице Вишневского дачное строение Вишневский и вселился.
Я видел Всеволода Вишневского один-единственный раз, летом сорок седьмого года. Но с того раза поверил, что Вишневский — прирожденный драматург, — и поверил в рассказы о нем. Как собирает он знакомых на читку новой пьесы, предварительно кладет на письменный стол толстые тома энциклопедии и заряженный револьвер; чтение начинается с авторской ремарки: «Слышна отдаленная канонада» (спихивает со стола на пол тяжелые фолианты) — продолжает: «…револьверные выстрелы» (стреляет из револьвера).
Биография его казалась выдуманной от начала до конца (даже то, что и на самом деле с ним было). Жизнь свою он непрерывно додумывал — и соответственно декорировал. Московский обратный адрес он так надписывал на конвертах: «Москва. Кремль. Лаврушинский переулок» (из его окна, на пятом, кажется, этаже, действительно были видны кремлевские башни).
Так вот, единственный раз, когда я мог наблюдать Вишневского воочию, он сидел (полосатая пижама) в плетеном кресле, вынесенном из огня, — горела дача Федина. Все сбежавшиеся хотя бы делали вид, что тушат пожар, — таскали ведрами воду и так далее (правда, по голодному времени были факты мародерства со стороны соседей — не писателей, но в отдельных случаях со стороны их сторожей, фадеевского сторожа Чернобая, например), — а Вишневский сидел будто в партере театра и с круглолицей радостью дорвавшегося до зрелища ребенка завороженно смотрел на огонь.
Про исчезнувшего Бабеля никто тогда не помнил — вернее, я вообще о нем не знал, а взрослые, вероятно, не хотели говорить. Но помнить, наверное, помнили — не хотели, как мне теперь кажется, лишний раз вспоминать, чтобы не огорчаться.
Бабель был из Одессы, Катаев тоже. И неужели, бывая у Фадеева, Катаев совсем никогда не думал о том, что дача Вишневского предназначалась для его земляка?
Отец мой вряд ли был знаком с Бабелем лично. Позднее уже, когда я не только знал про Бабеля, но и почти все прочел из написанного им, отец рассказал, что, когда писатели навещали перед войной Ясную Поляну, от станции все они шли пешком, а Бабель взял извозчика…
Самое смешное, что и Фадеев въехал в дачный дом, освободившийся после ареста Зазубрина. Странно, что фамилии Бабель я до середины пятидесятых годов не слышал, а про то, что до Фадеева в последней на улице Вишневского даче жил некто Зазубрин, — знал, может быть, потому, что Зазубрин был родом из Сибири, а отец мой тоже сибиряк, но сомневаюсь, что были они знакомы.
Позднее я прочел в чьих-то воспоминаниях, что на вечере в доме Горького, куда позвали известных писателей на встречу со Сталиным, Зазубрин повел себя не лучшим образом — и в состоянии алкогольного опьянения чуть ли не надерзил товарищу Сталину, во всяком случае, вызвал его неудовольствие.
Я даже знал название наиболее заметной вещи, сочиненной Зазубриным, «Щепка», но так и не удосужился ее прочесть — посмертно возращенным в литературу репрессированным писателям на читателя не везло (Бабель — исключение), переизданные через столько лет книги почти не возвращались в читательский оборот. Вместе с тем я слышал, что «Щепка» была по тем временам вещью острой, и товарища Сталина не поведение Зазубрина у Горького возмутило (на кремлевских приемах известным деятелям случалось напиваться без каких-либо для себя последствий), а сильно не понравилась сама «Щепка». Действительно, лес рубят…
И все же факт, что дачу сначала дали не Фадееву, говорит о том, какое положение в литературном сообществе занимал погибший Зазубрин.
Я не подсчитывал, но где-то же есть точные данные, сколько из первых поселенцев писательского городка замели в конце тридцатых. На каждой из улиц были свои репрессированные. И тем не менее по количеству потерь ни одна из улиц не дотягивала до той, что стала имени Вишневского, — там выбыл весь первый состав дачников.
Между прочим, переданный бездачным писателям Дом творчества вскоре после войны сгорел. Я знал к тому времени, что пожары случаются, видел пепелище, оставшееся от дачи Всеволода Иванова рядом с дачей Пастернака, но свежий запах залитых водой углей вдохнул в себя впервые утром, когда прибежал к месту сгоревшего за ночь Дома.
За недосмотр, приведший к пожару, уволили директора городка писателей Розу Яковлевну Головину, никогда потом не появлявшуюся в Переделкине. Она служила в московском Доме литераторов на скромных административных должностях — и каждое свое выступление на собраниях начинала фразой: «Может быть, я и не писатель…»
В последний предвоенный год никого в писательском поселке больше не сажали — и по записям отца вижу, что оставшиеся (и заменившие репрессированных) дачники жили вызывающе открытой жизнью: дружили, как не дружили никогда потом, общались тесно семьями — и делали, в общем, вид, что самое страшное позади и никогда больше не повторится. Но без такой эгоистической эйфории как бы жить и работать?
Допускаю, что с подобными — неподтвердившимися — надеждами вступали писатели-переделкинцы и в послевоенную пору. Самое, как казалось (ну и на самом деле было), страшное — война — было позади.
Галерея забытых портретов
- Наталья Громова. Ключ. Последняя Москва. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2013. — 416 с.
Москва! — Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придем.Марина Цветаева
В шкафах и комодах наших бабушек хранится много сокровищ, например старые шкатулки или коробки из-под конфет, в которых лежат выцветшие от времени снимки с загнутыми краями. На них изображены люди на первый взгляд нам неизвестные. Чтобы понять, какими они были, стоит пристальнее всмотреться в лица своих родных. Творчество писательницы Натальи Громовой открывает не одну такую шкатулку, перенося читателей на десятилетия назад.
Исследовательница литературного быта 1920-1950-х годов приводит нас к очередной двери, ведущей в прошлое. Два новых «архивных романа», «Ключ» и «Последняя Москва», как и прошлые произведения, основаны на подлинных документах. Строго говоря, назвать эти тексты романами можно с большой долей условности. Героями являются жившие в XX веке писатели, поэты, переводчики — современники Марины Цветаевой, Александра Фадеева, Льва Шестова. Часть текста составляют их письма, выписки из дневников.
Некоторые истории, описанные в книге, уже звучали из уст Натальи Громовой в интервью и телепередачах. Под нововведенным жанром «архивный роман» прячется нечто среднее между мемуарами и научным трудом. Впрочем, многим нравится играть в читателей настоящих архивов: собирать по крупицам данные, устанавливать связи между персонажами. Так, два произведения писательницы, объединенные под одной обложкой, попали в короткий список «Русского Букера». Видимо, в этом году жюри премии решило стереть границу между художественной литературой и нон-фикшн.
«Ключ» и «Последняя Москва», действительно, сливаются в один текст. Но связано это не с цельностью двух романов, а наоборот, с тем, что оба они эклектичны. В них нет стройного сюжета — лишь эпизоды, обрывки жизненных линий. Удержать конструкцию помогают разве что связи между отдельными героями. Их истории выстраиваются анфиладой: отыскав одну дверь, можно найти следующую. Персонажи друг за другом провожают гостей в еще не изведанные комнаты, где их встречают новые лица, терпеливо ожидающие своей очереди высказаться.
Но задержаться надолго у каждого из них не получится. Едва дослушав рассказ об одном, приходится тут же переходить к рассказу о следующем. Анфилада превращается в коммунальную квартиру, где умещается необыкновенно много жильцов, каждый из которых заслуживает отдельного дома. Только на короткое время они показывают свой облик, а потом вновь становятся тенями. На общем фоне выделяются лишь фигуры писательницы Марии Иосифовны Белкиной и мемуаристки Ольги Бессарабовой — самые заметные во всей книге.
Громова настолько сильно любит своих героев, что, к сожалению, совсем немного говорит о себе самой. Во-первых, именно это позволило бы подвести все рассказанные истории под общий знаменатель. Во-вторых, ее собственные воспоминания нашли бы отклик в душе не одного читателя:
Вернувшись из школы в нашу коммуналку, в полном одиночестве, за щербатым письменным столом я часами думала о том, как войти внутрь своего собственного времени, как физически почувствовать его присутствие. Додумалась я до одного: написать отсюда, из одиннадцатилетнего возраста, письмо самой себе в тринадцать лет <…>. Письмо было заклеено, а затем еще забинтовано материей и зашито, чтобы не было искушения прочесть его раньше времени. Острое взаимодействие со временем возникало, и когда письмо писалось, и когда оно читалось спустя два года. Внутри возникало мгновенное чувство схлопывания: я была здесь и там одновременно.
Очевидно, перед автором стояли иные задачи, нежели написать произведение, о художественной стороне которого можно было бы говорить часами. Кажется, Наталья Громова задумала грандиозный по своим масштабам проект. Буквы должны не просто поведать историю, но воскресить ушедших, возвратить из небытия их переживания, горе и любовь:
Непрожитая жизнь расстрелянных, замученных и убитых не могла исчезнуть. Их время, скорее всего, беззвучно течет рядом с нами. Спасение последующих поколений в том, чтобы услышать и увидеть эти жизни, дать каждой загубленной душе, позволить напрасно погибшему человеку возродиться уже в нашем времени.
Вместе с героями возвращается и старая Москва, настоящий город-миф. Уютные переулки, тихие арбатские улочки с домами-кораблями исчезают под гнетом новой эпохи, символом которой становятся горящие в ночи окна здания на Лубянке. Чтобы разглядеть истинный облик города, необходимо ни много ни мало научиться смотреть сквозь временные пласты:
Как далека была от меня карта подлинной Москвы, которую, как мне казалось, я помнила с детства, но которая теперь оказалась лишь миражом, фантазией, воздушным покровом, наброшенным на ушедший Город.
Снять этот покров полностью удастся не каждому. Для этого необходимо познакомиться с героями книги чуть ближе и самому отыскать ключ к их миру. Возможно, тогда и появятся вопросы к прошлому. Наталья Громова обещает, что оно обязательно ответит. А пока придется поверить ей на слово.
Нельзя сказать короче
- Линор Горалик. Это называется так (короткая проза). — М.: Dodo Magic Bookroom, 2014. — 384 с.
Описывая содержание одной из своих повестей, Линор Горалик, финалистка премии «НОС» 2014 года, как-то сказала, что это «фольклор, собранный в аду». Для прозы, включенной в сборник «Это называется так», — а в него входят циклы «Короче:» и «Говорит:», повести «Валерий» и «Вместо того» и пьеса «Свидетель из Фрязино» — это определение подходит как нельзя кстати.
Циклы жизненных оксюморонов «Короче:» и «Говорит:» становятся воплощением феномена короткой прозы. В очень небольшой промежуток времени — в текстовом эквиваленте: от нескольких строк до нескольких страниц — укладывается сильное впечатление. От такого концентрата и смеешься громче, и плачешь горше. Отличие этих циклов друг от друга — в способе подачи информации.
«Говорит:» построен на имитации спонтанной речи. Для него ведущим приемом становится сказовая манера повествования. Каждая зарисовка начинается с диалогового тире и отточия, символизирующих существование этих текстов в более широком контексте. Линор просто придумывает отрывки из диалогов, которые так никогда и не прозвучали, изредка опираясь на чьи-то слова, произнесенные в реальности. Впечатление от цикла такое же, как от фильма Бориса Хлебникова «Пока ночь не разлучит»: наша жизнь — это фарс, наша жизнь — это фарш.
В «Короче:» главным средством выразительности является предельная детальность изображения. Этот цикл составляет девяносто один маленький рассказ, у каждого из которых есть название и повествователь; и зачастую именно его манера вызывает ощущение постороннего, отстраненного наблюдения, но при этом проникновения во все разговоры и чувства героя.
Уже потом, в раю, им довелось побеседовать о том, имело ли это смысл, и по всему получалось, что — нет, не имело.
Подобные высказывания вызывают у каждого исключительно личные воспоминания и приближаются к стихам, имеющим такой же механизм воздействия: текст опирается не на содержание, а на переживание этого содержания. Если рассматривать рассказы с формальных позиций, например сюжета, то суть всего сборника сведется к описанию какого-то бессердечного бреда. На самом же деле литературу более человеческую, чем у Линор Горалик, надо еще поискать. Это становится понятно, когда вдруг тоскливо засосет под ложечкой: вроде и люди дурные, и ведут себя безобразно, а все равно жалко их всех до невозможности. Оттого эту прозу так сложно читать, что она строится на бесконечном парадоксе малой формы и большого содержания, сюжетов триллера и переживаний драмы, грустного и веселого — из огня да в полымя — в соседних текстах. От подобного авторского блицкрига дух захватывает.
–…в общем, пятнадцать лет. То есть она ходила еще в high school. А у них как раз начали преподавать старшим классам Safe Sex and Sexual Health, когда она на седьмом месяце была. И всем — и девочкам, и мальчикам, — надо было носить с собой куклу круглые сутки, чтобы понять, что такое ответственность за ребенка. Вот она и носила — в одной руке живот свой, в другой куклу.
Мир, выжатый до театра абсурда, — это и есть декорации к книге Горалик. Но если у театра абсурда своя особенная, по специальным законам построенная вселенная, в которую читателю-зрителю нужно погрузиться, то у Горалик реальность та же, что за окном. Дистанция сокращена до минимума, поэтому сознанию приходится вынести удар даже большей силы, чем при знакомстве с творчеством абсурдистов. Это бесконечная жизнь на грани нервного срыва.
–…когда он меня любил, я не ревновала, а когда не любил — ревновала. Начинала звонить ему, доставать себя и его, пока один раз за мной скорая не приехала.
Короткая проза Линор Горалик удобна в употреблении: перечитывание не отнимет много времени. По ее книгам можно отследить степень собственного взросления и развития: непонятное через несколько лет неожиданно разъяснится, а в прежде абсолютно конкретных зарисовках обнаружатся новые коннотации. Это очень плотные и насыщенные тексты, даже тесные: от них сложно убежать, но если не сделать этого вовремя, возможна передозировка. Частое сердцебиение, головная боль, слезоточивость — таковы симптомы, сопровождающие чтение текстов Горалик.
Повесть «Валерий» объемом чуть более полусотни страниц, например, лучше читать в течение месяца, не меньше; никто ведь не хочет сойти с ума преждевременно. Не стоит предпринимать и марш-бросок по всему сборнику: «Вместо того (военная повесть)» и «Свидетель из Фрязино (пьеса, задуманная как либретто оперы)» провоцируют не самые патриотические мысли о сущности войны и ежегодных государственных праздников. Каждый элемент этого сборника самоценен, поэтому перемешивание всего и сразу противопоказано.
Иногда перед демонстрацией некоторых объектов современного искусства делают предупреждение: «Беременным женщинам, особо впечатлительным лицам, а также людям с неустойчивой психикой вход запрещен». На обложке этой книги стоило бы поместить подобную надпись — во избежание несчастных случаев.