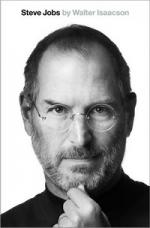- Ипполитов А. Особенно Ломбардия: Образы Италии XXI. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012
Сразу после выхода первой части «Сентиментального путешествия по Франции и Италии 1768 года» автор умирает, так и не закончив итальянскую часть своего травелога. Остроумный рецепт Владимира Набокова — «Веди рассказ от первого лица, и доживешь до самого конца» — не помог, как не помогли умирающему священнику Стерну все медицинские светила Англии. Описание путешествия, травелог, — жанр, создавший европейскую литературу, и история эволюции этого жанра, в общем-то, и есть история европейской литературы, от Одиссея до Улисса. Одним из поворотных моментов этого «путешествия жанра» стал 1768 год, когда вышло «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Лоренса Стерна, священника из Йорка. К тому моменту Стерн уже был скандально известен благодаря самому изощренному роману XVIII века «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», где переосмыслялся и деконструировался роман-бытие, роман-автобиография. Следующей мишенью священника-писателя стал жанр романа-путешествия.
Размышляя о библиотеке задуманных, но так и не случившихся текстов в истории литературы, я особенно часто возвращаюсь именно к итальянской части «Сентиментального путешествия»: какую бы ловушку придумал автор Стерн рассказчику Йорику? Куда бы отправил он своего сладострастного святошу? Что бы эрудит и знаток Стерн показал нам, описывая свое чувствительное путешествие по Италии?
Но что есть ипполитовские «Образы Италии», если не наше «Сентиментальное путешествие по Италии»? И кто есть Аркадий Ипполитов, если не Лоренс Стерн XXI — мастер деконструкции жанровых границ и обнажения приема, читая которого, все время хочется повторять адресованное Стерну пушкинское: несносный наблюдатель! Знал бы лучше про себя, многие того не заметили б! Примечательно, что предыдущая книга Ипполитова «Вчера, сегодня, никогда» (СПб., 2008) вполне могла бы иметь стернианское название «Жизнь и мнение Аркадия Ипполитова, джентльмена».
В седьмой главе стерновский рассказчик решает написать предисловие к своему путешествию (стернианский тайм-менеджмент неочевиден, но всегда точен), в этом предисловии Йорик классифицирует всех путешественников, выделяя следующие группы: «праздные путешественники, пытливые путешественники, лгущие путешественники, гордые путешественники, тщеславные путешественники, желчные путешественники. Затем следуют: путешественники поневоле, путешественник-правонарушитель и преступник, несчастный и невинный путешественник, простодушный путешественник, и на последнем месте (с вашего позволения) чувствительный путешественник (под ним я разумею самого себя), предпринявший путешествие (за описанием которого я теперь сижу) поневоле и вследствие besoin de voyager, как и любой экземпляр этого подразделения. При всем том, поскольку и путешествия и наблюдения мои будут совсем иного типа, чем у всех моих предшественников, я прекрасно знаю, что мог бы настаивать на отдельном уголке для меня одного».
Русские формалисты давно разгадали фокус под названием «игра точек зрения в романе», прием этот работает и в прозе Аркадия Ипполитова, притворяющейся не художественной, о чем и сам он, истинный стернианец, прекрасно осведомлен. Вот автор и играет масками: то он чувствительный путешественник, то гордый, то пытливый.
Ну и желчный, конечно. Хотя кого этим удивишь? Язвительности-то от него все и ждут: эрмитажному хранителю гравюры маньеризма по должности положено щелкать по носу пошляков и вместе со снобами сетовать, что «Лувр стал похож на огромный развлекательный комплекс, и что там теперь пахнет чипсами, как в „Макдональдсе“, и что никуда не пробиться и ничего не увидеть среди толп, рыскающих в поисках Джоконды, которая все равно не видна, сидит за бронированными стеклами, как президент в лимузине, а все диваны усыпаны, как говно мухами, американцами в шортах с „Кодом да Винчи“ в руках и отсутствием какого-либо намека на мысль в глазах». Цитировать одно удовольствие. Главный объект насмешки Желчного — Голландский Огурец, он же Глупая Говядина. Важный для повествователя собирательный образ, к которому он будет апеллировать на протяжении всей книги. Имя этому герою, которым пользуется Ипполитов, придумал еще Толстой: так Вронский называл иностранного принца, к которому был приставлен, чтобы показывать достопримечательности Петербурга. Под достопримечательностями главным образом имелись в виду актриски-балеринки и шампанское с белой печатью. Компания принца тяготила Вронского, увидевшего в нем кого-то очень похожего на себя, кого в XX веке называли яппи, кого левые презирают за консюмеризм, одним словом, потребителя не только гелей и лосьонов, актрисок-балеринок, но и «культурки, духовки и нетленки». Над любителями «духовки», для которых Милан ограничивается Собором, Пассажем и Ла Скала, где «— о варварство! — приходится отключать мобильник и поэтому все время отжимать эсэмэски», Желчный оттягивается по полной программе, тонко, зло и очень смешно.
Но все эти язвительные остроумные пассажи — более чем предсказуемое достоинство книги. Удивительно другое: как трогательно и вовремя на смену Желчному приходит Простодушный путешественник. Кто-то прыснет: «Простодушный Ипполитов?! Ха! Как же!», но вы только вслушайтесь: «Вокруг Мадонны белобрысые ангелы в белых длинных рубашках, как будто крестьянские дети после бани с удивительными лицами — ну чистый тургеневский „Бежин луг“…»; «Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня, только у Филиппо Липпи их шесть, на одного больше, зовут Петя, все тесно сгрудились вокруг Девы Марии и смотрят прямо на зрителя с большой заинтересованностью. Кроме ангелов-мальчиков, перед Мадонной еще стоят коленопреклоненные святые; у святого Петра Мученика в голове с натянутым на нее капюшоном застрял нож, как в арбузе, застрял прямо в капюшоне, причем на капюшоне белоснежном, ни пятнышка крови…». Да и сам Ипполитов в описании миланского Собора Дуомо признается, что умеет быть и Простодушным путешественником: «Множество сосулек топорщится на его фасаде и свисает в разные стороны, и весь Собор такой ломкий и хрустящий. <…> Простодушный американец Марк Твен восхищался Дуомо как чудом, <…> а английский эстет Оскар Уайльд в письме к матери назвал его чудовищным провалом, монструозным и нехудожественным. Детям и простодушным туристам собор очень нравится. Мне тоже очень нравится…». Прочитав эти признания, уже не чувствуешь никакого снобистского пренебрежения к читателю, даже если читатель и отдыхает на лавочке в Лувре с чипсами в одной руке и Дэном Брауном в другой после волнительной встречи с Джокондой. Ведь простодушие стерновского «простодушного путешественника», которое демонстрирует Ипполитов — это не та простота, которая сами знаете чего хуже, а простота подлинного аристократизма, как «вкус Флоренции, аристократично-простой, — ведь только подлинные аристократы представляют ангелов в виде Феди и Павлуши, Илюши, Кости и Вани, и только аристократ „Бежин луг“ мог написать».
Большую часть повествования ведет не Желчный и не Простодушный, а тот самый удивительный стернианский Чувствительный путешественник, готовый грустить с атлантами Каза дельи Оменони, которые «так устало меланхоличны, прямо как интеллектуалы какие-нибудь, раздумывающие над тем, что вера жестока, безверие же катастрофично»; оплакивать юного Гастона де Фуа, что, «воссозданный резцом Бамбайи, воплощает собой обещание счастья, и от его мраморной смерти веет таким покоем, что она совсем не страшна, а благостна, — чего ж бояться, если умерев пятьсот лет тому назад, можно оставаться таким красивым и обещать так много счастья». И все поистине энциклопедические познания автора, блестящие исторические параллели, удивительные наблюдения об искусстве и литературе изложены Чувствительным путешественником с таким пониманием природы человеческой, что они начисто лишаются налета высоколобой интеллектуальности, от которой порой веет смертельным холодом либо разворачивает скулы зевотой.
Есть еще один тип путешественника, который стерновский Йорик не выделяет, лишь по ханжеской скромности своей, хотя сам вполне относится к этому типу — это Чувственный путешественник. Повествование Ипполитова необыкновенно ароматно и чувственно: «Но вдруг появляются фигуры столь изысканно написанные, нервные и наряженные и осеняют зрителя улыбками столь многозначительными, что дух захватывает, и из-под тени черных сутан придворных неожиданно выглядывает соблазн „красивых лиц и чувственного влечения“, импульсы леонардовского сладострастия пробиваются сквозь благочестие, высшая духовность становится похожей на совращение…». Или строки про «макабрическую эротику Франческо дель Кайро», про Бернини, «брызжущего соком сладострастия», или про интерьер Санта Марии прессо Сан Сатиро, находясь в котором, «испытываешь какое-то чувственное наслаждение. <…> Бледно-голубой свод и мерцание старинного золота капителей, гротески рельефов и кессоны потолка, похожие на идеальное изображение влагалища. <…> Чувственность рождает вину: нет ли в блаженной осязательности красоты архитектуры Браманте кощунства?» Особенно фрустрированных призываю вспомнить слова священника Стерна: «Вы, чьи мертвенно холодные головы и тепловатые сердца способны побеждать логическими доводами или маскировать ваши страсти, скажите мне, какой грех в том, что они обуревают человека? Если Природа так соткала свой покров благости, что местами в нем попадаются нити любви и желания, — следует ли разрывать всю ткань для того, чтобы их выдернуть? — Бичуй таких стоиков, великий Правитель природы!»
Именно эту стернианскую идею взаимопроникновения (чувственную даже в своей логической механике) и развивает Аркадий Ипполитов: «Караваджо — эстет не меньший, чем самые изысканные маньеристы, и велик не тем, что писал Деву Марию с утонувшей проститутки, а тем, что своей гиперчувственностью растворил все границы между высоким и низким, прекрасным и безобразным. <…> Эстетика всегда связана с чувственностью и сексуальностью, и даже когда она их отвергает, а чувственность и сексуальность связаны с протестом, и караваджизм — перманентный Grunge, гранж европейского искусства». «Образы Италии», чей первый том под названием «Особенно Ломбардия», только что вышел в свет, демонстрируют не только жанровое взаимопроникновение (ленивый не написал, что это и не путеводитель, и не мемуары, и не искусствоведческая монография), но и создают свою страну, в которой время течет извиваясь, как S-образная линяя красоты.
Конечно же, эти точки зрения необходимы автору не для мифической объективности — плевал он на объективность, да и что такое ваша объективность? Часы работы миланского Пассажа? Ответ в том, что «на свете ничего нет незамутненного; и величайшее из известных наслаждений кончается обыкновенно содроганием почти болезненным».
«Образы Италии» — мастерски сконструированный текст, повествование в котором ведется голосами Ашенбаха и Тадзио, Карениной и Вронского, Пушкина и Кузмина — голосом рассказчика неуловимого, как Протей и как сама Италия.
Простодушный и Желчный, Чувствительный и Чувственный — все эти голоса нужны автору, чтобы язык обрел свою объемную целостность, чтобы балансировать на грани alta moda и китча, и чтобы текст был finto — интеллектуальный и изощренный, как «вкус раннего маньеризма, как интеллектуальны и изощрены меха для раздувания огня в коллекции Кастелло Сфорцеско».
Полина Ермакова