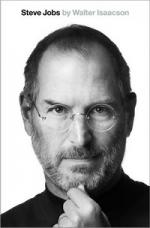I
Они прибыли в Итаку 1 июля 1948 года — в день, когда контракт Набокова вступал в силу. За несколько месяцев до этого Моррис Бишоп предложил подыскать им жилье. Набоков с радостью согласился, но предупредил Бишопа, «что ни я, ни жена не умеем управляться с какими бы то ни было системами отопления (кроме центрального), так что если мы и сладим с каким устройством, так только с самым простейшим. Мои руки — дряблые дуры». Присовокупив еще несколько бытовых подробностей, он добавил: «Простите, что я описываю Вам все эти докучные мелочи, но Вы же сами просили». Именно в найденном Бишопом доме Набоков в конце концов закончил «Лолиту» и в послесловии к ней между делом опоэтизировал центральное отопление: «Мне кажется, что всякий настоящий писатель продолжает ощущать связь с напечатанной книгой в виде постоянного успокоительного ее присутствия. Она ровно горит, как вспомогательный огонек газа где-то в подвале, и малейшее прикосновение к тайному нашему термостату немедленно производит маленький глухой взрыв знакомого тепла». Хотя Набоков и не был буржуазным домохозяином, но, один за другим снимая различные дома в Итаке, он превратился в летописца американских окраин.
После тяжелой зимы Набоков хотел тихого лета среди зелени. Бишоп нашел ему подходящий дом — номер 957 по Ист-Стейт-стрит, принадлежавший преподавателю электротехники; это был первый из десяти преподавательских домов, которые Набоковы занимали в Итаке: обширный, в целый акр газон под сенью гигантской норвежской ели, спускавшийся к стеной разросшимся деревьям и ручью; кабинет на первом этаже, с окнами, выходившими во двор, на все эти градации зелени. В начале лета Набоков был еще слишком слаб, чтобы ловить бабочек или играть в теннис, но зато он мог сидеть в крапчатой тени и разглядывать порхающих по саду тигровых парусников. «Мы совершенно очарованы Корнелем, — написал он вскоре после приезда, — и очень, очень благодарны доброй судьбе, которая привела нас сюда».
Пальчиковые озера штата Нью-Йорк — это узкие продолговатые водоемы, расположенные в глубоких каменных ледниковых котловинах. На краю лесистого озера Кейюга, в мелкой бухточке, образованной тысячелетним натиском льда и камня, находится центр Итаки. На одном конце котловины возвышается Корнельский университет; как гласит местная шутка, в Корнеле всё на холме, и, чтобы туда добраться, нужно подниматься в гору — откуда бы ты ни шел. Поначалу выздоравливавшему Набокову приходилось одолевать подъем не спеша. Он доложил о своем приезде декану Котреллу, обосновался в своем кабинете, 278-й комнате в Голд-вин-Смит-Холле, досконально ознакомился с библиотекой и без промедления осмотрел энтомологическую коллекцию в Комсток-Холле.
Летом Бишопов не было в Итаке, но Моррис Бишоп успел все подготовить к приезду Набоковых. Зная, что нет ничего тоскливее и безлюднее, чем университетский городок летом, Бишоп позаботился даже о развлечениях для Дмитрия. Он попросил двух преподавателей, Уильяма Сейла-младшего с английского отделения и Артура Сазерлэнда с отделения правоведения, заглянуть к Набоковым вместе с их четырнадцатилетними сыновьями. (Артур Сазерлэнд стал близким другом Набоковых.) Зная, что Дмитрий будет учиться в Нью-Хэмп-шире, и наконец-то имея все основания надеяться на стабильный доход, Набоковы решили обзавестись своей первой машиной. Вера быстро освоила навыки вождения: инструктор считал ее блестящей ученицей, а Дмитрий, впоследствии ставший страстным гонщиком, до сих гордится тем, как изящно и на какой скорости его мать водила автомобиль. Они купили восьмилетний «плимут», четырехдверный седан, который дышал на ладан, так что уже на следующий год пришлось сменить его на другую машину, — но этим было положено начало баснословным поездкам на Запад за бабочками, совершавшимся практически ежегодно в течение последующих десяти лет. Единственным действительно интересным объектом лета 1948 года стала редкая гостья, бабочка-долгоносик, быстрым зигзагом порхнувшая мимо, прежде чем Набоков дотянулся до сачка.
В конце августа он послал в «Нью-Йоркер» очередную главу своей автобиографии, «Первое стихотворение» — стилизованный рассказ о стихотворении, которое он сочинил, глядя сквозь цветные стекла беседки Вырского парка на затихающую грозу. В свободное от написания главы время он «отдыхал», готовясь к лекциям. Вообразив себе, что студенты Корнельского университета гораздо интеллектуальнее девушек из Уэлсли (это оказалось не совсем так), он решил, что они смогут одолевать по триста—четыреста книжных страниц в неделю, десять тысяч страниц в год. Ознакомившись с университетской библиотекой, он составил устрашающие списки обязательного чтения и сам стал перечитывать русскую классику. Работа над Пушкиным заставила его задуматься о том, чтобы перевести «Евгения Онегина». Любопытно, что именно к Эдмунду Уилсону он обратился, не вполне всерьез, с таким предложением: «Почему бы нам вместе не засесть за литературоведческий прозаический перевод „Евгения Онегина“ с пространными комментариями?» Именно этот проект — но выполненный в гордом одиночестве — отнимал у него почти что все силы в течение последних пяти лет, проведенных в Кор-неле.
Набоков выздоровел быстрее, чем рассчитывали врачи. Скоро его восьмидесятикилограммовое тело с легкостью одолевало подъемы, а в августе он уже играл в теннис на кортах Каскадилла, и его партнером был великолепно натасканный корнельским тренером Дмитрий.
II
Беспокоило их лишь то — и к этому предстояло привыкнуть — что в сентябре на Стейт-стрит вернется профессор Хэнстин с семейством и придется искать новое жилье. Уже начался август, а они не могли ничего найти. Наконец подвернулся «унылый бело-черный дощатый дом», как впоследствии писал Набоков, «субъективно родственный более знаменитому № 342 по Лоун-стрит, Рамздэль, Новая Англия». Дом номер 802 по Ист-Сенека-стрит был великоват — две гостиные на первом этаже, четыре спальни на втором — но после «морщинистой карлицы-квартирицы в Кембридже» Набоковых это только радовало.
Хотя дети других преподавателей Корнельского университета учились в местных государственных школах, Набоков отправил сына в школу «Холдернесс» в Плимуте, штат Нью-Хэмпшир. Плата за обучение Дмитрия составляла треть зарплаты его отца, зато Дмитрий изучал иностранные языки и не слышал того, что Набоков считал хулиганским жаргоном местных школьников. После отъезда Дмитрия огромный дом совсем опустел, и Набоков постоянно приглашал в гости друзей из Нью-Йорка — Уилсонов, Георгия Гессена, Романа Гринберга, Владимира Зензинова. Вскоре, чтобы сократить расходы на жилье, они взяли жильца.
Постепенно стали обнаруживаться и другие недостатки их обиталища. В «Бледном огне» Кинбот не может как следует протопить свой дом в Аппалачии, «потому… что дом этот был построен в разгар лета наивным поселенцем, не имевшим понятия о том, какую зиму припас для него Нью-Уай». Набоковы обнаружили, что тоже живут в дачном домике, по которому гуляют сквозняки: в 1950 году, когда они съехали, хозяйка выдвинула им единственную претензию — что они вынули ключи из всех дверей и забили замочные скважины ватой.
Набоков не выносил шума и сделал письменное замечание супружеской паре, жившей в том же доме, в отдельной квартире на третьем, последнем этаже:
Хочу в очередной раз напомнить, что ваша гостиная расположена точь-в-точь над нашими спальнями и что нам слышно практически каждое слово и каждый шаг.
В субботу вечером у вас, очевидно, были гости, и нам не давали спать до половины второго ночи. Мы считаем, что 11 часов вечера — довольно великодушный предел, но не стали бы возражать, если бы изредка, по особому поводу, ваши вечеринки затягивались до 11:30. Однако, боюсь, я вынужден настаивать на том, чтобы в 11 часов — или самое позднее в 11:30 — все громкие разговоры, передвигание мебели и т. д. прекращались.
Два года спустя Набоков начертал им менее безапелляционное послание, в конце которого выражал надежду, что «если вы хотите, чтобы я и впредь писал рассказы, которые вы так любезно удостоили похвалы, вы не станете нарушать спокойствие ума, их порождающего».
Неудивительно, что до прихода в Корнельский университет Набоков близко знал там лишь одного человека, и тот был энтомологом. В 1944–1945 годах Уильям Форбс читал лекции в Музее сравнительной зоологии. Имевшаяся в Корнеле прекрасная коллекция бабочек примирила Набокова с уходом из Музея сравнительной зоологии, однако он ограничился лишь тем, что время от времени заглядывал в Комсток-Холл. В первый корнельский год он написал небольшую статью, в которой рассматривал присланную ему неотропическую голубянку нового подвида, в дальнейшем же его труды по лепидоптеро-логии свелись к кратким заметкам. Его рабочим местом в Итаке стал не стол с микроскопом в Комсток-Холле, а выходивший окнами на север кабинет с высоким потолком в Голдвин-Смит-Холле.
Там же, в Голдвин-Смит-Холле, он, как правило, и преподавал. В пятницу 24 сентября он прочел первую лекцию по русской литературе, курс 151–152 (понедельник, среда, пятница, 11 часов, Моррил-Холл, аудитория 248). Четырнадцать студентов выбрали этот курс как зачетную дисциплину, еще трое посещали его факультативно. Как и в Уэлсли, в первом семестре он пользовался хрестоматией Герни «Сокровищница русской литературы», содержавшей материал от истоков до Пушкина и Лермонтова. От себя Набоков добавил «Горе от ума» Грибоедова, может быть, самое непереводимое литературное произведение из всех когда-либо написанных, поскольку строгие рифмы в нем уживаются с клочковатой грамматикой и клочковатыми фразами разговорной речи. Набоков пользовался переводом сэра Бернарда Пареса, который довольно изрядно подправил.
Во вступлении к первой лекции он сказал несколько слов от себя:
Хотя в каталоге этот курс и называется «обзорным», это вовсе не обзор. Кто угодно может обозреть беглым глазом всю литературу России за одну утомительную ночь, поглотив учебник или статью в энциклопедии. Это слишком уж просто. В этом курсе, дамы и господа, меня не интересуют обобщения, идеи и школы мысли с группами посредственностей под маскарадным флагом. Меня интересует конкретный текст, сама вещь. Мы пойдем к центру, к сути, к книге, а не к расплывчатым обобщениям и компи-ляциям.
Через час началась его первая лекция на русском языке, обзор русской литературы, курс 301–302 (понедельник, среда, пятница, полдень, Голдвин-Смит, ауд. 248). На этот курс записалось десять студентов и семеро ходили факультативно. Одним из студентов был Пол Робсон младший, свободно говоривший по-русски (благодаря своему отцу он побывал в Советском Союзе), убежденный коммунист. Набоков вел занятия по-русски, но, хотя студенты бойко взялись обсуждать книги на том языке, на котором они написаны, он постепенно разрешил им перейти на английский. Тексты, однако, по-прежнему читались в оригинале. В конце семестра они разбирали «Евгения Онегина», и каждая глава занимала целую лекцию — Набоков сам переводил ее прозой и комментировал строку за строкой. Он велел студентам купить карманное издание романа — так, чтобы оно действительно помещалось в карман, и убедил их снова и снова возвращаться к его любимым строфам и выучить их наизусть: «Вы должны работать над тем, чтобы заново открыть свою память».
Набоков рекомендовал Веру в качестве преподавателя русского языка, но на языковом отделении не было вакансии. Вместо этого она стала его постоянным фактотумом. Теперь она уже не просто печатала все его письма, а сама вела его корреспонденцию от своего имени, за исключением немногочисленных личных или особо важных деловых писем. Она отвозила его на занятия и встречала его. После отъезда Дмитрия Вера присутствовала на всех лекциях Набокова, помогая ему раздавать тетради, писать слова и фразы на доске. Студентов изумлял контраст между ее царственной осанкой, лучезарной седовласой красой — многие признавались, что никогда не видели столь красивой женщины ее возраста, — и ее, как они считали, лакейской должностью.
Благодаря Вериной помощи и своей врожденной независимости Набокову удавалось существовать вне административных структур университета. Моррис Бишоп сказал, что он будет заведовать отделением русской литературы, и Набоков даже заказал писчие принадлежности со своим новым титулом. На самом деле он был единственным преподавателем русской литературы, и более того — хотя Набоков узнал об этом только в 1950 году — отделения русской литературы в Корнеле вообще не существовало. Он был равнодушен к внутренней жизни университета. Однажды, получив из библиотеки каталог текущих советских публикаций, он тут же послал его назад, нацарапав на обложке: «Советской литературы не существует». Он принимал участие в ежемесячных семинарах по русистике, где преподаватели делали доклады по своей специализации — русская литература, история, политика, экономика, но за все время преподавания в Корнеле ни разу не был на заседании кафедры.
IV
Набоков не чуждался коллег, но у него были свои особые интересы и свои особые повадки. Рассеянно шагая по коридорам Голдвин-Смит-Холла, он мог порой пройти мимо знакомого, не заметив его, — но в таких случаях Вера, как правило, тормошила мужа. В других случаях он реагировал молниеносно. Преподаватель английского отделения Роберт Мартин Адамс повредил дома руку — ему пришлось носить ее на перевязке и терпеть тяжеловесные шутки коллег. У одного лишь Набокова шутка получилась памятной: завидев Адамса, он радостно воскликнул: «А, дуэль!»
Установив правило — никогда не обсуждать преподавание русского языка — он обеспечил себе возможность играть в теннис с Мильтоном Коуэном, возглавлявшим языковое отделение. Набоковские превосходные смэши, длинные, отлогие драйвы, порой чередовавшиеся с короткими или подрезанными, заставляли соперника метаться по всему корту, а сам Набоков при этом спокойно стоял на месте и отбивал удары. Правда, Коуэн заметил, что, когда он резко отбивает мяч с лету, Набоков не бежит за мячом. «В результате, когда я начинал проигрывать, я шел к сетке. Мы подолгу держали мяч в игре, и счет в геймах оставался равным до тех пор, пока нам наконец не прискучивало. Ни один из нас так и не выиграл ни единого сета, насколько я помню. да мы и не ощущали потребности выиграть».
В «Бледном огне» Джон Шейд вспоминает то время, когда «все улицы Колледж-Тауна вели на футбольный матч»: разумеется, на американский футбол. Набоков избегал толпы и вместо этого шел смотреть жалкую игру футбольной команды Корнеля с безлюдной боковой линии, где дрожали на ветру несколько зрителей. Еще Набоков, конечно же, любил играть в шахматы. Философ Макс Блэк прослышал о том, что он замечательный шахматист, и радостно принял приглашение сыграть с ним. Блэк, бывший шахматный чемпион Кембриджа, однажды обыграл Артура Кестлера, бывшего чемпиона Венского университета, в четыре хода («счастливая случайность», говорит Блэк). Он вспоминает, что ошибочно считал Набокова очень сильным игроком и поэтому тщательно обдумывал каждый ход. Сам же Набоков знал, что он отнюдь не блестящий шахматист: воображение, позволявшее ему сочинять великолепные шахматные задачи, не помогало в шахматных турнирах. Тем не менее он выигрывал у большинства своих партнеров. К удивлению обоих, Блэк легко победил Набокова всего за пятнадцать минут. Набоков предложил сыграть еще одну партию и так же быстро проиграл. В течение последующих десяти лет он часто встречался с Максом Блэ-ком, но больше уже не предлагал ему играть.
Блэка поразило, что такой разборчивый эстет, как Набоков, угощал его местным портвейном из большого стеклянного кувшина. Другой сотрудник Корнеля тоже остался при убеждении, что Набоковы «не знают правил». Так оно и было — у них были свои собственные правила и свои собственные немногочисленные друзья.
В Корнеле они тесно общались лишь с Моррисом Бишопом и его женой Элисон. Моррис Бишоп, заведующий отделением романской литературы, автор биографий Паскаля, Петрарки, Ларошфуко и многих других книг, был на шесть лет старше Набокова и славился своим остроумием и ораторским искусством. Солидный профессор с изысканными манерами, очень обаятельный, страстно любящий литературу и языки (он знал греческий, латынь, итальянский, французский, испанский, немецкий и шведский) и талантливый автор шуточных стихов, по снисходительному на этот раз мнению Набокова, — он был «гениальным рифмоплетом». Бишоп и Набоков периодически обменивались шуточными лимериками. Еще до того, как были переведены лучшие русские книги Набокова, даже до того, как он написал свои лучшие английские книги, Бишоп считал его одним из лучших современных писателей. Как-то он поделился с женой впечатлением, которое произвели на него Владимир и Вера Набоковы: «Это, пожалуй, два самых интересных человека среди всех наших знакомых».
Элисон Бишоп была с ним согласна. Талантливая художница, стиль которой напоминал Сомова и Бенуа в наиболее остроумных их проявлениях, она живо интересовалась проблемами эстетики и умела с удивительным радушием принимать гостей. Набоковы нередко ужинали у Бишопов — их дом находился к северу от кампуса, в богатом лесистом пригороде Кейюга-Хайтс, в котором Набоковы впоследствии прожили несколько лет перед отъездом из Итаки. Дочь Бишопов Элисон (теперь Элисон Джолли, специалист по лемурам) вспоминает Набокова как «замечательного человека, совершенно замечательного, необычайно доброго, безоглядно доброго, милого, доступного. Чувствовалось, что он все про всех понимает. Он мало говорил, зато слушал всех, даже детей. Слова прилипали к нему, как мухи к липкой бумаге. Он казался большим, взъерошенным, неловким, в отличие от Веры, которая тогда была самой красивой из всех виденных мною женщин, прекрасной, как изваяние».
V
Поскольку русский язык Набокову преподавать больше не приходилось, а лекции по литературе посещали немногие, работа в Корнеле показалась ему «значительно более удобной и менее обременительной, чем в Уэлсли». Но в первый год ему надо было подготовить новый лекционный курс, поэтому времени, чтобы писать, почти не оставалось. В октябре, собираясь разбирать в аудитории «Слово о полку Игореве», он сам перевел его на английский язык. Прочитав лекции, он начал писать рецензию на новое французское издание «Слова», подготовленное работавшим в Гарварде Романом Якобсоном совместно с Марком Шефтелем, корнельским специалистом по русской истории. Одновременно он стал составлять аккуратный подстрочник — в якобсоновском издании «Слова» фигурировал ходульный перевод Сэмюэля Кросса. В январе и феврале 301-я группа вплотную занималась «Евгением Онегиным», и Набоков, собираясь предложить на следующий год семинар по Пушкину, уже начинал обдумывать «книжечку об „Онегине“: полный перевод в прозе с комментариями, где приводились бы аллюзии и прочие объяснения по каждой строке — нечто вроде того, что я приготовил для своих занятий. Я твердо решил, что больше не буду делать никаких рифмованных переводов — их диктат абсурден, и его невозможно примирить с точностью». Он и не думал, что эта «книжечка» вырастет до четырех толстых томов.
Во время студенческих каникул (конец января — начало февраля) Набоков закончил рецензию на «Слово о полку Игореве» Якобсона—Шефтеля и написал еще одну главу автобиографии, «Портрет моей матери» — о своей необычайной духовной близости с матерью, начав с рассказа об их общей синестезии. Набоков пришел в восторг, когда через два месяца после публикации его подробное описание цветного слуха было процитировано в научной статье по синестезии. Правда, Вера Набокова написала от его имени одному из авторов статьи, оспаривая прозвучавшее в подтексте утверждение, что метафоры, отобранные Набоковым для определения точных цветов, которые он ассоциирует с каждой буквой алфавита — «В группе бурой содержится густой каучуковый тон мягкого g, чуть более бледное j и h — коричнево-желтый шнурок от ботинка», — являются «уступкой литературе. Он говорит, что, будучи ученым (энтомологом), он считает свою прозу научной и использовал бы те же „метафоры“ в научной статье».
В «Нью-Йоркере» редакторы вновь исчеркали его рукопись — в очередной раз продемонстрировав стремление перекраивать фразу за фразой. Отвечая на вопросы Кэтрин Уайт (почти что сорок ответов!), Набоков писал:
Я знал слово «fatidic», когда был ребенком (вероятно, из книги по мифологии, которую читала мне английская гувернантка), но я готов уступить, если Вы предпочитаете «пророческие голоса» (однако я решительно протестую против вставленного «но» в первом предложении). Очень жаль, что у Вас такое отношение к «fatidic accents», которое выражает как раз то, что я хочу выразить. Девушки по имени «Жанна из Арка» никогда не существовало. Я предпочитаю ее настоящее имя Жоанета Дарк. Будет довольно глупо, если в номере «Нью-Йоркера» за 2500 год меня упомянут как «Вольдемара из Корнеля» или «Набо из Ленинграда». Словом, я хотел бы оставить «fatidic» и «Жоанету Дарк», если возможно, хотя вообще поступайте как Вам угодно.
VI
Во втором семестре, начавшемся в середине февраля, к двум обзорным семинарам Набокова добавился еще один — Русская поэзия, 1870–1925 годы. Этот семинар проходил у него дома по четвергам с 15.30 до 18.00; два студента избрали его в качестве зачетной дисциплины, а один посещал факультативно. Набоков собирался рассматривать русскую поэзию по трем основным направлениям: 1) Тютчев—Фет—Блок; 2) Бенедиктов—Белый—Пастернак; 3) (Пушкин)—Бунин—Ходасевич, хотя в программу семинара он также включил Бальмонта, Брюсова, Северянина, Маяковского, Есенина, Гумилева и Ахматову. Он настаивал на том, чтобы студенты выучились скандировать русский стих, дабы почувствовать фантастическое богатство блоковских дольников. Сорок лет спустя один из его студентов, не ставший ни литературоведом, ни специалистом по русскому языку, говорил, что благодаря Набокову он по-прежнему читает Блока для своего удовольствия.
Этот студент, Ричард Баксбаум, также посещал обзорный семинар на русском языке. Он вспоминает, что большинство студентов в семинаре придерживались левых взглядов и были удивлены, хотя и не разочарованы тем, что Набоков разбирает тексты вне социального контекста. Дабы привить студентам понятие, что у литературы совершенно не обязательно должна быть социальная цель, Набоков велел им прочесть общепризнанные, но отвратительно написанные работы Белинского о том, что литература — это орудие гражданской борьбы. Вакцина сработала.
Три семинара по литературе — и времени больше ни на что не оставалось. Набоков пожаловался своему другу Добужинскому, что, хотя ему нравится преподавание, хотелось бы выкроить больше времени, чтобы писать: «У меня, как всегда, дела больше, чем можно уместить в самое эластичное время даже при компактнейшем способе укладки… У меня сейчас обстроено лесами несколько крупных построек, над которыми, поневоле, работать приходится урывками и очень медленно».
В марте 1949 года он написал в книжное обозрение «Нью-Йорк таймс» совершенно разгромную рецензию на первый роман Сартра: «Имя Сартра, как я понимаю, ассоциируется с модной разновидностью философии кафе, и поскольку на каждого так называемого „экзистенциалиста“ находятся немало „высасывателистов“ (уж позвольте мне изобрести вежливый термин), этот английского производства перевод первого романа Сартра „Тошнота“. должен пользоваться некоторым успехом». Перечислив вопиющие ляпсусы в переводе, Набоков заглядывает вглубь:
Стоило ли вообще переводить «Тошноту» с ее сомнительными литературными достоинствами — это другой вопрос. Она принадлежит к тому внешне напряженному, но на самом деле очень рыхлому типу литературных произведений, который популяризировался многими халтурщиками — Барбюссом, Селином и так далее. Где-то за их спинами маячит Достоевский в худших его проявлениях, а еще дальше — старик Эжен Сю, которому столь многим обязан мелодраматичный россиянин…
…Автор навязывает свою пустую и произвольную философскую фантазию беспомощному персонажу, изобретенному им специально с этой целью, — и нужен исключительный талант, чтобы этот трюк сработал. Не будем спорить с Рокентеном, который приходит к выводу, что мир существует. Но сделать так, чтобы мир существовал как произведение искусства, оказалось Сартру не по силам.
Этот резкий выпад восприняли как попытку сквитаться с Сартром за то, что в 1939 году он раскритиковал французский перевод «Отчаяния». На самом деле Набоков не держал на Сартра личного зла, и, когда «Нью-Йорк таймс» поблагодарил его за блестящую рецензию и предложил отрецензировать еще одно произведение Сартра — «Что такое литература?», Набоков отказался: «Я читал французский оригинал и считаю его чушью. По-моему, он вообще не заслуживает рецензии». Зато он объявил, что давно хотел «немножко погрызть такие могучие подделки, как г-н Т. С. Элиот и г-н Томас Манн». Набоков от всей души поддержал Дэвида Дейчеса, ныне возглавляющего отделение литературоведения в Корнеле, который осудил в одной из своих тогдашних статей антисемитизм Элиота.
В то время Набоков был настроен воинственно. В конце апреля он устроил вечеринку для студентов, во время которой язвительно отзывался о фильме Лоренса Оливье «Гамлет». Один студент спросил: «Как вы можете говорить такие вещи? Вы разве видели этот фильм?» «Конечно же я не видел фильма, — ответил Набоков. — Вы думаете, я стал бы тратить свое время на такой скверный фильм?» В тот же день в Нью-Йорке была опубликована рецензия на Сартра. Увидев свежий номер «Нью-Йорк таймс», Набоков пришел в ярость — редакторы, сильно подправившие весь текст, выбросили из него четвертый и кратчайший пример переводческих ляпсусов: «4. Foret de verges (лес фаллосов) в кошмаре героя ошибочно принят за что-то вроде березового леса». Набоков тут же послал в журнал гневную телеграмму, обвиняя редактора в том, что тот изуродовал статью. Два дня спустя в доме Набоковых на
Сенека-стрит собрались гости. «Я угостил их копией этой гневной телеграммы. Один из моих коллег, твердолобый молодой ученый, заметил с лишенным юмора смешком: „Ну, я понимаю, вам хотелось послать такую телеграмму — нам всем хочется в подобных случаях“. Мне показалось, что я ответил ему вполне дружелюбно, но жена впоследствии сказала, что грубее некуда».
В начале этого года Набокова пригласили выступить на Пушкинском вечере в Нью-Йорке, устроенном местными эмигрантами. Он отказался, потому что у него не было времени писать текст выступления, а потом убедил Зензинова, что будет лучше, если он прочитает что-нибудь из своих русских книг. 6 мая, в пятницу, состоялся их первый дальний выезд на машине — Вера повезла его «сквозь прелестный, оживленный, пышногрудый ландшафт» в Нью-Йорк. Следующие два дня были заполнены до предела. В субботу вечером Набоков читал свои стихи в Академи-Холле на 91-й Западной улице, комментируя свои русские стихи последних лет так, что аплодировали даже идеологически подкованные слушатели. Набоковы побывали в гостях у русских друзей — Анны Фейгиной, Наталии Набоковой, Георгия Гессена, Николая Набокова; Набоков играл в шахматы с Романом Гринбергом, Гессеном, Борисом Николаевским и Ираклием Церетели. В воскресенье они были на эмигрантском Пушкинском вечере. Невнятные, но неоднократно появлявшиеся в печати высказывания о том, что Набоков, поселившись в Америке, полностью прекратил все сношения с русскими друзьями, на самом деле необосно-ванны.
В мае Дуся Эргаз, литературный агент Набокова во Франции, сообщила, что договорилась с Ивон Давэ, секретаршей Жида, о переводе «Подлинной жизни Себастьяна Найта» на французский язык. Набоков настаивал на том, что роман должен переводить его любимый переводчик Жарль Приэль. Когда г-жа Эргаз пожаловалась, что ему, похоже, все равно, когда его книги будут изданы во Франции, он ответил: «Вы совершенно правы: я не придаю большого значения тому, будут ли мои книги опубликованы во Франции сегодня или завтра, потому что в самой глубине души я не сомневаюсь, что настанет день, когда их признают». В конце концов он счел перевод Ивон Давэ приемлемым, и роман был опубликован издательством «Галлимар» в 1951 году.
В конце мая закончился весенний семестр, и Набоков принялся за очередную главу своей автобиографии — «Тамара», рассказ о достопамятной любви к Валентине Шульгиной. К 20 июня он отправил главу в «Нью-Йоркер» и приготовился к отъезду на запад.
Отрывок из книги Брайана Бойда «Владимир Набоков. Русские годы»