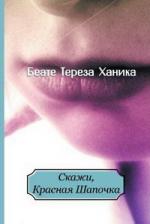- Евгений Водолазкин. Лавр. — М.: Астрель, 2012.
— Тварь Божья, ты говоришь. Можно ли из этого заключить, что ты причастен к человечеству?
— Я вне его, — гласил ответ. — Покиньте место, которое указано мне затем, чтобы я ценой величайшего покаяния, может быть, всё-таки ещё обрёл спасение.
Томас Манн, «Избранник»
Могут ли праведная жизнь и мученическая смерть искупить любовь к человеку, что была превыше любви к Богу? И чем становится любовь, когда смерть забирает любивших? Роман Евгения Водолазкина — книга, которой есть что сказать и о любви, и о смерти, и об искуплении, притом сказать необычным, новым для литературы языком — по крайней мере, для русскоязычной.
Соединение различных речевых пластов, стирающих временные границы даже более очевидно, чем наполняющие книгу «анахронизмы», не нарушает цельности текста, — напротив, неожиданным образом придаёт ему естественность, свежесть. Современный роман о Средневековье, да и о любой другой минувшей эпохе, не мог бы быть иным — современный рассказчик неизбежно прочитывает древний контекст через более поздние.
Как таковой «вектор истории» в человеческом сознании отсутствует, — есть он разве что в той его части, которая называется разумом и стремится всюду сунуться с линейкой. Присутствует, скорее, сложная система зеркал, в которых многократно отражаются и преломляются события и их трактовки. Иными словами, «Лавр» — роман неисторический (так гласит подзаголовок) не столько потому, что повествует о том, чего никогда не случалось (может быть, и случалось, да только не попало в летописи, или же попало, да вместе с летописями по несчастливому стечению обстоятельств пропало), но скорее потому, что в нём отсутствует ощущение истории как протянувшейся из прошлого в будущее цепочки причинно-следственных связей. Прошлое влияет на будущее, но не в меньшей степени будущее воздействует на прошлое и преображает его.
«Лавр» — рассказ о жизни в той же мере, в какой и рассказ о смерти, и границы между жизнью и смертью в тексте стираются так же, как и воображаемые границы между эпохами, что кажется логичным: жизнь и смерть — только разные временны́е периоды, вре́менные состояния человеческой души, а потому они иллюзорны. Если отсутствует время как таковое, то нет ни жизни, ни смерти, а есть только бытие в вечности — не застывшее, но представляющее собой одно непрерывное изменчивое состояние. Потому «Лавр» — рассказ о бытии души, о тревожном и трудном её пути и её успокоении.
«Увидев Смерть, душа Арсения сказала: не могу вынести твоей славы и вижу, что красота твоя не от мира сего. Тут душа Арсения рассмотрела душу Устины. Душа Устины была почти прозрачна и оттого незаметна. Неужели я тоже так выгляжу, подумала душа Арсения и хотела было прикоснуться к душе Устины. Но упреждающий жест Смерти остановил душу Арсения. Смерть уже держала душу Устины за руку и собиралась её уводить. Оставь её здесь, заплакала душа Арсения, мы с ней срослись. Привыкай к разлуке, сказала Смерть, которая хотя и временна, но болезненна. Узнаем ли мы друг друга в вечности, спросила душа Арсения. Это во многом зависит от тебя, сказала Смерть: в ходе жизни души нередко черствеют, и тогда они мало кого узнают после смерти. Если же любовь твоя, Арсение, не ложна и не сотрётся с течением времени, то почему же, спрашивается, вам не узнать друг друга тамо, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
Чистого художественного вымысла в романе так же немного, как и документальной правды, — живое повествование возникает из сложной комбинации цитат, причём текст не скрывает своей цитатности. Вероятно, в том числе и благодаря такой откровенности он не выглядит эклектичным и искусственным. Герой — такой же синтетический, как сам текст, собранный из множества реальных и вымышленных образов, оказывается таким же, как текст, живым и неожиданно знакомым. Действительно, разве не было у этого странника, исцеляющего словом и прикосновением, иных имён, кроме упомянутых автором Арсения, Устина, Амвросия и Лавра? Нет сомнения в том, что таковые имена у него были, и были они неисчислимы, а ещё чаще был он безымянен. Безымянный — настоящий или вымышленный, кающийся грешник или святой — он без страха входил в дома к неизлечимо больным и, если не возвращал их к жизни, то облегчал их страдания.
Рубрика: Рецензии
Письма водяных девочек
- Мария Галина. Всё о Лизе. Время, 2013
- Мария Галина. Письма водяных девочек. Айлурос, 2012
Стихотворения Марии Галиной обладают удивительным свойством: подобно множеству живых существ, они организуются в своеобразную экосистему, где происходит постоянное внутреннее движение, пульсация материи, рождение новых образов и сюжетов — иными словами, эволюция. История мира возникает из реликтового болота текста; Мария Галина работает со знаком, как добросовестный исследователь — со своими живыми и ископаемыми объектами, то ли формулируя альтернативную теорию эволюции нашего мира, то ли описывая зарождение новой жизни в его пост-апокалипсическом будущем, то ли рассказывая о параллельной реальности, где действует непостижимая логика.
Я видал такое что сам не знаю
что это было
История мира — миф о жизни и смерти, точнее, о жизнях и смертях, сменяющих друг друга в нескончаемом и неостановимом потоке. Если попытаться расположить истории, составляющие две книги, в воображаемом хронологическом порядке, то можно сказать, что «Всё о Лизе» — повесть о жизни до смерти, завершающаяся библейским «и земля стоит исполнена величья / безвидна и пуста», а «Письма водяных девочек» — повесть о жизни после смерти. Однако, помня о цикличности любого мифа, можно с уверенностью поменять местами эти «до» и «после». С этой точки зрения эволюция также представляет собой цикличный миф, а человек ошибочно полагает её вектором — только потому, что в силу быстротечности своего существования не способен увидеть, что прямая — в действительности только фрагмент бесконечно огромной окружности.
Когда человеческий род покинет эти края,
Кто придёт им на смену? Разумные муравьи,
Крысы с ловкими пальцами? Думающие сурки?
Их мелкие боги, тотемные предки, мудрые старики…
Садовый бог, дриады, инопланетяне, водяные — бывшие водолазы, акула, выпускающая из пасти проглоченных ею людей, болотная камышёвка и горихвостка из устаревшей с точки зрения современной биологии «Жизни животных» Альфреда Брема, — всем им находится место в разработанной автором строгой систематике живых, неживых и сказочных созданий. Не романтический, но научный язык при говорении о мистическом, встраивание сверхъестественного в академический дискурс оказывается наиболее эффективным для разрушения полупрозрачной границы между потусторонним и посюсторонним, создаёт ситуацию, в которой самые фантастические существа обретают право голоса.
это были
всякие мокрые мелкие
шевелящиеся
обрастающие скелетами
теперь они мёртвые
розовые белые
сухие крошащиесяизвестняки способны
медленно разлагаться
до углекислого газаперекристаллизироваться
до белого розового мраморапроизводить мёртвых безумных богов
минерализоваться
нуммулиты
осколки света
отблёскивающие в скальных плитах
точно крохотные монеты
минерализовавшиеся слёзы
чечевицеобразные линзы
искривляющие пространство
позднего кайнозоя
верхнего неолитавымерший род корненожек
В захоронениях древних царей, в палеозойских отложениях, в вечной мерзлоте, в невидимом глазу микромире Мария Галина обнаруживает свидетельства присутствия в привычной человеку действительности второй, подчас гораздо более настоящей реальности, которая существовала до и будет существовать после, которая может показаться пугающей, но при детальном рассмотрении оказывается скорее обнадёживающей, как обнадёживающе всё вечное и абсолютное, всё, не подверженное окончательному распаду и необратимой смерти.
И водяные девочки, запрокинув голову, смотрят туда,
где скользят по морской поверхности чудовищные суда,
чёрные авианосцы, плавучие города,
водяные девочки перепончатыми лапками машут им вслед
их прозрачные жабры омывает светящаяся вода.
Парадоксальным образом текст, в котором добрые боги превращаются в чудовищ, спящих на дне мирового океана, звучит почти оптимистично. Систематика не рассматривает человека как «венец творения», для неё Homo sapiens — только строчка в длинном перечне видов. Отрастёт ли у человека русалочий хвост, проклюнутся ли на лбу рожки, — суть от этого не изменится, «потому что главное — это сердце».
В художественном мире Марии Галиной жизнь и смерть неизбежны, но никогда — не окончательны; их взаимоперетекание безболезненно: главная героиня повести «Всё о Лизе», умирая, в своих грёзах оказывается на берегу моря, то есть именно там, где зарождается новая жизнь, начинается следующий виток эволюции.
Говорят, что в глухие безлунные ночи
Не доезжая кафе «Любава»
На обочине трассы
Стоит никакая не проститутка
Не дальнобойщица-плечевая,
А приличная девушка в белом платье,
Выбегает на трассу, машет руками,
Бросается наперерез машинам,
Просит довезти до ближайшего поворота.
У поворота спрыгивает с подножки,
Торопливо уходит, белое платье
Слишком быстро гаснет в зеркальце заднего вида.
Там, за поворотом, никакого жилья нету,
Только одно заброшенное кладбище,
Пластиковые венки, обесцвеченные дождями,
Мокрые металлические ограды…
В передрассветной мути, в кафе «Любава»
Где хороший шашлык и горячий кофе
Дальнобойщики переговариваются меж собою…
Что-то, говорят, давно не было нашей,
Говорят, паршивая эта трасса,
Чуть зазеваешься и кирдык котёнку,
А эта хоть как-то в тонусе держит, всё веселее.
Очень уж за рулём, говорят, одному тоскливо
Очень уж одиноко…
Потустороннее, проникающее в действительность, преобразующее и постепенно подменяющее её — не враждебно; банальный курортный роман оказывается гораздо опаснее путешествия в лес, окутанный клубящимся туманом и наполненный загадочными голосами; связь с живыми завершается гораздо более драматически, чем общение с мёртвыми и несуществующими. Привычная реальность кажется грубой маской, скрывающей лицо застывшего в вечном сне божества — жуткое и привлекательное одновременно. В стихотворениях Марии Галиной, как в осколках зеркала троллей, отражаются его фрагменты, так что читатель волен с помощью собственного воображения выстроить целостную картину.
луна в сущности не спрашивает никого
озаряя горы и долины
её боятся даже храбрые мужчины
она же не боится никого
один рог у неё чистый голубой нож
второй рог у неё окровавлённый нож
два блистающих острия
дорогая луна если кого возьмёшь
пускай это буду не я
Текст пронизан множеством литературных и нелитературных цитат — от Говарда Филлипса Лавкрафта до детских считалок, от научных статей до стихов современных поэтов. Периодически повествователь открыто вмешивается в рассказ комментарием, оговариваясь: «всё это я сообщаю в помощь критикам, которым будет легче отслеживать аллюзии и заимствования». Этот приём имеет неожиданный эффект: автор как бы сообщает читателю: «Всё в порядке, я здесь, а это значит — Конец Света ещё не наступил, я рядом, а на жабры и перепонки между пальцами, пожалуйста, не обращайте внимания».
Книги, которые будут читать дети
- Янош «письмо для тигра», Мелик-Пашаев, 2012
- Янош «О, как ты прекрасна, Панама», Мелик-Пашаев, 2012
- Николай Ватагин «Ехали машины», Мелик-Пашаев, 2012
- Эрвин Мозер «Где спит мышка?», Мелик-Пашаев. 2012
Все творческие люди одержимы идеей чего-то особенного. Простота у нас не в чести. Когда Репин предлагал молодым художникам нарисовать лошадку, они говорили «фи». Когда в школе нам задавали прочитать «Капитанскую дочку», мы тоже говорили «фи».
Издательство «Мелик-Пашаев» отличается от всех тем, что не хочет ни с кем соревноваться в оригинальности. Оно упрямо стремится завоевать именно детскую, а не родительскую аудиторию. Как сказала замечательный поэт и писатель Анна Игнатова: «Детские книги — это такие книги, которые будут читать дети». Никуда не денешься. Но тут возникает вопрос: должны ли издатели и писатели подстраиваться под детей? Так уж ли безупречен детский вкус? И потом — разве настоящее искусство творится не ради искусства? Разве подлаживание под спрос не превращает литературу в книжную продукцию? Я этого не знаю, поэтому и задаюсь вопросом.
Замечательный немецкий писатель Янош (Хорст Экерт), чьи книги «Письмо для тигра» и «О, как ты прекрасна, Панама!» недавно вышли на русском языке, признается журналистам: «Я бы с удовольствием писал книги поумнее, но покупатели — это, как правило, мамы, которые почему-то думают, что детям нужны глупые книжки».
Истории Яноша совсем не глупые, а очень даже философские, смешные и прекрасно переведены Александром Яриным, но по ним почему-то видно, что писатель сидел на «литературной диете». Ничто не раздражает, не вызывает чувства протеста или дикого счастья. Да, ребёнок не заплачет, читая эти книги, ему, наверное, даже скучно не будет, и он узнает что-то «хорошее» — например, что родной дом лучше любой Панамы, или как здорово писать письма тому, кого любишь. И что?
То же самое с книгой «Где спит мышка?» Эрвина Мозера — иллюстрации изящны, сюжеты трогательны — мышка находит приют на груди спящего медведя; медвежонок на летающем ящике выручает из беды кошку; храбрые ежата спасают мышку от лисы. И что?
На этих «И что?» самое время открыть книжку «Ехали машины», придуманную Татьяной Руденко и Марией Мелик-Пашаевой и нарисованной Николаем Ватагиным. Текст внимания не стоит, но картинки — завораживают, потому что — я помню, как в детстве не могла оторваться от картинок к книжке «Крот в городе» (иллюстрации Зденек Милер). Не знаю почему. Потому что они легко «считываются», вызывают симпатию, они настоящие, смешные и показывают то, что понятно маленькому ребёнку.
Тут возникает дилемма: умом я понимаю, что доступности, живости и профессионализма недостаточно, чтобы создать шедевр. Но также я понимаю, что на каждой странице «Алисы в стране чудес» (шедевра!) ребёнок спотыкается и говорит, как я когда-то: «Мама, пожалуйста, хватит!»
Ну, и что будем делать? Предлагаю любить и жаловать детские книги для детей. Потому что катарсис мы испытать всегда успеем, а вот почувствовать себя уютно, спокойно и безмятежно с каждым годом становится всё труднее.
Алла Горбунова. Альпийская форточка
- СПб.: Лимбус Пресс, 2012
Когда я был младенцем в пеленах,
ты много лет уже была мертва,
теперь я в старости и на пороге гроба,
а ты на свет ещё не рождена, —
так мы друг друга потеряли оба,
на середине встретившись едва.
Задавшись целью объяснить тексты Аллы Горбуновой, можно привести внушительный список философских и художественных произведений, однако таким образом едва ли можно будет сказать об этих стихотворениях что-то новое: они не столько актуализируют смыслы претекстов, сколько порождают собственные, новые смыслы, создавая неповторимый и зыбкий мир, который чуть тронешь, — и он уже рассыпался хрупкими льдинками, из которых вечный мальчик Кай до сих пор складывает свою die Ewigkeit в чертоге Снежной Королевы.
Отверсты глаза на листьях ночных,
приложи к ним глаза на ладонях своих —трогай листья, и кожу, и завязь цветка,
и крыло лепестка с лепестком мотылька.
Каждое стихотворение в книге — законченное художественное высказывание, при этом неразрывно связанное с каждым предыдущим и каждым последующим, так что вся «Альпийская форточка» и — шире — всё творчество поэта оказывается единым словом, картиной, вопреки правилам живописи исполненной акварелью на плотном холсте. Рассматривая прозрачный, ажурный рисунок, не сразу заметишь за ним тугие переплетения волокон, прочную на разрыв ткань — так, наблюдая сновидение, не различаешь исторгший его тёмный реликтовый поток, берущий начало где-то в досознательном прошлом человечества, непрерывно порождающий и тотчас поглощающий образы, лишь отчасти поддающиеся осмыслению.
Чужестранцы на краю Вселенной блуждают
в тяжёлых и скорбных, бедных и странных травах.Идут кто куда: к центру мира / во внешнюю тьму,
но куда кто идёт неведомо никому.
Поэзию Аллы Горбуновой можно определить как философскую / мистическую / алхимическую / мифологическую / магическую — и философия, и мистика, и алхимия, и миф, и магия в ней органически соприсутствуют, однако главный её элемент, подходящий и в качестве определения — сновидение. Лирический герой этих текстов — сновидец, путешествующий на границе яви и грёзы, но взгляд его обращён всё же только в грёзу, и оттого слова, которые он произносит в явь, так непохожи на привычную речь и кажутся то молитвой, то заклинанием.
…видел плывущую в свете луны
по дюнам процессию духов:
махараджа и его слоны,
Гарун-аль-Рашид, премудрый халиф,караваны верблюдов, пустыни пыль,
морская соль и седой песок.
голодают скимны, но плод олив —
юный халиф, а визирь — инжир,
а над ними роза — пророк.
Во сне воображение не подчиняется ограничивающему влиянию сознания, а потому ньютоновское яблоко вместо того, чтобы, сорвавшись с ветки, пасть на землю, уносится в чёрную бесконечность космоса. В мире с искажённой геометрией и нелинейным временем всё возможно, в нём прямо из осени вырастают котельные и соборы Коломенского острова, где в одном из дворов-колодцев Богоматерь отмывает бесенят от их черноты — то ли в луже, то ли в озере, натёкшем из-под тающего ледника.
Описывая изменчивое пространство перетекающих друг в друга садов, аллей, горных хребтов и городских улиц, населённых странными персонажами, Алла Горбунова как будто не прибавляет ничего от себя. Её взгляд, привычный к фиксации невидимого, неторопливо скользит от предмета к предмету, от ситуации к ситуации, стремясь лишь как можно более точно запомнить происходящее вокруг и изложить в связном рассказе, как если бы некто сконструировал кинокамеру, способную заснять происходящее во сне.
всюду трамваи, всюду вода,
потоки движутся во все стороны и даже вверх.по коридору через море едет мальчик на велосипеде.
В этом мире смешанных времён и смещённых плоскостей нет постоянных, только взаимозависимые переменные, но при этом у него есть своя столица, свой метафизический центр, — застывший в ноябрьском летаргическом сне город Петербург, незримо присутствующий во всех стихотворениях. Порой при чтении создаётся ощущение, что это Петербургу в его мертвенном сне всё и пригрезилось, что это в его туманах, расползшихся от полюса до полюса и поглотивших весь земной шар, всё и смешалось, как в алхимическом тигле, и стёрлись чёткие границы между вещами; верх стал низом, а низ — верхом.
но в городе моём, городе северном,
городе дворцов, мостов, ассамблей,
столице Империи ныне не существующей —будет ли лес
пробиваться однажды под плитами,
будут ли тетерева токовать на его просторах,
будут ли лисы сновать по Дворцовой площади,когда падут города современные в битве с деревьями,
Невский проспект станет просекой,
в разрушении и забвении Красота обнажится
и древние боги вернутся на землю.
«Альпийская форточка» включает в себя два цикла стихотворений: первый, одноимённый, и «Осеннюю тетрадь» — стихотворения, написанные осенью 2011 г., каждое из которых предваряет вставка из «Русского традиционного календаря на каждый день и для каждого дома» Анны Некрыловой. Оба цикла, несмотря на различную композиционную организацию, воспринимаются как единое целое, пословицы и поговорки из «Календаря» с их полустёртыми смыслами и архаичным звучанием служат мостиками-связками между стихотворениями.
Огню не верь, от него только одна матушка Купина Неопалимая спасает!
Зимний путь устанавливается в четыре семины от Сергия.
Убьёшь муху до Семёна-дня — народится семь муж; убьёшь после Семёна-дня — умрёт семь мух.
Читатель, оказавшийся в пространстве текстов Аллы Горбуновой впервые, может растеряться — действительно, они лишены привычных ориентиров (а те, что представляются привычными, зачастую оказываются миражами), если же поднести к ним компас, то его стрелка, очевидно, разломится напополам, и оба острия уверенно укажут на Север. «Альпийская форточка», действительно, читается не легко и не быстро, однако для многих, кто даст себе труд неторопливо прочитать её, она может стать той книгой, к которой возвращаются снова и снова, каждый раз обнаруживая в ней новое.
Но ты лети над серыми клоками
к воронке замка вихрей, к той горе,
что в море наотвес роняет тени,
где сотни башен — словно рябь воды,
где сотни шпилей вьются, как растения,
и дальше, куда тянет луч звезды,
в пустошь Морфееву, где вечные цветы —
лиловый вереск и безвременник сиреневый,Семирамиды там висячие сады,
храм Артемиды, древняя Равенна,
и всё прекрасное, погибшее во времени,
воссоздано, стоит ни для кого,
для брошенного ль взгляда твоего, —
в клубах забвенья неприкосновенно.
«О дивный новый мир» Александра Секацкого
- Александр Секацкий. Последний виток прогресса (От Просвещения к Транспарации). СПб.: Лимбус Пресс, 2012
За стойкой бара худой, как военнопленный, юноша в очках взмахивает телефоном. Сквозь фильтр, делающий фотографию любой обшарпанной дыры со скверной выпивкой местом со страниц журнальной рубрики «cool and trendy», он смотрит на девушку рядом. Замер. Прикидывает, соберет ли эта фотка достаточное количество лайков на его страничке. Щелчок, фотография сделана, запощена и он покупает ей выпить. Решил, что раз девица для фейсбука сгодиться, то для него и подавно.
Я опускаю глаза и читаю: «Мир обречен непрерывно передавать репортаж о себе — и эта принудительность сильнее даже коллективной воли всех ветвей власти. Ячейки континуума не могут оставаться пустыми: принудительный вброс ежедневной порции новостей все равно будет осуществляться под воздействием вакуумного насоса воспроизводимых ожиданий — подобно тому, как вброс вещей-товаров вызван циркуляцией коллективного воображения, грезящего на языке денег»
По этой цитате из последней книги Александра Секацкого «Последний виток прогресса» читатель может сделать неверный вывод, что книга посвящена намозолившей язык критике общества информационного и товарного потребления. Так, в общем-то, всегда с пересказом статей или книг Секацкого и бывает — отсюда и дикие обвинения автора то в сталинизме, то в антиамериканизме и прочих дурнопахнущих —измах. Отчасти такого рода искажения обусловлены тем, что Секацкий едва ли не единственный философ, о котором способен составить мнение довольно широкий круг читателей, иными словами, философа Секацкого интересно читать и слушать и не-философам. Более того, подозреваю, что авторская полемика обращена не только ретроспективно к мыслителям прошлого, но и к мыслящим настоящего, кем бы они ни были. Этим я себя и утешаю, берясь за рассуждения о «Последнем витке прогресса», не имея философского образования.
Отправной точкой для Секацкого становится размышление о парадоксе демократии и демократизации, почему, задается вопросом автор, одни и те же люди, считающие, что демократизация общества — это бесспорное благо, в то же время почти всегда уверены, что демократизация культуры — свидетельство тотальной деградации, обмана. То есть, почему те люди, которые выражают протест против репрессивной власти, почти всегда настаивают на сохранении за культурой ее репрессивной функции. «Почему, — повторяет Секацкий, — в этом пункте столь редка последовательность аналитической мысли?» Рассуждая о «легкодоступности культуры», как об одном из «достижений» демократизации Секацкий вынужден обратиться к «Просветительскому мифу», ведь разве не общедоступность знания была одним из условий воплощения просветительской утопии? Да, но почти полное воплощение просветительской мечты принесло с собой и то, что «автоматическая доступность культуры, вплоть до ее вызова нажатием кнопки, меняет в ней что-то принципиально важное даже безотносительно содержанию, а отсутствие встречной аскезы читателя или зрителя приводит к содержательным изменениям». И Секацкий провозглашает новую эпоху — эпоху Транспарации.
Собственно, дальнейшее повествование посвящено именно тем содержательным изменениям, которые претерпевает не только и не столько среда, сколько сам субъект, отказавшейся от «готовности к встречной аскезе». В отсутствии встречной аскезы автор видит лишь мнимое облегчение, ведь в такой ситуации определенные характеристики субъекта исчезают, рудиментируются. Автор констатирует, что стремление освободиться от трудностей привело к распаду субъекта.
Но Секацкий был бы не Секацким, если бы он не постарался превратить критику информационной революции в героический эпос. В результате «расщепления ядра субъекта» (эту функцию в традиционных сагах может выполнять извержение вулкана, большой взрыв, etc.) на свет появляются два существа: «хуматом» и «аутист». С «аутистами», все более или менее понятно: так Секацкий называет тех подозрительных, которые не готовы поверить в то, что «все в восторге от тебя» и что «ты этого достойна». Этих недовольных, рефлексирующих и беспокойных отверженных, по прогнозам автора, будет все меньше.
А «Дивный новый мир» начнут все активней заселять сверхчеловеки — «хуматомы». В отдельных главах автор подробно анализирует, как меняются отношения хуматома с деньгами, информацией, культурой, искусством, эросом, властью. И как (столь необходимые хуматомам) демократизация, толерантность, феминизм, политкорректность разрушает «систему неэквивалентных обменов», на которых держалось предшествующее равновесие. Более того, по Секацкому, сам субъект — сложная конфигурация неэквивалентных обменов. Например, традиционный для прошлых отношений обмен эроса на логос, который с победой политкорректности и феминизма, по прогнозу Секацкого, станет больше невозможен. Справедливость прежде всего! И в погоне за равенством прав автор предвидит смерть «трансцендентной идеи эроса», то есть утрату беспричинности любви, так как она нарушает идею равных прав и возможностей, теперь «каждый имеет право на любовь», и любовь больше не сможет создавать «свою собственную причинность».
Одним словом, остается только порадоваться за Ницше, что он не увидел, как далек его Сверхчеловек от этих беззубых и почти бесполых героев фантазии Секацкого. Новым властелином мира автор провозглашает Фореста Гампа, способного быть счастливым, неподозрительным и наслаждаться «прыжками через скакалку» без фиги в кармане и вечной думы на челе. Этот процесс философ называет «рефлорацией», то есть обретение потерянной девственности, невинности, сходной с состоянием Адама до грехопадения.
С другой стороны, несмотря на «девальвацию смыслов» и прочих эпистемологических ужасов, автор рисует картину мира, который, наконец, становится пригоден для счастья, и по мере чтения, признаюсь, все сильнее соблазн присоединиться к добродушным, толерантным и приветливым «хуматомам» с их «незамутненной чувственностью», только где же их взять? Как в старой шутке:
«— Где же ближайший магазин, в котором они продаются? — В Хельсинки».
Салман Рушди. Джозеф Антон. Коллекция рецензий
Лиза Биргер
«Газета.ru»
Есть своя жестокая ирония в том, что «Джозеф Антон» вышел именно тогда, когда по всему миру бушуют исламисты, реагируя на дешевый, снятый на коленке и практически непригодный к просмотру видеоклип «Невинность мусульман». Рушди знакома эта реакция толпы, но еще он, к сожалению, знает, что толпа одинаково возбуждается и от серьезной книги, которую едва ли прочла, и от бессвязного ролика, который едва ли посмотрела. Ведь именно она превращает серьезного писателя и защитника свободомыслия в болезненно скрупулезного автобиографа, прижатого к земле грузом собственного опыта.
Михаил Визель
«Эксперт»
Второе, чему поражаешься, читая эти откровенные мемуары, — несоответствие несгибаемого мужества и даже величия Рушди — творца и общественной фигуры и, прямо сказать, мелочности его как человека. Книга изобилует описаниями запутанных отношений с женами и любовницами, размолвок с друзьями и сторонниками, прикрывавшими его все это время надежнее, чем полицейские. А еще — ябедами (иначе не скажешь) на противников и описаниями обедов и ужинов пятнадцатилетней давности.
Майя Кучерская
«Ведомости»
Стержнем, который все-таки не позволяет завалиться этому тексту-колоссу, неожиданно оказывается проблема свободы. Вот о чем получилась в результате эта книга. О медленном освобождении не только от британских охранников, но и от собственных иллюзий: от безоговорочной веры в целительную силу женской любви, от убежденности в своей несг ибаемости и в том, что все тебя должны непременно любить. Ладно уж, не будем придираться — тоже, в общем, совсем немало.
Александр Кириллов
Maxim
Мемуары всемусульманского врага как раз и повествуют о нелегкой жизни под круглосуточной охраной спецслужб. Вышел он тяжеловатым (томиком из 900 страниц можно было бы убить мусульманина в честной схватке, если бы мирным атеистам зачем-нибудь было это нужно), хотя читать его несложно. Скорее, чертовски грустно: словно роешься в ворохе грязного белья — которое испачкал, причем, не носивший его человек, а какие-то бородатые фанатики, вломившиеся в чужой платяной шкаф и нагадившие там от небольшого ума. Автор, кажется, помнит каждую отрицательную рецензию на свои произведения, каждый фунт стерлинг, который он потерял из-за бесконечной купли-продажи имущества, каждое слово, сказанное против него.
Анна Наринская
«Коммерсантъ»
Даже просто в силу главного обсуждаемого здесь предмета — религиозной непримиримости — это исключительно актуальная для нас сегодняшних книга. К тому же Рушди, как ни относись к его изводу мистического реализма и присущей ему дидактичности, еще и безоговорочно хороший писатель и умный человек, так что некоторые пассажи из его мемуаров прямо-таки хочется распечатать на листовках и раздавать в московском метро.
Не ходи без книжки замуж
- Свадьба по правилам. Как сотворить чудо. — М.: КоЛибри, 2012
- Купить книгу на Озоне
Стилист, скрывающаяся за псевдонимом monicabeluchshe, прочла книгу «Свадьба по правилам. Как сотворить чудо» и делится своими впечатлениями.
Эта книга прежде всего о современном этикете. В России такое понятие полностью отсутствует, и тем ценней английское руководство. В нем учтено абсолютно все, и будь вы читателем, вышедшим из тайги под руку с Агафьей Лыковой, никто не усомнится в вашей осведомленности по этой части.
Автор заходит издалека — с помолвки, и сразу расставляет акценты — «новость о предстоящей свадьбе разлетится тотчас, и следует подумать не просто над тем, как разнести ее по свету, а над тем, чтобы оповестить каждого в нужное время». Знакомство родителей, размер колец, празднование помолвки, планирование расходов — это только начало.
Планирование расходов выглядит очень любопытно — оказывается, существуют правила и традиции, согласно которым за что-то платит жених, за что-то — невеста или семья невесты. А проведение мальчишника и девичника оплачивают присутствующие там гости.
В книге учтено все, до последней пуговицы. Предсвадебные хлопоты — и двести страниц пошаговых инструкций. Приведу мои любимые.
«Бывает, что вы обратились к знакомому специалисту — скажем, флористу, который оказался столь любезен, что согласился взять деньги только за цветы, a оформление сделать бесплатно. Самое подходящее вознаграждение в этом случае — хороший подарок. Подарка равно заслуживают и друзья, которые взялись вам помогать и делают явно больше того, что от них требуется. О расходах на подарки забывать не следует — они должны быть включены в смету».
«Нелишним будет в преддверии свадьбы решить вопрос с авторскими правами на снимки» — современно говоря по-русски, это улыбнуло.
И еще: «Для шляп при входе ставят еще один столик или вывешивают их в ряд на горизонтальной ленте, закрепив обычными деревянными прищепками».
И самое любимое, на
В разделе «букет невесты» узнаем, что держать букет следует на уровне пояса, но не выше (распространенная ошибка!), чтобы он подчеркивал линию платья.
Конечно, не обделены вниманием такие важные вопросы, как эпиляция воском, свадебный торт, роль шафера, электропитание (если свадьба на природе), военная форма, мусульманские обычаи (на тот случай, если это актуально), фильм о свадьбе, роль родителей, присутствие детей от предыдущих браков, медовый месяц и так далее — все, что только можно вообразить при слове свадьба, и даже более того.
Главная цель — провести время с достоинством и удовольствием. У меня сложилось впечатление, что следуя этим инструкциям — от и до — можно действительно сотворить чудо, и свадьба по правилам в России будет почти неотличима от свадьбы в Англии!
Дьявол носит больше пятидесяти оттенков серого
- Игорь Савельев. Терешкова летит на Марс. — М.: Эксмо, 2012
- Купить книгу на Озоне
Роман Игоря Савельева недлинный и вполне стройный. Нового любимчика издатели отыскали среди лауреатов премии «Дебют» (всё-таки надо не только за деньгами гнаться, но и литературу нести в массы). Книга вызывает противоречивые чувства: раздражение и радость.
Раздражение: написано слишком бойко, безоглядно и самоуверенно.
Радость: написано собственным, не украденным, не сымитированным слогом — «Если катастрофа уже случилась, какая разница, как потом вертит тела и какие-нибудь — в ледяной испарине — дюралюминиевые обломки»; «И Пашка метался по кухне, не зная, что сглотать за двадцать пять секунд, мчался стоя, распятый скоростями в „газелях“…».
Раздражение: история, в общем, человеческая, но заурядная — компания молодых людей без хорошего образования, без особенных интересов, без нормальной работы и даже, как выясняется — вот прокол! — без любви живут. Потому что жизнь дана — это Савельев очень чётко до читателя и до персонажей донес — и надо как-то её прожить. Этим «как-то» герои и занимаются. Кто — пьёт-гуляет, кто — мечтает о девушке, кто — устраивается на работу, кто — пытается свести счеты с прошлым.
Радость: герои Савельева не простые оболтусы, они ещё и романтики. Верят в справедливость, честность, порядочность и в то, что встретят принцессу на белом коне и женятся на ней, а заодно получат миллионное приданое.
Раздражение: неужели люди, которым чуть за двадцать, могут быть такими наивными и тупыми? Неужели они всерьёз полагают, что развесив листовки по городу, одержат победу над жестокостью, алчностью и холодным расчётом? Неужели они с самого начала не понимали, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? И что друзья — враги?
Радость: в момент когда уже окончательно списываешь главного героя Пашку со счетов и принимаешь его за морального и физического импотента, он совершает поступок сексуального характера, который очень оживляет текст, разряжает атмосферу и выставляет автора в выгодном свете — талантливого эрографа. (В связи с последними тенденциями книжной моды, талант небесполезный.)
Радость: последнее предложение, как и первое (в них, я уверена, всегда содержится квинтэссенция писательской мысли), не оставляют сомнений в том, что «Терешкова летит на Марс» — литература, в которой есть ритм.
Первая фраза романа: «Путин замолчал».
Последняя: «Траур не объявили, потому что самолёт разбился только сегодня; траур не объявили, потому что погибло так мало людей».
Радость свидетельствует о том, что жизнь и слово у начинающего писателя в руках, а раздражение только о том, что Савельев только начинает.
Купить электронную книгу «Терешкова летит на Марс»
Удвоенная жизнь
- Евгений Сливкин. Оборванные связи. Стихотворения. — М.: Водолей, 2012.
- Купить книгу на Озоне
Четвёртая книга живущего в Америке питерского поэта начинается со стихотворения о «тёзке и однофамильце», футболисте, умершем от разрыва сердца. Финал текста — «сон во сне»:
Лев Яшин спит и видит в мёртвых снах:
к двенадцатому приближаясь метру,
Евгений Сливкин в парусных трусах
летит по набегающему ветру.
Несмотря на внешне простые рифмы и преимущественно традиционные размеры, стихи в целом — версификационно отточенные. Иногда кажется — даже слишком выверенные, будто строители по ошибке заделали окна кирпичами, из-за чего в любовно и трудолюбиво отстроенном здании не хватает света и воздуха. Это впечатление рождается и благодаря непременному присутствию прозаической основы текста — с вполне пересказуемой историей, с характерными приёмами анжабемана, создающими затрудённость интонации, чувствуемое усилие. Выводит написанное на уровень поэзии и эффект перевода (множество непривычных для русского слуха языковых сопряжений), и выстраивающийся лирический сюжет, где центральным становится ощущение пустоты, «фигура отсутствия», побуждающая к поиску двойника.
В рецензируемой книге много примет конфликта, выдающего эмигрантское письмо и обусловленного смешением двух температурных режимов — природной «теплоты» и хладнокровия.
Определил анализ изотопный,
поправку взяв на ареал природный,
что кровь твоя была простой и тёплой,
но сложной по составу и холодной.
Безупречность техники наводит на мысль об осторожности искусного каменщика, связанной с боязнью разрушить то самое условное «здание» (эту метафору, думается, можно перенести и на отношение поэта к классической традиции). В стихотворении о «правилах поведения в восточной лавке», построенном на отрицаниях, можно услышать перекличку с Бродским — «Не выходи из комнаты, / Не совершай ошибок»:
Тихо броди один,
как пресловутый кот,
в лавке, где Аладдин
лампу ладонью трёт.
Кажется, что этой «бережностью» обусловлен экскурс автора в исторические темы. Сливкин — поэт с отчётливо выраженным историческим самосознанием (что встречается не так уж часто): параллели к античности, реалиям
Античный мир не принял меры,
и с треском рушатся престолы
в свирепом веке нашей эры…
в казённом классе средней школы.
Всё ненадёжно: «престолы», меняющиеся географические координаты. В этой связи мужественным жестом выглядит собственное «принятие мер» — возведение запасного дома, пусть и кажущегося непрочным поэту, но у читателя вызывающего доверие.
Стихи о «низовой» жизни «страны процветающего капитализма» заставляют вспомнить русско-американского поэта Катю Капович и её замечательную книгу «Весёлый дисциплинарий», стихи из которой стилистически перекликаются со сливкинскими. С художественной убедительностью перед читателем встают портреты то «кладбищенских камнетёсов», то пациентов диспансера, «одетого в панцирь мёртвой тишины».
Я для того и ошиваюсь тут,
чтоб к ним примкнуть без ведома врача,
когда они на выписку пойдут,
оборванные связи волоча.
Очевидна параллель, ставшая основой и названия книги: обрыв эмигрантских связей, одновременно символизирующий и избавление от зависимости, побег из тюрьмы. Но так часто бывает: беспомощность в жизни оборачивается эстетической удачей. И мощными стихами, как в случае Евгения Сливкина.
Дети и подростки: кому нужны проблемы?
- Сергей Махотин «Включите кошку погромче», Детгиз
- Беате Тереза Ханика «Скажи, Красная Шапочка», КомпасГид
Каждую минуту во всем мире издатели, писатели, маркетологи и все, занимающиеся литературой для детей и подростков, думают о том, какой должна быть хорошая детская книга. Часто мнение писателей не совпадает с мнением издателей, а мнение издателей с мнением родителей, а мнение родителей с мнением детей.
Например, по итогам недавнего исследования компании «inFOLIO Research Group», почти около 70% потребителей книжной продукции для детей и подростков (имеются в виду покупатели, т. е. родители и бабушки с дедушками) считают, что книга должна быть яркой, познавательной, радостной, доброй и бесконфликтной.
С другой стороны, критики, писатели, да и сами издатели часто говорят о том, что литература для детей и подростков должна быть проблемной. Потому что проблема — это интересно, жизненно. Проблема ставит перед читателем вопросы, на которые неплохо бы ответить подростку, прежде чем он попадет во взрослый мир, и наконец, потому, что нельзя получить «добро» задаром — сначала надо победить «зло».
Мне показалось любопытным поставить рядом две абсолютно разные книги, вышедшие недавно в Петербурге и в Москве, в замечательных издательствах «Детгиз» и «КомпасГид». Книги эти между собой сравнить нельзя, зато можно сравнить издательства. Несмотря на то что «Детгиз» существует тысячу лет и многим представляется традиционным петербургским издательством, сфокусированным большей частью на классике и ретро-литературе, на самом деле активно занимается изданием самой разной детской литературы — в том числе и очень современной и необычной.
Издательство «КомпасГид» — молодое и смелое, не перестает радовать своим европейским подходом к выбору литературы. Во-первых, потому, что «КомпасГид» очень активно (и очень изысканно по оформлению) издает именно подростковую литературу, во-вторых — потому что эта литература всегда ставит перед читателем острую проблему.
Я обратила внимание на книги Сергея Махотина «Включите кошку погромче» и немецкой писательницы Беаты Терезы Ханики «Скажи, Красна Шапочка» по той причине, что обе они талантливы, легко написаны, каждая принадлежит перу знаменитого писателя, обладателя многочисленных премий, но при этом — в паре — они демонстрируют оппозицию «проблемная—беспроблемная подростковая литература».
Книга Ханики вызвала у общественности бурную реакцию. Вот уж проблема так проблема, хуже не придумаешь — проблема инцеста. Сложность заключается в том, что проблему такого масштаба, если она есть, решить, видимо, нельзя. В книге она не решается — читатель лишь наблюдает за тем, как девочка Мальвина, главная героиня, проходит через испытание и, благодаря Характеру, внутреннему складу, Дружбе продолжает любить жизнь.
Рассказы Сергея Махотина не таят в себе никаких «подводных» или явных проблем и конфликтов. И в этом смысле они очень облегчают читателю жизнь, создавая для него мир, где хочется поселиться — еда вкусная, на даче приключения, воры добрые, двойки в дневнике волшебные. И всё это отражено в языке, который фантастически точно имитирует детскую интонацию: «Вскоре опять Юрка вышел вперёд — ложку в борщ уронил. Такое часто бывает. Потом я на себя неизвестно как капнул». Нарочно не придумаешь — «Потом я на себя неизвестно как капнул»! — только ребёнок может так сказать, или талантливо ностальгирующий взрослый.
В любом случае — улыбается читатель, держа книгу в руках, или нет, от «Красной Шапочки» и от «Кошки» в сердце у него остается тепло. Потому что с ним поговорили правильным языком. А это, наверное, самое главное и при наличии проблемы, и при её отсутствии.