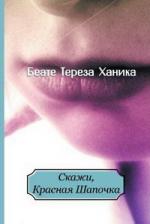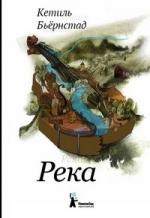- Издательство «КомпасГид», 2011 г.
- Благодаря роману Стефана Касты «Притворяясь мертвым» вы узнаете, какова цена дружбы и есть ли альтернатива мести.
Подросток Кимме находится между двумя мирами. В одном, более близком, — вечера в «пряничном» домике с приемными родителями Кристин и Джимом, тушеный цыпленок с ломтиками моркови и книги. В другом, чуждом ему, — вечеринки, совместные походы и первая любовь.
Пытаясь влиться в компанию ради девушки, в которую влюблен, Кимме отправляется с приятелями в лес на выходные. Понаблюдать за птицами. Никто не мог и предположить, чем это закончится для Кимме: он оказывается брошенным в лесу, с серьезным ранением и слабой надеждой на спасение…
«Притворяясь мертвым» — книга о выборе, совести и способности прощать. Роман Стефана Касты, лауреата премии Астрид Линдгрен, был отмечен Августовской премией и почетным знаком Нильса Хольгерссона.
- Перевод Марины Конобеевой
В пятницу вечером
На щеках Пии-Марии блестят розовые румяна, взгляд полон торжества. Она устраивает вечеринку. Будут все.
— Не знаю, смогу ли я прийти, — отвечаю я ей.
На самом деле я не уверен, хочу ли я туда идти. Альтернатива — тихий вечер в пряничном домике. Да, я скорее всего предпочитаю второе. Уверен, Пия-Мария считает меня трусом.
Я — трус.
На кухне Кристин звенит посудой. Она купила цыпленка. Тот лежит на разделочном столе, словно бледный младенец. Я снова прохожу через кухню, теперь там все тихо. То, что недавно было цыпленком, птицей, превратилось в кучу нарезанных кусочков и полосок, сердце лежит отдельно на блестящей поверхности мойки. В мозгу проносится мысль: «Можешь ли ты, Кристин, собрать его снова? Можешь ли сделать из всего этого новую птицу?»
Я начал читать одну из книг Джима — роман Эрнеста Хемингуэя. Я собираюсь снова погрузиться в чтение, в реальном мире я присутствую лишь наполовину. Джим считает, что книги Хемингуэя просто чудесны. Не имею понятия, так ли это. Откуда мне знать?
Когда наступает вечер, я забираюсь с книгой на диван и чувствую, как с кухни медленно распространяется аромат тушеного цыпленка. Да, Пия-Мария, я предпочитаю такой вечер. Я привык быть с Джимом и Кристин.
Джим подходит ко мне, держа в руке миску с ломтиками моркови, и с одобрением кивает, прочитав название на корешке книги.
— Неплохо, — говорит он.
Джим принимается рассказывать о Мичигане, об осени, о лесах, которые пылают красными и желтыми красками, о птицах, сбивающихся в огромные стаи и улетающих утром, когда первый мороз расстилает на траве свое белое одеяло, о рыбе в глубоких озерах. Я удивляюсь тому, как ясно вижу все, что он описывает, словно нахожусь в Мичигане и знаю, какая славная рыба в этих озерах, не то что наша.
— Ты сам как Хемингуэй, — говорю я.
Джим смеется и делает большой глоток пива. Он передает мои слова Кристин, она смеется в ответ, и ее смех порхает по всему длинному коридору между кухней и гостиной.
«Кажется, у них налаживается», — думаю я. Они не ругались уже много дней.
Кристин открывает бутылку красного вина. Движения ее так естественны и элегантны, пробка, словно танцуя, выскакивает с мелодичным хлопком. Кристин подносит к носу горлышко бутылки и вдыхает аромат вина. Она всегда так делает, по-моему, она хочет найти там джина.
Мы ужинаем перед телевизором, поскольку Кристин смотрит какой-то австралийский сериал. Цыпленок великолепен. Мы с Джимом выскребаем остатки из горшка, я накладываю побольше риса и поливаю его соевым соусом. Соус разливается по тарелке, словно нефтяное пятно.
После ужина Джим моет посуду, а Кристин выходит на лоджию покурить. Она берет с собой тарелку с картошкой и соусом и цыплячье сердце для ежа.
Я выглядываю в окно. Звонит телефон. Джим зовет меня. Это Туве. Ее голос радостный и оживленный, немного хриплый. Мне трудно расслышать, о чем она говорит, из-за шума, доносящегося фоном.
— Почему ты не приходишь? — грустно спрашивает она. — Я скучаю по тебе, Ким.
Что на это ответишь?
— Я хочу, чтобы ты пришел! — продолжает она. — Я очень жду тебя.
— О’кей, — разумеется, соглашаюсь я.
Я надеваю черную кожаную куртку. Некоторое время сомневаюсь и решаю, что нужно надеть что-нибудь на голову, достаю черный берет и напяливаю его. На шею наматываю черный шарф.
— Вот он! — кричит Кристин. — Увидел еду.
Джим вытирает руки о брюки и подходит к кухонному окну.
— Я прогуляюсь, — кричу я.
Лестничная площадка на этаже, где живет Пия-Мария, глухо вибрирует от музыки. Я звоню, кто-то распахивает дверь, в нос мне ударяет едкий кисловатый запах воспламенителя, звучит тяжелая музыка, она стучит словно невидимое сердце. Квартира погружена в темноту. Я едва различаю три-четыре фигуры, сидящие и полулежащие в прихожей. Не знаю, спят ли они или что-то делают, но я осторожно перешагиваю через них и прохожу в гостиную.
Я узнаю Криз по белым волосам. Она кивает мне. Ее густо накрашенные ресницы покачиваются.
Подходит Туве. Она обнимает меня и крепко прижимается.
— Ты мне нравишься, Кимме, ты знаешь? — медленно говорит она незнакомым голосом.
Я смущенно смеюсь, потому что рядом с ней чувствую себя чужим. Здесь все чужое. Мы словно на разных волнах. Я пришел из страны тушеного цыпленка Кристин, ломтиков моркови и вечера у телевизора. Она была здесь в воняющей газом темноте, и бог знает, что она съела, выпила или чем надышалась.
— Что за фигня у тебя на башке?
Голос доносится из темноты квартиры, я вижу тень у стены. Тень делает пару шагов ко мне.
— Что за фигня у тебя на башке? — повторяет кто-то, хватается за мой шарф и начинает наматывать его мне на шею, пока шарф не закрывает мне рот.
— Прекрати, — говорит Туве.
Но неизвестный не обращает на нее внимания.
— Что за фигня у тебя на башке? — вопит он.
Прямо у себя за спиной я слышу громкий хриплый хохот Пии-Марии.
— Это же Кимме, — говорит она. — Черт, тебя почти не видно в этой темноте.
Пия-Мария снова смеется. Мне кажется, я слышу, как ей вторит Манни.
— Хватит вам, — говорит Туве.
Я пытаюсь разглядеть Пию-Марию. Похоже, ей тяжело стоять прямо, и она обнимает Манни за талию и прижимается к нему.
— Поцелуй меня, Манни, — говорит Пия-Мария.
Но Манни сверлит меня взглядом. Неизвестный срывает с моей головы берет и бросает его Манни. Берет пролетает мимо и исчезает в темноте.
— Летающая тарелка, — горланит неизвестный и громко хохочет. — У тебя что, на башке НЛО?
Я нахожу берет и надеваю его на голову. Неизвестный снова подходит ко мне. Теперь он говорит другим тоном и больше не шутит.
— Что ты делаешь? Нельзя носить такое дерьмо!
Он срывает с меня берет, я тянусь, пытаясь забрать его, и тут неизвестный бьет мне коленом прямо в пах. Я не успеваю защититься. Ужасно больно.
Я еще не успеваю прийти в себя, и вижу, как Туве бросается на неизвестного, бьет его ладонью, сухой звук удара не заглушает даже громкая музыка.
— Пошли, — говорит она. — Уходим отсюда.
Последняя поездка
Начинается почти как в фильме.
Первым едет, разумеется, Филип. Его велосипед выше, чем у других. Может, мне так кажется. Наверное, из-за его лидерства в компании, его высокого ранга. Позже до меня доходит: все дело в огромной поклаже. Гора жизненно необходимых вещей: кастрюль, топоров, веревок, запасного белья, карт и еды быстрого приготовления. Может, еще чего-то.
Туве, любовь моя, ты прямо передо мной. Вернее, это я сразу за тобой. Ищейка Ким идет по пятам маленькой девочки с темными кругами под глазами. У Кристин тоже бывают такие круги.
Она оборачивается. Смеется.
— Как же она удивится!
— Кто?
— Бабушка, разумеется!
Я совсем забыл. Мы собираемся навестить бабушку Туве. Она живет на хуторе где-то на полпути. Недалеко от места глухариного тока, куда нас тащит Филип. Туве решила заехать к ней, заодно и перекусить.
Мы молча крутим педали.
Манни, вечный спутник Филипа, едет сразу за ним. Затем грудастая Пия-Мария. Не хватает Криз, по сомнительным сведениям, она присоединится к нам позже.
И хотя нам труднее чем обычно держать равновесие с тяжелыми рюкзаками за плечами, все чувствуют себя отлично. Я еду, почти не сосредотачиваясь на процессе. Не думая о правой ноге, о левой ноге, о правой, о левой.
Я пытаюсь уловить запах Туве во встречном потоке воздуха. Стараюсь отличить его от других, проносящихся мимо моего носа. Я мечтаю о взглядах, которые она, прищурившись, бросает на меня. Эти взгляды напоминают мне о том, что мы готовы были сделать в одно волшебное воскресенье. Когда были только она, я и весь мир. Туве и я, и мы были совершенно голые. Я хочу получить от нее знак. Знак, подтверждающий, что это было. Что это не просто выдумка моего странного мозга.
Иногда я веду себя чудно, делаю все шиворот-навыворот.
Я должен долго сосредотачиваться на обычных повседневных вещах, которые другие совершают не задумываясь, например: налить мясной соус, завязать шнурки или сходить в туалет. Когда я стою в столовой и подходит моя очередь накладывать еду, вся школа делает шаг в сторону, потому что всем известно, что пара рыбных палочек обязательно угодит в тех, кто стоит рядом со мной.
Кристин боится, что у меня какие-то нарушения в мозгу. Но я знаю, в чем причина. Я слишком много думаю. Я постоянно думаю, если мои руки и ноги ничем не заняты. Мои мысли как птицы. А мое лицо как театр. Все, о чем я думаю, отражается на нем. Люди, которые плохо меня знают, думают, что у меня что-нибудь болит или я сержусь. Туве тоже сначала так считала. «Что случилось, Кимме?» — спрашивала она. Но причина была в другом.
Крик Туве отвлекает меня от размышлений.
— Что? — кричу я ей в ответ.
— Филип говорит, что глухари — крупные, как собаки, — повторяет она.
— Ну да, — кричу я.
Мне нравится болтать с Туве о птицах. О жаворонках, зимородках и крупных, как собаки, глухарях. Когда мы касаемся друг друга взглядом, весь остальной мир бледнеет, а птицы уходят на второй план.
Может, это только мои чувства? Я подчиняюсь инстинкту, иду по следу, не зная наверняка, куда он ведет и кому он принадлежит: птице или рыбе. Всегда ли о таком знают? А если знают, то не потеряет ли тогда жизнь свое очарование?
Вот так я размышляю. Все из-за монотонной езды. Я закрываюсь от окружающего мира, погружаюсь в себя и жму на педали. Лишь невзначай отмечаю проплывающий мимо пейзаж. Поля, на которых бесконечной щетиной мелькает первая зелень. Край рва, в котором плавает все, что только можно: пакеты из «Макдоналдса», пустые пачки из-под сигарет, полоса цветущей мать-и-мачехи, сухо шуршащая на ветру пленка из кассет, использованные прокладки.
Вокруг нас лес. Ели, сосны и березы. Иногда между стволами мелькает озеро. Мы проезжаем мимо красных дачных домиков с деревянными изгородями со стороны дороги и крестьянских подворий. Мы целую вечность поднимаемся на холмы, а затем с опасной для жизни скоростью летим вниз.
Филип замечает мертвого зайца, все останавливаются и глазеют на него.
— Это полевой заяц, — говорит Филип, переводя дух у своего велосипеда.
Заяц оказывается довольно крупным. Кажется, что он спит.
— Должно быть, его сбили совсем недавно, — говорит Туве.
— Водители — убийцы проклятые, — говорит Пия-Мария. — Ненавижу машины.
Филип кладет свой велосипед в канаву и садится на корточки рядом с Пией-Марией. Он поднимает зайца за заднюю лапу. Пия-Мария наклоняется, не слезая с велосипеда.
— Он правда умер? — спрашивает она.
— Ясное дело, — отвечаю я. — Думаешь, он притворяется мертвым?
Пия-Мария присаживается на корточки перед зайцем.
— О, какая у него мягкая шерсть. Разве можно так поступать с животными?
Филип переворачивает зайца, и мы видим, что у того нет одного глаза. Пия-Мария встает и идет к своему велосипеду.
— Один глаз отсутствует, — говорит она.
— Это сороки, — поясняет Филип. — Они всегда в первую очередь выклевывают глаза. Для них это лакомство.
— Какая мерзость, — говорит Туве.
— Разве можно так поступать с животными? — повторяет Пия-Мария.
— Раз он целый, — говорит Филип, — возьмем его с собой.
Он крепко привязывает зайца поверх поклажи, и когда мы едем дальше, многие «убийцы проклятые», сидя за рулем своих автомобилей, таращатся на нас. На Туве с темными кругами под глазами, на Пию-Марию, завязавшая свою куртку на талии, на меня, вихляющего то вправо, то влево, на красную от первого загара макушку Манни, но больше всего — на нашего лидера, Короля Филипа, который возглавляет наш маленький караван с мертвым зайцем, привязанным поверх рюкзака.
Возможно, уже тогда мне следовало бы насторожиться. Возможно, заяц был знаком.