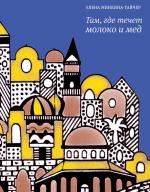- Елена Минкина-Тайчер. Там, где течет молоко и мед. — М.: Время, 2016. — 288 с.
Что есть любовь? Преданность Родине, тоска по дому, обаяние ребенка, страсть женщины? Роман «Там, где течет молоко и мед» об обетованной Любви, музыкальная притча о четырех поколениях большой еврейской семьи, ветвистом дереве, срубленном под корень и возродившемся вновь. В книгу вошли также три повести — три истории в монологах, словно три пьесы, продиктованные жизнью — о страсти и усталости, надежде и вечном непонимании друг друга, смерти, предательстве, отчаянии.
Полания
И это называется выходной день! Суп, стирка, ковры надо пропылесосить. Да еще все время боюсь прозевать телефон. Можно, конечно, перенести его из салона и поставить здесь, но вдруг он соскользнет с кухонного стола? И как это люди обходились совсем без телефона?
Раньше ковры — это была обязанность Авива, но сейчас, когда он возвращается на выходные со своим ужасным рюкзаком и с автоматом и прямо на пороге начинает засыпать, просто сил нет просить его о чем-нибудь.
А погода какая хорошая. Не то что летом. Опять все зазеленело, солнышко такое мягкое. Можно, конечно, и не возиться с этим супом, не жарить лук, кто сейчас готовит клецки! Да, сегодня и супы уже почти не варят, в крайнем случае намешают из пакетика. Бр-р-р! Пока я жива, в моем доме не будет этих синтетических супов!
Я — полания*. Может быть, это все объясняет. Мой муж любит шутить, что полания не происхождение, а диагноз. Такие вот у него шутки. Его любимый анекдот: «Зачем
полания встает в пять утра и варит мужу кофе? — Чтобы, когда муж встанет в шесть, кофе уже был холодным».Хотя я родилась совсем не в Польше, а здесь, в Хайфе, на верхнем Адаре. А уже потом родители купили квартиру на Кармеле. Тогда он еще не был престижным районом, цены вполне умеренные, и много воздуха. На горе буквально другой климат, вы можете месяцами не включать кондиционер. Впрочем, кто этого не знает! Так что теперь я обладательница огромной квартиры в фешенебельном месте. Целое состояние! При желании можно спокойно купить две квартиры на Адаре, только поменьше, конечно. Или в Рамат Ицхаке. Новый район, тоже на горе. Но там окна смотрят прямо на заводские трубы в промзоне. Бр-р-р! Отвратительное зрелище!
Мои родители познакомились в молодежном движении. Мы все участвовали в молодежном движении, в левом, разумеется, хотя моя дочь Таль и посмеивается сейчас над нашими идеалами. Недавно я встретила бывшего товарища по нашему движению, Эли Айзенберга. Толстый солидный доктор-анестезиолог в большой черной бороде и почти лысый.
Лысый, представляете! Но все в тех же мятых штанах и футболке без ворота. Милый прежний Айзенберг!
— Ты знаешь, — возмущенно запыхтел Эли, размахивая руками, — мой сын на бар-мицву потребовал купить ему костюм! И галстук! Нет, ты скажи, кто его растил?! Ты можешь представить меня в галстуке?
Мы не признавали галстуки. Мы не признавали костюмы, платья и всю эту ерунду, принятую у религиозных. Еще не хватало, чтобы нас с ними путали! Мы хотели равноправия, мирного созидания, дружбы с соседями, транспорта
по субботам. Нельзя стоять два тысячелетия, упершись носом в Стену! По вечерам мы бродили по улицам и пели песни о свободной родине. Но кашрут соблюдали почти все. Даже кибуцники, хотя мы старались про это не говорить. Я и сейчас не люблю смешивать молочное с мясным, в конце концов, это же просто вредно для желудка!— Представляешь, сказал Айзенберг, — заведующий хотел влепить мне дежурство на Песах! Прямо на вечер! Видите ли, я не религиозный! Знаешь, что я ему ответил? «Я тысячу раз мог переехать в Америку, причем на совершенно другую зарплату, о чем ты прекрасно знаешь. Но я живу в нашей нелепой и нескладной стране именно потому, что только здесь у меня есть все права сидеть за столом в Пасхальный седер, спокойно сидеть в собственном доме, с собственными детьми и читать Пасхальную агаду так, как ее читали мой отец и мой дед и, я надеюсь, будут читать мои сыновья! И ты можешь переставлять кого угодно, христиан или мусульман, меня это совершенно не интересует. Я отработаю за них в Рамадан, или на Рождество, если хотите!»
Милый прежний Айзенберг! Наверное, мы все выглядим нелогичными, но как хорошо, что друг другу ничего не надо объяснять.
Я живу в квартире моих родителей. Так мы решили после развода. Мой муж выплатил мне половину за нашу прежнюю квартиру, а я отдала эту половину брату, правда, еще немного добавила, конечно. Хотя, брат мог бы и уступить. Ему этот дом совершенно не нужен. Большую часть времени он вообще проводит в Америке. У него там бизнес. По крайней мере, ему так кажется. Почему я так говорю? Потому что этот бизнес, если он существует в реальности, должен
иногда приносить доход. А моему брату он приносит одни убытки. А ведь ему уже почти пятьдесят. В прошлом году от него ушла жена, не вынесла скандалов и долгов. Пока он жил здесь, я еще ухитрялась их мирить, в принципе, у него доброе сердце, хотя, честно говоря, мало кому пожелаешь такого мужа. Может быть, мы отвечаем за грехи каких-то предков? Хотя, по-моему, это не очень справедливо, мы ведь даже не знаем своих ближайших родственников за исключением родителей. Покойных родителей, я хотела сказать.Нет, в Польше я была. Нас возили со школой. Все знают эту программу — памяти Катастрофы. По местам лагерей уничтожения. Так странно было ходить по городу и понимать речь на улицах. И надписи. В совершенно чужой стране! Нет, я плохо говорю по-польски, но понимаю свободно. Это от родителей. И идиш. Все мои приятели понимают идиш, хотя для нас это лишнее знание, конечно.
Мы говорили только на иврите, и в школе, и в нашем движении. Я запрещала маме даже обращаться ко мне попольски в присутствии других детей. С какой стати я должна была терпеть эти насмешки и издевательства! Тем более я была настоящей коренной саброй.
С тех пор многое изменилось. Посмотрите, русские вообще не хотят учить иврит. Вы можете это понять? Впрочем, Израиль для них просто кормушка. Возможность получить пособие и льготную машину! У нас другой родины не было. Если только Польша с ее лагерями уничтожения. Впрочем, не стоит об этом. Ненавижу политику!
А если поставить телефон на табуретку у стола? Так и он не упадет, и я не буду привязана к салону. Ведь надо же, наконец, закончить обед! Через час Таль вернется с занятий, привезут из школы Лею. Слава богу, что организовали наконец такую хорошую подвозку. А то приходилось все бросать и мчаться за ней в самый час пик. Но могли бы сделать и бесплатную. Мало того что у тебя ребенок аутист, так ты еще должен за все отдельно платить!
Нет, конечно, я и сама могу позвонить, что здесь особенного! Для того и придумали мобильные телефоны, чтобы можно было узнать, где твой ребенок. Но я обещала. Даже поклялась. Какой смешной мальчик, он так и сказал: «Мама, поклянись, что ты не будешь мне звонить! Не будешь делать из меня посмешище». И все потому, что первый месяц я приезжала к нему через день. Я старалась приходить незаметно, стояла в тени за палатками, но эти паршивцы, конечно, замечали! «Авив, твоя польская мамаша уже здесь!»
И зачем, спрашивается, кричать? Я просто хотела убедиться, что там нормальные условия. Если у вашего ребенка до десяти лет была беспрерывная астма, а потом начались такие же беспрерывные синуситы, разве вы не будете беспокоиться, как он дышит в этой ужасной пустыне?
Стиральная машина опять грохочет, всегда так при отжиме, чини не чини. Давно пора новую купить. С моей-то зарплатой! Но Меира это, конечно, не интересует, он алименты на детей платит, что еще! Все, отстучала, отжимает она все-таки неплохо, нечего говорить. Конечно, развешивать я сейчас не буду. Тут время нужно, все телефоны прозеваешь. Нет, детям я не поручаю, им лишь бы побыстрее, а ведь главное — растянуть хорошо, особенно на швах. Тогда можно вообще не гладить.
Слышала бы моя мама, что я стелю неглаженое белье! Вы не представляете, она же всю постель крахмалила! И только домашним крахмалом. Сама заваривала в кастрюльке
какую-то гадость, похожую на клей. Все простыни у нее были абсолютно белые, с ручной вышивкой по краям. С ума можно сойти! Она их откопала через десять лет после войны. Да, да, откопала из-под земли в их бывшем огороде. Ее родители закопали ночью перед уходом в гетто, у них там что-то вроде погреба было. Вот они и решили на время спрятать, завернули в клеенку и ложки, и простыни, и скатерти. Тоже с вышивкой! Кажется, это называется макраме. Все сохранилось! Еще место очень удачное оказалось, прямо под яблоней, легко запомнить. Мама сразу нашла, хотя перед войной ей было десять лет. Ни родителей, ни братьев, ни соседей, никого не осталось, а скатерти и простыни целехоньки!Нет, мама не рассказывала, как она спаслась. Мама никогда ничего не рассказывала и не спрашивала, она констатировала факты:
«Это платье тебе не идет, оно подчеркивает бедра, а они и так у тебя слишком широкие, а грудь, наоборот, плоская, лучше надень блузку с рюшами».
«Девочка из приличной семьи не должна так громко хохотать и петь, к тому же у тебя нет слуха, лучше сядь в сторонке и помолчи».
«Нет ничего отвратительнее нестриженых ногтей, к тому же у тебя короткие пальцы, незачем обращать на них чужое внимание».
Моя подружка Яэль отращивала ногти неимоверной длины, и носила обтягивающие платья, и хохотала на переменках так, что казалось, стекла вылетят из рам. В доме у них гремела музыка, на спинке стула запросто мог висеть лифчик, в прихожей вразнобой стояли туфли, а в раковине
мокла вчерашняя посуда. И при этом Яэль была счастливой. Даже имя у нее было счастливое, звонкое, без всякой связи с нудными праведниками из Торы. Да, я же не сказала, что меня зовут Хавой. В честь маминой погибшей матери. Попробуйте что-то возразить! По этой же причине моему брату досталось не менее удачное имя Мордехай.А Яэль прежде звали Ольгой. Прямо как дочку Ротшильда. Нарочно не придумаешь! Но ее мама не упиралась в имена предков и прочие глупости. Новая страна, новое имя, чего лучше!
Ну да, Яэль была русская. Они приехали втроем из какойто прибалтийской республики. Оказывается, этих республик несколько, две или три, а может, и все четыре! Вернее, они приехали вдвоем — Яэль и ее мама на седьмом месяце беременности. Авиталь уже здесь родилась. Вы думаете, ее маму смущало, что она — одиночка, да еще дети неизвестно от каких пап? Вы думаете, она принялась прибирать соседские виллы, горестно вздыхать и одевать детей в старые платья, подаренные хозяйками этих вилл? Как бы не так! Двух лет не прошло, как она уже работала в прес тижной электронной фирме. Никто и не заметил, когда она успела выучить иврит и окончить курсы! А по вечерам она гуляла в парке со своими прекрасными дочерьми, в прекрасных платьях, с прекрасными белокурыми волосами и прекрасными современными именами. Можете не сом неваться, еще через полгода у нее появился поклонник, или, как теперь говорят, друг — разведенный адвокат в серебристом «форде» последней модели. Другая женщина может всю жизнь прожить в Израиле и не найти такого друга! На выходные друг увозил маму Яэль в своем «форде» в какие-то роскошные поездки, а я шла ночевать в эту веселую суматошную квартиру, где мы чуть не до утра шептались, жевали корнфлекс, любовались спящей белокурой Авиталь, рассказывали друг другу страшные, как нам тогда казалось, секреты. И вот однажды глухой дождливой ночью Яэль рассказала мне, как она жила с мамой и папой в чудесном городе с большими старинными домами, город назывался Рига, я до сих пор помню это странное слово. Папа был пожилой добрый и очень тихий, а мама наоборот — ужасно молодая и веселая хохотушка. И каждый день ее провожали с работы студенты, потому что она преподавала физику в университете. И вот однажды Яэль увидела как один студент, высокий и прекрасный, как молодой король, стал перед мамой на колени и принялся обнимать ее ноги. А мама вдруг заплакала. А потом папа ушел из дома, а на его месте стал жить этот студент, и ночевал в папиной постели, и брился в их ванной, вкусно поскрипывая блестящей бритвой, и пел по утрам на кухне, мешая кофе и откидывая назад длинные светлые волосы. А потом мама забеременела, ее все время тошнило, она совсем не могла есть, но держалась, пока не потеряла сознание прямо на лекции. Маму отвезли в больницу, а Яэль, которой уже исполнилось 14 лет, осталась одна в квартире с прекрасным студентом, и однажды ночью он встал на колени у ее постели, как когда-то стоял перед мамой, и принялся целовать ее голые ноги, и живот, и груди, и она понимала, что происходит что-то ужасное, но не могла его оттолкнуть, а наоборот, обняла дрожащими немеющими руками. А потом студент еще несколько раз приходил к ней, и обнимал, и качал на руках как маленькую, и только просил ничего не рассказывать маме. И когда мама вернулась наконец из больницы, она не могла смотреть на нее от стыда и ужаса, и молчала, и ревела в подушку, а потом
все-таки рассказала, трясясь и задыхаясь от слез. А мама только гладила ее по голове, целовала и гладила по голове, а сама раскачивалась из стороны в сторону, как заводная кукла. А потом они очень быстро собрались и уехали в Израиль. Вот и всё.
* В Израиле принято называть евреев, выходцев из разных стран, по стране исхода: русские, англичане, румыны. Полания — еврейка из Польши.
Метка: Русская литература
Майя Кучерская, Татьяна Ойзерская. «Сглотнула рыба их…»: Беседы о счастье
- Майя Кучерская, Татьяна Ойзерская. «Сглотнула рыба их…»: Беседы о счастье. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016. — 448 с.
Кому беседовать о счастье, если не психологу — почти эксперту по счастью — и прозаику, который ищет его для всех своих героев? Потому и книгу «Сглотнула рыба их…» Майя Кучерская и Татьяна Ойзерская написали вместе. Каждый делает то, в чем мастер: Майя рассказывает истории и задает вопросы, Татьяна Борисовна отвечает, комментирует и приводит примеры из практики. Истории, рассказанные Майей Кучерской, складываются в отдельный, новый цикл. Формула книги — «Ключи от счастья женского… Пропали! думать надобно, Сглотнула рыба их…»
Глава седьмая
Просвещение чувств
1. Языки любвиМ.К. Мы остановились на том, как важно говорить
с любимыми людьми на языке, который им близок, понятен. Означает ли это, что у любви есть
свои собственные, не побоюсь этого слова, любовные языки?Т. Б. Да, именно. Психологи выделили несколько таких языков, и первый из них — слова поддержки.
Одобрение необходимо всем людям и в любом
возрасте. Неодобрение возвращает нас в детство,
когда мы страдали от слов родителей: «Посмотри на себя! На кого ты похож?!» Осуждающие
слова причиняют нам привычную с детства боль,
за которой по пятам следует злость. А злость, которую не выпускают наружу, становится ненавистью.Любовь — добра. И одобрение — лучший способ ее передать. Важно не просто говорить добрые слова, но говорить их так, чтобы им верили. А верим словам мы тогда, когда их смысл не
расходится с тоном, каким их произносят.
Проявлением любви является также качественное время — когда наше внимание безраздельно
отдано другому. Именно оно дает нам ощущение близости.Вы никогда не замечали, что в ресторане можно сразу определить, где за столиками семейные
пары, а где — нет? Те, которые пришли на свидание, смотрят друг на друга и разговаривают. Семейные пары смотрят по сторонам. Они рядом,
но не вместе.Когда отец сидит на полу с двухлетней дочуркой
и катает с нею мячик, его внимание сконцентрировано не на мячике, а на его дочери. Если же,
катая мячик, он разговаривает по телефону, его
внимание рассеянно — он вовсе не с дочерью.
Ключевым аспектом качественного времени является сфокусированное на человеке внимание.
Некоторые мужья и жены думают, что проводят
время вместе, в то время как в действительности
они просто живут по соседству друг с другом.М.К. Потому что любовь — это отданность другому.
Собственному ребенку, игре с ним и полной погруженностью в построение, например, дворца
из лего. Мужу. Определенные отношения названы словом «отдаваться». Но в семье мы не отдаемся, а отдаем. Хочется сказать — служим.Т. Б. И хочется правильно, потому что еще одним —
очень важным для некоторых — языком любви
является служение. Да-да, то самое, о котором вы
говорили, начиная разговор о супружестве.М.К. Опять выдохну, как и с кротостью: наконец-то!
Т. Б. Но служить-то тоже надо уметь! К сожалению, чаще служение выглядит так: «Я служила
ему двадцать лет. Я прислуживала ему во всем.
Я была его ковриком для ног, а он не обращал
на меня никакого внимания, унижал меня перед
своими друзьями».М.К. Понятно, рано я выдохнула.
Т. Б. Эта женщина «служила» мужу в течение двадцати
лет, но ее действия не были выражением любви.
Именно против такого «служения» я и протестую.
Или другая жена — выросшая в семье, где служение также было основным языком любви. Она
часами стоит на кухне, готовит изощренные
блюда, а ее муж любит макароны с сыром. Он
говорит, что не хочет, чтобы она тратила столько
времени на готовку, тогда у них было бы больше
времени друг для друга, а она обижается и считает, что муж ее не ценит.Или наоборот, муж приходит с работы первым,
готовит еду, моет посуду и делает много чего
еще в доме ради жены, стараясь взять на себя
груз домашних дел, а жена чувствует себя обделенной. Ей хочется, чтобы он просто посидел
с ней, обнявшись, на диване, выслушал бы ее.
Потому что она чувствует, что любима, когда ей
уделяют качественное время.Для многих людей прикосновение является основным языком любви. Прикосновения необходимы не только ребенку, эмоциональное здоровье и развитие которого зависят от того, есть ли
у него физический контакт с матерью. Оно совершенно необходимо и взрослым. Некоторые
психологи даже утверждают, что для эмоционального здоровья нам необходимо не менее
семи объятий в день.Без тактильного контакта трудно почувствовать
себя любимым. Однако физическое прикосновение может и улучшить, и разрушить отношения. Оно может вызвать и любовь и ненависть,
если тот, кто нас касается, не чувствует, как его
прикосновения действуют, и вынуждает нас переносить неприятные нам ощущения.Понятно, что для мужчин язык прикосновений
необычайно важен — попробуйте убедить мужчину, что вы его любите, если отказываете ему
в физической близости. И эта тема одна из самых трудных для обсуждения между супругами.
Еще одним, последним по значению, языком
любви являются подарки. Вспомните, как приятно, когда кто-то своим подарком нам угодил.
Угодил потому, что знает, что мы любим, чем
можно нас порадовать. А значит, он внимателен к нам, и именно это мы и ценим. Иногда
подарок — некое баловство, и это важно тоже,
потому что мы чувствуем, что дать сверх необходимого можно только по любви.Чтобы вернуть теплоту в отношения, восстановить контакт, необходимо, прежде всего, научиться общаться на том языке, который понятен
другому. Конечно, хорошо, если это стремление
обоюдное, но даже усилия, принятые в одностороннем порядке, могут изменить ситуацию
к лучшему.И людей этому надо учить.
Искусство слушать
Игорь Чепуров работал инженером в банке. Он должен
был следить за системами видеонаблюдения, сигнализацией, но на самом деле исполнял все, что нужно по
технической части: чинил, паял, подключал, отвечал
и за электричество, и за телефонную связь. Был Игорь
мастер на все руки, оттого и числился уже год как на
две ставки, и изматывался после работы так, что домой
почти приползал. Дома его поджидала Людка. И пятилетний Сема, но обычно уже в полусне.Людка вкусно кормила, следила за его одеждой
и обувью, и Игорю до сих пор очень нравилась, одно
было тяжело… жена любила поговорить. И когда?
Вечером! Когда Игорь вообще без сил. И ведь как заведет прям за ужином. Чтобы спокойно поесть, с чув-
ством-толком посмотреть Спорт-ТВ, расслабиться
впервые за день — нет, этого никогда не было, телевизор работал без звука, а звуком работала Людка. Ля-ля-
ля, ля-ля-ля. Му-му, му-му. Ты меня слушаешь вообще?
А я ему говорю, а он мне… нет, ты представляешь?
Игорь измученно мычал что-то в ответ. Одно спасение — Сема. Сын плохо засыпал, звал к себе, и жена
регулярно к нему убегала.Так продолжалось почти весь этот трудный год,
пока терпение у Игоря не кончилось. И вот однажды,
вернувшись с работы, он так и сказал: «Хочешь, чтобы
мы жили вместе дальше, за ужином со мной не разговаривай. Дай спокойно пожрать. Под телевизор». Но
Людка на это, конечно, возмутилась: а обсуждать всё
когда? Потом. Да когда потом, целый день тебя не вижу,
целый день ты на работе пропадаешь, а у меня… и пошла.
Он глянул. Замолчала, но на следующий день всё снова
повторилось. Ля-ля, тополя, ку-ку, кукареку. А вот Семку
в садике обижают, а я их воспитательнице говорю…Не поняла, в общем. Рявкнул Игорь снова да погромче прежнего. Снова всё объяснил. И Людка, наконец, стихла, причем надолго. Стало Игорю хорошо —
жена молчит, сын спит. По выходным, впрочем, они
общались, но тоже особо лезть к себе он не позволял,
надо ж когда-то и отдохнуть человеку.И тут вызывает Игоря в банке начальник отдела,
Валерий Евсеич, Людкин родственник, благодаря ему
Игорь здесь и оказался. Мужик уже не молодой, но надежный — полжизни проработал главным конструктором на крупном заводе. Вызвал и странно так на Игоря
смотрит. Будто смеется, а вроде и серьезный.— Вот что, Игорек. Тут партнеры нас донимают,
«Институт саморазвития», тренинги бесплатные предлагают и буквально давят уже. Хотят отдариться, мы им
кое в чем сильно помогли. Я их футболил-футболил, но
отказываться дальше уже неудобно. И начальство меня
замучило, пошли кого-нибудь да пошли. А мне жалко,
что ли? В общем, решили, ты пойдешь. На какой-нибудь
их однодневный тренинг.— Я? Куда? — Игорь даже поперхнулся от изумления. — Да я-то при чем, Валерий Евсеич, мне работать надо, какой еще тренинг?
— От работы ты, само собой, освобождаешься.
А какой тренинг… да тут целый список. Что тебе больше нравится? — Евсеич погрузился в какой-то сайт
и начал зачитывать: — «Знакомства без отказа: в бизнесе
и личной жизни…» как тебе? «Искусство соблазнения»,
«Как очаровать мужчину с первого взгляда», так, ладно,
это не то. «Бесконфликтное управление персоналом»,
«Как жить эффективно». А вот, может, это? «Как стать
счастливым в семье: искусство общения». Как раз сегод-
ня после обеда, годится?Игорь был так потрясен, что ничего не ответил.
А Валерий Евсеич уже набирал номер.После обеда Игорь сидел в небольшом зале в мягком синем кресле в компании молодых и не очень женщин. Из мужчин он был здесь один. Вела тренинг тоже
женщина, полногрудая, большая, но шустрая; долго тянуть она не стала и сразу же сказала грудным, чуть гипнотизирующим голосом, что главное в семейной жизни — общение, нужно уметь говорить друг с другом,
слушать друг друга и обсуждать все проблемы вместе.
Начать иногда трудно, но существуют простые фразы, которые помогают сделать первый шаг. Например:
«Давай спокойно это обсудим» или «Знаешь, я думаю,
нужно об этом просто поговорить», а где-нибудь в середине разговора надо произнести «Я тебя понимаю»,
еще лучше «Как же я тебя понимаю», и не забывать подбадривать собеседника словами поддержки. Да, важно
эти фразы произносить в предельно спокойной обстановке, ни в коем случае не во время конфликта, а на-
пример, уже улегшись спать, в супружеской постели.
Игорь слегка смутился, ведущая особенно не церемонилась, оглянулся вокруг: все благоговейно внимали, некоторые даже строчили за лекторшей в свои блок-
нотики. Интересно, так и выводили «в супружеской
постели»?— Но прежде чем приступить к тренировке и оттачиванию практических навыков, — продолжала как
ни в чем не бывало ведущая, — давайте посмотрим
ролик.Тут она включила приятную психоделическую
музыку, свет в зале погас, на экране появились симпатичные мужчина и женщина, видимо, муж и жена, они
о чем-то взволнованно разговаривали и, кажется, собирались поссориться. Что случилось дальше, Игорь так
и не узнал. Как всегда не высыпался, а тут музыка, темнота — кто это выдержит? Он проснулся уже под конец
тренинга, женщины в зале были сильно возбуждены,
что-то они, видимо, только что бурно обсуждали, а когда увидели, что он открыл глаза, засмеялись.
«Мы пытались вас разбудить, но… не получилось!» — пояснила ведущая.Вечером Игорь пришел домой не такой уставший,
как обычно. Все-таки полдня не работал плюс поспал
на тренинге. После ужина поиграл даже с Семой, построили домик из Лего, поселили в него пластмассовую
собачку и мальчика. И Людка более-менее молчала, как
всегда в последнее время, но поздно вечером, когда уже
легли спать, все-таки не выдержала.— Знаешь, Сема наш «р» не выговаривает, нужно
заниматься с логопедом. Сегодня сходила с ним на первое занятие, а этот логопед… — и Люда вдруг всхлипнула.Тут Игорь медленным гипнотическим голосом,
в точности, как ведущая на тренинге, проговорил:— Подожди-ка, давай это просто спокойно обсудим.
Людка так и подскочила.
— Что?
— Ничего. Предлагаю всё это спокойно обсудить.
Дальше случилось невероятное. Людка крепко обняла Игоря, еще немного поплакала, а потом заговорила. Она говорила и говорила: про логопеда, про то, что
логопед этот, кажется, совершенно не профессионален,
про школу для Семы, пора было уже об этом задуматься,
про Верочку, ближайшую подругу, которая собралась,
кажется, разводиться с мужем. Игорь иногда вставлял:
«Как же я тебя понимаю», а изредка поддерживающе:
«Так само собой». В конце концов он тихо уснул и произносил эти фразы сквозь сон, а потом и не произносил
вовсе. Но Люда всё говорила, вздыхала, улыбалась и, наконец, замолчала, задумалась.«Неужели письмо мое дяде Валере так подействовало, а я-то тряслась, боялась, что наврежу. С другой
стороны, ничего особенного я там не написала, только,
что поговорить никак не могу с собственным мужем.
А может, это и не письмо, а просто добрый он у меня,
Гоша, сегодня не так устал, и надо же, как внимательно
он умеет слушать. Как сочувствует!»С тех пор они жили душа в душу. Перед сном
Игорь произносил заветную фразу, одну, другую, Люда
начинала говорить, он вставлял третью, дальше все шло
как по маслу.
Иван Зорин. Вечность мига. Роман двухсот авторов
- Иван Зорин. Вечность мига. Роман двухсот авторов. — М.: РИПОЛ классик, 2015. — 304 c.
Грандиозная мистификация, в которой умещается вся история художественного слова; произведение, равное «1001 ночи»; лабиринт, из которого невозможно выбраться; патент жанра «экслибрис», где авторы выступают наравне с персонажами, а персонажи обретают равноправие с авторами; роман, который можно читать с любой страницы; библиотека, заархивированная в том; бумажный змей длиной в бестселлер; оригинальнейшее произведение последних десятилетий…
ДЕЛО СЛУЧАЯ
Один палач вошёл в темницу к юноше, которого приговорили к казни.
— Ты боролся с тиранией, которой я служу, — обратился он к нему. — Но и мне ведома справедливость, поэтому я отпущу тебя.
— Где бы я ни находился, — возразил юноша, — меня всюду схватят слуги раджи.
— Тогда, — предложил палач, — давай поменяемся платьем, и уйду я, а ты займёшь моё место — в тюрьме тебя не будут искать.
С тех пор палач устраивает заговоры, а юноша рубит заговорщикам головы.
Сатиочандра Датта. «Бенгальские пураны» (1687)
СТАРАЯ ИСТИНА
Один влюблённый монах секты дзэн сочинял любовное послание. Искушённый в каллиграфии, он выводил строку за строкой, держа перед глазами древний сборник китайских стихотворений. Но ни одно его не удовлетворяло, и он, комкая бумагу, бросал шарики в печь. Близился вечер, луна уже повисла на ветвях сакуры, как вдруг на монаха нашло просветление, и он послал возлюбленной чистый лист.
Его возлюбленная была образована и тоже исповедовала дзэн. Распечатав конверт, она прежде всего подумала, что форма есть пустота, а потом сообразила, что письмо содержит как раз то, о чём она размышляла весь день. Закрывшись ширмой, она стала готовить ответ. Мысленно перебирая тысячу строк, она машинально обмакивала в тушечницу кисточку из тончайшей шерсти, так что чернила капали с неё, как слёзы, но подходящей не находила. И тогда сочла за лучшее отослать монаху его же листок. Получив ответ, монах поцеловал белую бумагу и, не медля, отправился к ней на свидание.
Языку любви не нужны слова.
Бэнкэй по прозвищу Мумон. «Дверь без двери или 101 история дзэн» (1228)
ЖИЗНЬ — ТЕАТР
В спектакле муж играл мужа, жена — жену, а её любовник — любовника. Из вечера в вечер муж убивал любовника, а зал глох от холостого выстрела и крика обезумевшей женщины. Это тянулось годами. Но однажды пистолет оказался заряженным, зрителей забрызгало кровью, а актриса, изображавшая истерику, до конца жизни не вышла из роли.
Аскольд Едреинов. «Под занавес» (1911)
ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ
Пробивая висок, пуля вылетела из ствола. «Не задержу», — откликнулся он бармену секундой раньше, когда, протирая за стойкой стаканы, тот бросил: «Мы закрываемся». За последние дни бармен привык к посетителю, засиживающемуся допоздна. Сосредоточившись на рюмке, он в одиночестве тянул виски, лишь изредка поднимая палец, чтобы повторить. А появился он с крашеной брюнеткой, яркая помада которой странно контрастировала с заплаканными глазами и бледным, осунувшимся лицом. Они заняли дальний столик, едва освещавшийся миньоном, закурив, молча выпили по бокалу. Его рука безвольно лежала на столе, и женщина накрыла её своей. «Трогательное прощанье», — подумал бармен, уловив исходящую от них тихую грусть. Но он не слышал состоявшегося до этого разговора. «Ты не можешь так поступить! — кричала она, кусая губы. — Мы вместе уже семь лет! Я отдала тебе молодость, а теперь ты бросаешь меня! И ради чего? Ты даже не можешь объяснить толком, куда едешь! Ну зачем тебя посылают в эти чёртовы джунгли?» Он вспомнил, как лгал ей про эпидемию среди африканцев, про долг врача, видя, что она не верит, гнул своё, убеждая, что не может отказаться. Он и сейчас только махнул рукой. Повторяться не было желания, а для правды пришлось бы многое рассказать. Да и к чему? Лишняя боль. А ещё он вспомнил, как они познакомились. Худенькая, неуклюжая, как подросток, она поступила в отделение под вечер, когда он уже осмотрел всех пациентов. «У меня что-то страшное? — испуганно сжимала она сумочку. — Только не обманывайте, доктор, ради бога, не обманывайте!» И он дал слово никогда ей не врать. Хотя врал с самого начала. А через неделю её выписали, и из больницы они пошли в церковь. Он уже был женат, неудачно, — как и все ранние браки, держащиеся на постели, его — быстро распался. Так что разводились, как чужие, и у него даже в мыслях не было рассказать о диагнозе, поставленном ему накануне. «Ты сам врач, — прятал глаза коллега. — Процесс затормозился, но ты носишь бомбу…» «Каждый носит свою смерть», — хватило у него сил усмехнуться. И натянутость пропала. Слушая, что до «часа икс» он абсолютно здоров и может дышать полной грудью, перебил: «Конец будет мучительным?» Коллега опустил глаза. А он твёрдо решил до него не доводить и, прикрывая дверь, подумал, что очень кстати приобрёл месяцем раньше пистолет.
Яя Соверш-Турэ. «Эксперименты со временем» (1963)
ВТОРОЕ ИМЯ
Его давали на Руси при крещении, чтобы не сглазили. Известно оно было только духовнику, родителям да самым близким. Первым именем прикрывались на людях, храня в тайне настоящее. Бывало, к человеку всю жизнь обращались Федот, а на поминках выяснялось, что Федот, да не тот. Что при рождении его нарекли Дмитрием. Известен случай, когда боярский сын под одним именем служил в царском войске, а под другим дезертировал, с явным именем венчался, а с тайным проходил в холостяках, и так привык к своей двуимённости, что, когда был убит под первым, под вторым ещё долго здравствовал.
Ермолай (первое имя) Костожаров. «По русскому обычаю» (1860)
СЮЖЕТ
Проснувшись, А. выходит из дому. И тут замечает, что его преследует Б. Безликий негодяй в бежевом плаще с косым шрамом на щеке. А. догадывается, что Б. хочет его убить. Он пытается скрыться в привокзальной толпе — в спешке не обращая внимания на её неподвижность, потом в загородном доме, из двери которого торчит ключ. Напрасно! В подъезде мелькает зловещая тень, потом, в предрассветных сумерках, тень превращается в силуэт, который обретает черты негодяя в бежевом плаще. А. снова спасается бегством. Но в безлюдном кафе его настигают, Б. запускает руку в карман плаща. Загораживаясь от кошмара, А. вскидывает ладони.
И тут Б. просыпается.
Вскоре он выходит на улицу. И вдруг замечает, что за ним следят. Безликий негодяй в бежевом плаще с косым шрамом. Б. понимает, что тот хочет его убить. В ужасе он отправляется на вокзал, потом — за город. И повсюду: в скудном мерцании уличных фонарей, в доме с торчащим наружу ключом, в опустевшем кафе — его настигает В.
А когда Б. вскидывает ладони, В. пробуждается
Для В. события из сна наяву повторяются до мелочей. Роль его «убийцы» играет злонамеренный незнакомец в плаще и со шрамом. Он загоняет В. в опустевшее кафе. Вот он сунул руку в карман. Однако В., ожидая развязки, уже не боится, осознавая себя героем чужого сна.
Обрывая кошмар, просыпается А.Педро Эрнастио Далглиш. «Сновидение» (1979)
ТОСКА ПО УТРАЧЕННОМУ СМЫСЛУ
— Многие перед смертью чувствуют, что умирают, а я не чувствую, что живу. Я хожу на работу, занимаюсь любовью, но делаю всё, как во сне. Мне советуют отдохнуть, съездить к морю. Но, боюсь, здесь что-то глубинное.
Эндрю Т., 38 лет, менеджер. На препаратах полгода. Дозы не увеличивать.
— Доктор, мне страшно! Я едва сдерживаюсь, чтобы не убить собственного ребёнка! Бывают мгновенья, когда я ненавижу его, ненавижу! Я старею, у меня появляются морщины, дряблая кожа, а он всё время смеётся! Наливается, как яблоко, и смеётся! Разве это справедливо? Я дала ему жизнь, а он не может ею поделиться! Я понимаю, он не виноват, а я? Это странная разновидность зависти сводит с ума, и я потихоньку превращаюсь в мамашу-психопатку из американского ужастика.
Кстати, доктор, вам нравится Голливуд?
Элизабет Н., 33 года, домохозяйка. Антидепрессанты употребляет месяц. Лечение не отменять.
— Моя девушка обожает вестерны. В кафе она садится напротив, и пока мы ждём заказ, выкладывает на середину стола купюру. «Сыграем в ковбоев?» Я завожу в «мобильном» мелодию, и мы, сложив руки, как школьники, замираем, сверля друг друга глазами. А когда музыка кончается, как револьверы, хватаем деньги. И я всё время накрываю её ладонь. Тогда я лезу в карман за новой купюрой. Играем до тех пор, пока к ней не перекочуют все мои деньги, так что она расплачивается за обоих. А ещё она строит из себя крутую. Если нам мешает официант, который топчется с подносом, она щурится, как гангстер: «Твоё дело крысячье: подал и — в подвал!» Чёрт возьми, до чего лёгкая у неё рука! Она вскидывает её, будто муха слетела!
Однажды я попробовал обмануть — дёрнулся за бумажкой, едва зазвучала мелодия — она и тут опередила меня!
Доктор, мне хочется пристрелить её. Я уже приобрёл пистолет.
Грегори М., 19 лет, студент. К врачу не обращался. Прописаны лёгкие транквилизаторы.
— Я печатаю вслепую, как судьба, властвуя над бумагой. По раскладке букв на клавиатуре сослуживцы дразнят меня: «Фыва Прол». А мне слышится — «фифа прол». Откуда им известно, что я из рабочей семьи? Я презираю своё низкое происхождение! А они издеваются! И портят аппетит, не хуже диеты. Кстати, какую вы мне посоветуете? Ту, что рекламируют по телевизору? Ну, ту, в которой бегемот восклицает: «Фигура прежде всего!» Впрочем, какая разница, моя жалоба в другом — я не испытываю множественного оргазма, про который пишут женские журналы.
Фаина П., 27 лет, сотрудница офиса. Показан медикаментоз.
— Спасибо, док! После вашего курса я избавился от комплексов! У меня всё О.К.! Я уже выплатил кредит за дом, а жене купил новую машину. И через месяц меня повысят, это пока тайна, но вам — можно! А помните, каким неудачником я пришёл, самого сейчас оторопь берёт. И всё — вы! Дайте мне руку, док, убедитесь, какое крепкое у меня пожатие!
Пауль Ш., 43 года, банковский служащий. Проходил лечение в клинике. Назначен повторный курс.
— В поездах и самолётах, доктор, я много думаю. Вот миллиарды клеток внутри меня живут сами по себе, делятся, стареют, умирают, и вся их орава, точно сетью, тащит меня за собой. Получается, меня и нет? Тогда кто же думает? А знаете, отчего мы страдаем? Мы обделены — даже мухи счастливее! А виной всему земная поверхность и гравитация, которые ограничивают наше жизненное пространство, делая его двумерным. Да-да, мы, в отличие от птиц или пчёл, существа без третьего измерения! Нам только кажется, что мы пребываем в нём, но по большому счёту мы его не чувствуем, ползая, как тараканы, на плоскости. От этого наше сознание плющится — вот вам корень зла, вот разгадка человеческой неудовлетворенности!
Заметьте, мысль, залетая в мою голову, не умирает от одиночества! Тогда почему я продаю женское бельё?
Иосиф А., 52 года, коммивояжёр. Рекомендована госпитализация.
— Я больше не могу. Не могу! НЕ МОГУ-У-У-У!!!
Зигфрид Г., 57 лет, психиатр. Неизлечим.
д-р Зигфрид Грейд. «Болезни среднего класса» (2007)
НА СВОЁМ ЯЗЫКЕ
В тот вечер Моника решилась.
— Почему ты не женишься на мне? Тебе не нравится моя грудь?
Анджей отвернулся. Они уже год занимались любовью в дешёвых гостиницах, но разве это повод для знакомства? Моника не знала, что он писатель, что его последний роман забраковала критика, что профессор Зайонский опять рекомендовал ему лечь в клинику. Ему и в голову не приходило делиться этим с Моникой, кроме постели у них было мало общего. А теперь женитьба. Он знал, что рано или поздно всё придёт к этому, но вопрос всё равно застал его врасплох. И теперь приходилось мучительно искать слова. В какой-то момент Анджею захотелось пойти напролом, говорить о себе, своих планах, рассказать о той щемящей пустоте, которая в последнее время не покидает его даже во сне.
Он уже открыл рот, но вместо этого глухо произнёс:
— Да, мне не нравится твоя грудь…
Кшиштоф Беднарский. «Да или нет» (1975)
ТАЛАНТ НЕ ВЫБИРАЕТ
Одно время у Трибунского в Одессе было столько подражателей, что начинающим поэтам давали советы как стать вторым Трибунским. Или как им не стать. Удивительно легко его стихи находили дорогу и к сердцу юной девушки, и её бабушки, покоряли и утончённого художника, и портового грузчика. Без преувеличения, половину города составляли его поклонники, другую — поклонницы. И вот меня, молодого сотрудника «Литературной Одессы», отправили брать у него интервью! «Баловень судьбы», — перечитывал я ночью строки, за которыми вставал образ Печорина и Чайльда Гарольда. А утром, разыскав нужный дом на Молдаванке, долго топтался перед массивной, дубовой дверью. «Из газеты, — торопливо пробормотал я вышедшей в грязном халате женщине, по-видимому, домработнице. — Можно видеть Трибунского?» «Трибунка?» — хихикнула она. И проводила на пропахшую рыбой коммунальную кухню, где костлявый, бойкий старичок в цветастых трусах чесал языком с красномордыми толстухами-соседками.
Аркадий Южный. «По ту сторону поэзии» (1926)
Дина Рубина. Медная шкатулка
Дина Рубина. Медная шкатулка. — М.: Эксмо, 2015. — 416 с.
Рассказы сборника «Медная шкатулка» так похожи на истории, поведанные добрым и мудрым попутчиком. Невольно начинаешь сочувствовать и сопереживать, казалось бы, совсем незнакомым людям. И даже не замечаешь, как сам при этом становишься добрее и мудрее… В новой книге Дины Рубиной перекликаются голоса, повествующие о множестве пронзительных человеческих судеб.
Тополев переулок
Софье Шуровской
1
Тополев переулок давно снесен с лица земли…
Он протекал в районе Мещанских улиц — булыжная мостовая, дома не выше двухтрех этажей, палисадники за невысокой деревянной оградкой, а там среди георгинов, подсолнухов и «золотых шаров» росли высоченные тополя, так что в положенный срок над переулком клубился и залетал в глубокие арки бесчисленных проходных дворов, сбивался в грязные кучи невесомый пух.
Чтобы представить себе Тополев, надо просто мысленно начертить букву Г, одна перекладина которой упирается в улицу Дурова, а вторая — в Выползов переулок. В углу этой самой буквы Г стоял трехэтажный дом с очередным огромным проходным двором, обсиженным хибарами с палисадниками. Дом номер семь. Обитатели переулка произносили: домсемь. Это недалеко, говорили, за домсемем; выйдете из домсемя, свернете налево, а там — рукой подать.
Рукой подать было до улицы Дурова, где жил своей сложной жизнью знаменитый Уголок Дурова. Каждое утро маленький человечек в бриджах выводил на прогулку слониху Пунчи и верблюда Ранчо, так что в Тополевом переулке эти животные не считались экзотическими.
Рукой подать было и до стадиона «Буревестник», — в сущности, пустынного места, куда попадали, просто перелезая через забор из домсемя.
Рукой подать было и до комплекса ЦДСА — а там парк, клуб, кино; зимой — каток, настоящий, с музыкой (у Сони были популярные в то время «гаги» на черных ботиночках), летом — желтые одуванчики в зеленой траве и пруд, вокруг которого неспешно кружила светская жизнь: девушки чинно гуляли с офицерами.
Рукой подать было до знаменитого театра в форме звезды, где проходили пышные похороны военных. На них, как на спектакли, бегали принаряженные соседки. А как же — ведь красота!
Смена времен года проходила на тесной земле палисадников. Трава, коротенькая и слабая весной, огромно вырастала ко времени возвращения с дачи в конце августа и всегда производила на Соню ошеломляющее впечатление, как и подружки со двора, которые тоже вырастали, как трава, и менялись за лето до неузнаваемости. Осенью и весной на оголившейся земле пацаны играли в «ножички»: чертили круг, где каждый получал свой надел, и очередной кусок оттяпывался по мере попадания ножичка в чужую долю. Когда стоять уже было не на чем и приходилось балансировать на одной ноге — как придурковатому крестьянину на картинке в учебнике, — человек изгонялся из общества. Хорошая, поучительная игра.
Еще в палисадниках росли шампиньоны, их собирала Корзинкина задолго до того, как в культурных кругах шампиньоны стали считаться грибами. Скрутится кренделем, высматривая под окном белый клубень гриба, а сама при этом с сыном переругивается: «Ты когда уже женишься?» — «А когда ты, мать, помрешь, тогда и женюсь. Женуто приводить некуда». Сын, мужчина рассудительный, сидел у окна и с матерью общался — как с трибуны — с высоты подоконника.
На Пасху палисадники были засыпаны крашеной яичной скорлупой — зеленой, золотистой, охристой, фиолетовой; радужный сор всенародного всепрощения. А когда соседи Бунтовниковы раз в году принимали гостей на Татьянин день, вся семья выходила в палисадник и чистила столовые приборы, с силой втыкая в землю ножи да вилки. Будто шайка убийц терзала грудь распятой жертвы.
* * *
Окрестности Тополева все состояли из проходных дворов — бесконечных, бездонных и неизбывных, обсиженных хибарами.
Эти прелестные клоповники, большей частью деревянные, в основном заселяла воровская публика. Редко в какой семье никто не сидел. В детстве это почемуто не казалось Соне странным: жизнь, прошитая норными путями проходных дворов, вроде как не отвергала и даже предполагала некую витиеватость в отношениях с законом.
Впрочем, были еще татары, более культурный слой населения. Их ладная бирюзовая мечеть стояла на перекрестке Выползова и Дурова. По пятницам туда ходили молиться чистенькие вежливые старики — в сапожках, на которые надеты были остроносые галоши, а по праздникам толпилась молодежь (искали познакомиться), молитвы транслировали на улицу, и трамвай № 59 всегда застревал на перекрестке. По будням у мечети продавали конину, шла негромкая торговля, хотя не все одобряли этот промысел: что ни говори, лошадь — друг человека.
Но присутствие мечети оказывало на текущую жизнь даже облагораживающее влияние: в 56м, например, их края посетил наследный принц Йеменского королевства эмир Сейф альИслам Мухаммед альБадр — во как! К приезду шахиншаха с женой Суреей за одну ночь был не только асфальтирован Выползов переулок, но и покрашены фасады ближайших домов. Так что Тополев был, можно сказать, в гуще политических событий.
А на углу Дурова и Тополева стояло здание ГИНЦВЕТМЕТа — Государственного института цветных металлов. За высоким забором виднелся кирпичный ведомственный дом для специалистов — там жила интеллигенция. Дом был привилегированный, как бы отделенный от остального населения Тополева переулка. Например, Сонина семья жила в отдельной квартире. Но без телефона. Телефон был в коммуналке на втором этаже, туда маме и звонили; соседка Клавдия стучала ножом по трубе отопления, и мама ей отзывалась — под ребристой серебристой батареей всегда лежал наготове медный пестик. Клавдия степенно говорила в трубку:
— Минуточку! Сейчас она подойдет…
Эту квартиру — огромную, двухкомнатную — они получили в те времена, когда папа занимал должность замдиректора института по научной части. Мама говорила, что ученый он был талантливый, но несчастливый. По складу интеллекта — генератор идей. Изобретал процессы, опережающие возможности технологий лет на двадцать. До внедрения многих не дожил. В эпоху расцвета космополитизма однажды вечером домой к ним пришли истинные доброжелатели, и папе было предложено… В общем, эта тихая сдавленная речь в прихожей выглядела в маминой передаче примерно так: «Мы вас, Аркадий Наумыч, ценим и не хотим потерять. Пока под нами огонь не развели, уйдите по собственному желанию». Папа так и сделал: взял лабораторию. В детстве Соня не понимала, как это делается: «взять лабораторию». Представляла, как папа берет под мышку всех сотрудников, чертежные столы, приборы, целый коридор на втором этаже… и гордо уходит вдаль. Чепуха! А спросить у него самого возможности уже не было: папа умер, когда Соне было лет пять. Папа умер, но его семья — мама, Соня и сильно старший брат Леня — осталась жить в той же двухкомнатной квартире. И все осталось прежним: в большой комнате стоял круглый стол на уверенных ногах, всегда покрытый скатертью, которой мама очень гордилась — коричневого грубого бархата, с тонкой вышивкой темнозолотой нитью. На тяжелом рижском трельяже стояли две фарфоровые фигурки стройных девушек в сарафанах. Натирая мебель, домработница каждый раз ставила их на двадцать сантиметров правее, чем нравилось маме. И каждый раз мама молча их переставляла. Это продолжалось годами…
Коза отпущения
- Александр Снегирёв. Вера. — М.: Эксмо, 2015. — 288 с.
О романе Александра Снегирёва «Вера» заговорили зимой 2015 года. В январе он был опубликован в журнале «Дружба народов», в феврале попал в длинный, а в апреле — в короткий список премии «Национальный бестселлер». К октябрю «Вера» добралась и до шорт-листа «Русского Букера». Сам Александр Снегирёв — писатель молодой, но не новичок в премиальных гонках: в 2009 году его роман «Нефтяная Венера» привлек к себе внимание номинаторов и жюри все тех же главных российских премий, собрав достаточное количество противоречивых отзывов. В случае с «Верой» противоречий уже меньше: кажется, Снегирёв угодил если не всем, то многим.
Он пишет о создании этого романа как о долгой, кропотливой работе (объем романа чуть меньше трехсот страниц), в процессе которой ему приходилось терять файлы рукописи, чудом восстанавливать их, избавляться от большей части написанного текста, переписывать и работать над ним в разных точках земного шара — зачастую вместо того, чтобы отдыхать. Благодаря публикации дневниковых записей такого рода Снегирёв становится своего рода Пигмалионом от литературы и одушевляет роман: это женщина, зовут ее Вера, и она красавица.
Произведение вобрало в себя узловые моменты русской литературы: символичное воплощение судьбы страны в судьбе женщины-героини, история рода как основной фактор формирования ее личности, отражение современных реалий и идеологий. «Веру» нельзя рассматривать вне политического контекста: слишком многие детали обесценятся. Чего стоит одно только замечание Вериного любовника-мента: «Дура. Какой ребенок, конец скоро». Или способ налаживания личной жизни, к которому прибегает Вера: она идет на оппозиционный митинг, предварительно выбирая между сторонниками двух политических линий.
Улицы и площади то и дело заполнялись организованными колоннами сторонников официального курса и нестройными группами взволнованных малочисленных противников. Если первые требовали отъема у соседей исконно русских территорий, то вторые выступали за раздачу собственных земель, первые, размахивая святыми ликами, гоняли любителей однополых брачных союзов, вторые боролись за уважение к таким союзам и чуть ли не повсеместное введение однополой практики.
Удивляет, отторгает, а впоследствии восхищает в «Вере» максимально отрешенный взгляд автора на героев и на мир — и ирония оказывается органичной составляющей его точки зрения. Автор в этом романе — словно посторонний. Смерть Снегирёв, например, описывает как механический сбой в работе тела человека: «сердечно-сосудистая система Сулеймана Федоровича тысяча девятьсот тридцать восьмого года рождения не выдержала». Его речь словно намеренно иссушена до отсутствия малейшего сострадания, фактически — до комментирования, порой нисходящего к отвратительным деталям.
И Вера сделалась сама из себя изъятой. Увидела сверху, с луны, обрезок которой не первую ночь таял на тефлоне неба. Сорокалетняя, красивая, со свободным английским, лежит побитая, расхристанная на неопрятной койке в тускло освещенном углу, где только что умоляла кончить в себя.
Неспешная, размеренная констатация фактов чередуется с обилием описательных деталей. Роман, по большому счету, антидинамичен: он выхватывает из темноты самые важные моменты, не заботясь о связках между ними. Подобный метод, однако, кажется достаточно эффективным: сюжет все равно остается ясным, а вот та «вода», которую Снегирёв «отжимал» из романа, уходит, оставляя ощущение некоторой оторванности и необходимости приспосабливаться к каждому новому повороту сюжета. Этакий роман воспитания читателя, во время знакомства с которым нужно включать свои внутренние радары, чтобы понимать, куда движется произведение, — но при этом ни разу не угадать.
Наблюдается противоречие: несмотря на небольшой объем текста повествование не «летит», а измеряет пространство романа «тяжелыми шагами». На это работают и композиция, и авторский стиль: в том количестве описательных деталей, которыми вместо малосодержательных связок писатель насыщает свой роман, очень легко увязнуть — чтобы потом очнуться от резкой встряски:
И если судить по улыбке, по благосклонному обращению с работягами, по приглашению этому абсурдному, ему удалось убедить себя, что он человек только обликом и анатомией, в остальном же отдельный, соль земли, из космоса засланный, божественным лучом помеченный.
Еще стало ясно, что он пьян.
Не в зюзю, но сильно навеселе. Коньяком шибало, как шибает духами от кавказского франта.И все же в первую очередь — это подробнейшая биография женщины, которая к концу романа уже вовсе не кажется вымышленной. Снегирёв рассказывает, как его героиня появилась на свет (с трудом), каким было ее детство (тяжелым), как начались ее отношения с противоположным полом (с насилия), как она переехала в другую страну (в Америку), как вернулась, где работала, с кем жила и как жила.
Вера самым своим рождением нарушила одну из десяти заповедей: «Не убий», — сказано в Библии, а ей пришлось задушить в утробе матери свою сестру, чтобы появиться на свет. Вообще, вычитываемые отсылки к священным текстам вполне могут оказаться надуманными, но количество описываемой на страницах романа еды неумолимо вызывает мысли о грехе чревоугодия, поглотившем едва ли не весь мир. «Все в той стране было организовано так, чтобы быть употребленным», — это про Америку. Чуть позже Снегирёв сливает два греха воедино в одной сцене:
Скрюченными, словно гвозди вывороченной доски, пальцами отец держал громадное податливое, розовое индюшачье тело, а сын шарил между ее ножек своей волосатой лапой.
Традиционная мысль о расположении России между Западом и Востоком соединяется в этом романе с не менее традиционным приемом олицетворения пути России в судьбе женщины. Вера (у которой к тому же говорящее имя) переходит от познания одной цивилизации — к другой. Однако при всем ощущаемом пафосе роман остается произведением о метаниях между желанием употребить и желанием жить, о преступности несоответствия имеющимся в обществе стереотипам.
По словам автора, он написал роман «отчасти потому, что с детства слышит известную нам всем фразу, что все мужики — козлы. И вот к тридцати с лишним годам решил проверить, насколько это правда». Волей Снегирёва отец Веры, Сулейман, сходится с фруктовницей: он как бы прикасается к запретному плоду и в результате гибнет, а в основу сюжета то ли в шутку, то ли всерьез положена борьба с известным стереотипом об отношениях мужчин и женщин. Пользуясь случаем, хочется пойти против еще одной традиции и показать эфемерность некоторых традиционных гендерных установок: Александр Снегирёв, например, доказал, что каждый мужчина должен написать роман, заронить зерно сомнения в правильности принятого порядка вещей и вырастить дочь. Можно всё вместе.
Адриана Трижиани. Жена башмачника
- Адриана Трижиани. Жена башмачника / Пер. с англ. М. Никоновой. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 512 с.
Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми при очень печальных обстоятельствах, на фоне величавых итальянских Альп. Чиро — полусирота, который живет при женском монастыре, а Энца — старшая дочь в большой и очень бедной семье. Совсем детьми оба вынуждены покинуть родину и отправиться через океан в непостижимую и пугающую Америку. Так начинается история их жизней, полная совершенно неожиданных поворотов, искушений, невзгод, счастливых мгновений, дружбы и великой любви.
«Жена башмачника» — эпическая история любви, которая пролегла через два континента и две мировые войны, через блеск и нищету Нью-Йорка и умиротворяющую красоту Италии, через долгие разлуки и короткие встречи.СЕРЕБРЯНОЕ ЗЕРКАЛО Шесть зим минуло с тех пор, как Катерина Ладзари оставила сыновей в монастыре. Ужасная зима девятьсот десятого наконец-то завершилась, как исполненная епитимья. Пришла весна, а с нею — рыжее солнце и теплые ветра. Они растопили снег на каждом утесе, каждой тропе, каждом гребне, выпуская на волю потоки чистой ледяной воды, голубыми лентами скатывавшиеся вниз.
Казалось, все жители Вильминоре высыпали на улицу и, улучив минутку, поднимали лица к абрикосовому небу, впитывая его тепло. Дел весною было невпроворот. Нужно было открыть ставни, вытряхнуть и вывесить на воздухе половики, выстирать полотно, а затем заняться садом.
Монахини Сан-Никола никогда не отдыхали.Катерина не вернулась с наступлением лета, и следующей весной тоже, и постепенно сыновья смирились с разлукой. Разочарование омыло их, подобно струям водопадов, в которых они плескались у озера в горах над Вильминоре. Когда мальчики наконец получили от матери, запертой в монастыре в Венето*, письмо без обратного адреса, они перестали умолять сестру Эрколину отпустить их к Катерине. Но они поклялись отыскать ее, как только покинут Сан-Никола. Эдуардо был полон решимости привезти мать назад в Вильминоре, и неважно, сколько времени это потребует. Мальчики представляли мать под опекой монахинь в каком-то очень далеком месте, и сестра Эрколина уверяла, что так оно и есть.
Помимо заботы о храме и монастыре сестры заправляли в местной приходской школе при церкви Санта-Мария Ассунта и Святого апостола Петра. Они готовили для нового священника, дона Рафаэля Грегорио, вели его хозяйство, обстирывали падре, поддерживали в порядке облачение, заботились об алтарных покровах. Монахини отличались от прочих трудяг только тем, что их падроне носил «римский воротник»**.
Повзрослевшие братья Ладзари стали такой же неотъемлемой частью монастырской жизни, как и монахини. Мальчики сознавали, чего лишились, но вместо того чтобы без конца горевать по отцу и тосковать по матери, научились направлять свои чувства в иное русло, загружая себя работой.Братья Ладзари сумели стать в монастыре незаменимыми, как Катерина и надеялась. Чиро взял на себя большинство обязанностей, до того лежавших на Игнацио Фарино, старом монастырском мастере на все руки. Игги было уже за шестьдесят, и он предпочитал работе свою трубочку, тенистое местечко под деревом и ласковое солнце. Чиро вставал с рассветом и работал до ночи: присматривал за очагами, доил коров, взбивал масло, выжимал свежие плети сыра скаморца, рубил дрова, выгребал уголь, мыл окна, скреб полы, в то время как Эдуардо, грамотея с кротким характером, определили секретарем в монастырскую контору.
Его безукоризненная каллиграфия нашла применение — Эдуардо отвечал на письма, писал отчеты, заполнял изящной вязью программки для торжественных служб и больших праздников. Кроме того, он, как более набожный из братьев, был удостоен чести прислуживать на ежедневных мессах и звонить в колокола, созывая монахинь к вечерне.
Чиро в свои пятнадцать вымахал под метр восемьдесят. Он окреп на монастырском рационе из яиц, пасты и дичи. Песочного цвета волосы и зеленовато-голубые глаза составляли яркий контраст с темной, истинно итальянской мастью жителей этих гор. Густые брови, прямой нос и пухлые губы были свойственны скорее швейцарцам, жившим к северу, за близкой границей. Однако темперамент у Чиро был истинно романский. Сестры смиряли его горячность, заставляя сидеть тихо и повторять молитвы. И он учился дисциплине и смирению, потому что хотел порадовать женщин, приютивших их с братом. Ради сестер из Сан-Никола он был готов на любые жертвы.
Не имея ни связей в обществе, ни семейного дела, которое можно было бы унаследовать, ни каких-либо перспектив, мальчики вынуждены были полагаться только на самих себя. Эдуардо изучал латынь, греческий и античных классиков, в то время как Чиро заботился о саде и постройках. Братья Ладзари получили монастырскую выучку, приобрели, столуясь с монахинями, прекрасные манеры. Они росли, не чувствуя поддержки близких, и это многого их лишило, но также даровало самостоятельность и зрелость.
Чиро шел через оживленную площадь, удерживая на плечах длинный деревянный валик, вокруг которого были обернуты свежевыглаженные алтарные покровы. Дети играли рядом с матерями, пока те мыли ступеньки своих домов, развешивали выстиранное белье, выбивали ковры и готовили вазоны и ящики для цветов к весенней посадке. Воздух был напоен запахом свежей земли. Все вокруг было исполнено радости от того, что месяцы изоляции наконец позади, — будто горные деревушки с облегчением выдохнули, освободившись от холодов и многослойных одежек.
Сбившаяся в кучку ребятня засвистела Чиро вслед.
— Осторожнее с панталонами сестры Доменики! — крикнул кто-то.
Чиро обернулся к мальчишкам, сделав вид, будто замахивается тяжелым валиком.
— Монашки не носят панталон, зато твоя сестра носит!
Мальчишки рассмеялись. Чиро двинулся дальше, крикнув напоследок:
— Передай от меня привет Магдалене!
Держался он точно генерал при полном параде, хотя на нем были всего лишь обноски из корзины с пожертвованиями. Он отыскал там пару плотных мельтоновых брюк и клетчатую рабочую рубаху из шамбре, но с обувью дело обстояло куда хуже. Ножищи у Чиро Ладзари вымахали огромные, и ботинки такого размера в корзине с пожертвованиями встречались не часто. На поясе у него позвякивала связка ключей, прицепленных к латунному кольцу, — тут были ключи от всех дверей в церкви и монастыре. По настоянию дона Грегорио алтарные покровы доставляли через боковой вход, дабы не мешать прихожанам заходить в церковь на протяжении всего дня и тем самым дать им возможность положить в ящик для бедных лишнюю монетку.
Чиро вошел в ризницу, небольшую комнату за алтарем. Воздух пах пчелиным воском и ладаном, напоминая об аромате в ящике комода. Розовый луч из круглого витражного окна падал на простой дубовый стол в центре комнаты. Вдоль стен стояли шкафы с облачениями.
С внутренней стороны на двери висело высокое зеркало в серебряной раме. Чиро вспомнил день, когда оно здесь появилось. Он еще подумал — странно, что священнику понадобилось зеркало. В конце концов, в ризнице его не было с четырнадцатого века. Чиро понял, что дон Грегорио повесил зеркало собственноручно: его тщеславие не настолько разрослось, чтобы он попросил об этой услуге Чиро. Человек, которому нужно зеркало, на что-то еще надеется.
Чиро положил покровы на стол, затем подошел к внутренней двери и заглянул в церковь. Скамьи были почти пусты. Там сидела лишь синьора Патриция д’Андреа, самая старая и набожная прихожанка в Вильминоре. На склоненную в молитве голову была накинута белая кружевная мантилья, придавая старушке вид поникшей лилии.
Чиро вошел в церковь, чтобы сменить лежавшие там покровы. Синьора д’Андреа поймала его взгляд и сурово посмотрела в ответ. Он вздохнул, встал перед алтарем, помедлил, преклонил колени и сотворил обязательное крестное знамение. Снова взглянул на синьору, которая одобрительно кивнула, и почтительно склонил голову. Губы синьоры сложились в довольную улыбку.
Тщательно свернув использованные покровы в тугой узел, Чиро отнес их в ризницу. Развязал атласные ленты, снял свежие покровы с валика и вернулся в церковь, неся перед собой вышитое белое полотно, подобно подружке невесты, поднимающей шлейф подвенечного платья.
Выровняв на алтаре накрахмаленный покров, он расставил по углам золотые подсвечники, чтобы прижать ткань. Достал из кармана маленький ножик и начал снимать капли воска со свечей, пока их поверхность не стала гладкой. Жест этот был данью матери. Она просила всегда делать то, что требуется, без напоминания.Перед тем как уйти, он снова взглянул на синьору д’Андреа и подмигнул ей. Та покраснела. Чиро, монастырский сирота, вырос настоящим сердцеедом. С его стороны такое заигрывание было просто инстинктом. Чиро здоровался с каждой встречной, приподнимая свою подержанную шляпу, охотно помогал донести покупки и расспрашивал о семьях. С девчонками своих лет он болтал с природной легкостью, восхищавшей других мальчишек.
Чиро ухаживал за всеми женщинами городка, от школьниц с их мягкими кудряшками до престарелых вдов, сжимавших в руках молитвенники. В женском обществе он чувствовал себя уютно. Иногда он думал, что понимает женщин лучше, чем представителей своего пола. И уж точно он знал о девушках больше, чем Эдуардо, который был таким невинным! Чиро гадал, что станет с братом, когда они покинут монастырь. Себя он считал достаточно сильным, чтобы смело встретить самое худшее, Эдуардо же — нет. Умнику вроде брата нужна монастырская библиотека, письменный стол с лампой и связи, которые давала церковная переписка. Чиро же точно сумеет выжить во внешнем мире. Игги и сестры научили его всякому ремеслу. Он может работать на ферме, чинить разные вещи и мастерить из дерева что угодно. Жизнь вне монастыря наверняка не сахар, но у Чиро были навыки, чтобы устроиться в этой жизни.
В ризницу вошел дон Рафаэль Грегорио. Он выложил на стол медные монеты из церковной копилки. Дону Грегорио было тридцать, рукоположили его совсем недавно. Он носил длинную черную сутану, застегивавшуюся снизу доверху на сотню маленьких пуговиц из эбенового дерева. Чиро гадал, благодарен ли священник сестре Эрколине, множество раз проходившейся по петлям утюгом, чтобы те стали плоскими.
— Ты приготовил растения для посадки? — осведомился священник. Белоснежный римский воротник оттенял его густые черные волосы. Волевой подбородок, аристократический прямой нос и карие глаза с тяжелыми веками придавали ему вид сонного Ромео, тогда как вы ожидали встретить честный взгляд мудрого слуги Господа.
— Да, отец. — Чиро склонил голову, чтобы выразить священнику почтение, как его научили монахини.
— Я хочу, чтобы дорожку обсадили нарциссами.
— Учту ваше пожелание, падре, — улыбнулся Чиро. — Я позабочусь обо всем. — Он поднял со стола валик. — Я могу идти, дон Грегорио?
— Ступай, — ответил священник.
Чиро толкнул дверь.
— Я бы хотел хоть иногда видеть тебя на мессе, — произнес дон Грегорио.
— Падре, вы же знаете, как бывает. Если я не подою корову, не будет сливок. Если не соберу яйца, сестры не испекут хлеб. А если они не испекут хлеб, нам нечего будет есть.
Дон Грегорио улыбнулся:
— И все-таки можно найти время посетить службу.
— Это верно, падре.
— Так я увижу тебя на мессе?
— Я много времени провожу в церкви — подметаю, мою окна. Думаю, если Господь ищет меня, он знает, где меня найти.
— А моя работа в том, чтобы научить тебя искать Его, а не наоборот.
— Понимаю. У вас своя работа, у меня своя.
Чиро закинул пустой деревянный валик на плечо, как ружье, прихватил узел с покровами для стирки и вышел. Дон Грегорио слышал, как Чиро свистит, уходя по дорожке, которая вскоре будет обсажена желтыми цветами.
* Регион, центром которого является Венеция.
** Жесткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой, который носят католические или протестантские священники.
Илья Бояшов. Джаз
- Илья Бояшов. Джаз.— СПб.: Лимбус Пресс, 2015. — 240 с.
В свое время Максим Горький и Михаил Кольцов задумали книгу «День мира». Дата была выбрана произвольно. На призыв Горького и Кольцова откликнулись журналисты, писатели, общественные деятели и рядовые граждане со всех континентов. Одна только первая партия материалов, поступившая из Англии, весила 96 килограммов. В итоге коллективным разумом и талантом был создан «портрет планеты», документально запечатлевший один день жизни мира. С тех пор принято считать, что 27 сентября 1935 года — единственный день в истории человечества, про который известно абсолютно все (впрочем, впоследствии увидели свет два аналога — в 1960-м и 1986-м).
Илья Бояшов решился в одиночку повторить этот немыслимый подвиг. Что получилось, пусть судит читатель.Гульба цветущего юношества продолжалась чуть более года. Вытаскивался из закромов и публично сжигался на раскрасневшихся от кумача площадях реквизит Пекинской оперы. В пыль стирались «проклятые памятники прошлого» — все эти пагоды, дворцы, беседки и прочее «древнее барахло». По стране шастали поезда, битком набитые безнаказанной сволочью. В различных уездных центрах оглоедами велся прицельный «огонь по штабам»: все, что имело хоть какое-то отношение к власти, безжалостно выволакивалось из кабинетов и подвергалось неизбежному «порицанию», весьма часто заканчивавшемуся банальным ударом дубины по затылку. Некоторых партработников выкидывали из окон прямо в креслах. Носясь по улицам подобно самым настоящим вихрям, опричники хватали за шиворот не успевших улизнуть прохожих и взахлеб знакомили трясущихся обывателей с содержанием красных книжиц, за корешками которых невольные слушатели во время подобных политинформаций следили особенно пристально. Словно тайфуны налетали хунвейбины и на легкомысленных женщин: крошечные мозги модниц не в силах были представить себе, что любой завиток на женской головке, показавшийся откровенному хулиганью «чересчур буржуазным», карается немедленными и беспощадными ножницами. В клочья на несчастных дурах раздирались «буржуазные» платья, в стороны летели «с мясом» отрываемые каблуки — весьма часто глупенькие овцы являлись после необдуманных и опасных прогулок к своим мужьям только в одних сорочках. А всекитайский молодежный разгул со свистом набирал обороты. Апофеозом явилось разрушение части Великой китайской стены, кирпич которой пошел на свинарники.
«Культурная революция» поистине удалась. Наследие предков за какой-то год с мелочью было пущено коту под хвост. Счет почивших в Бозе благодаря «порицанию» и «партийной критике» ревизионистов шел на сотни тысяч. О город Гуайлинь! Город Гуайлинь остался в этой истории! Несчастный город Гуайлинь познал на себе прелесть такого сокрушающего разгрома, что горожане наконец-то «схватились за вилы» — малолетних подонков принялись гонять, словно крыс. Брызжущая слюнями свора с цитатниками, спускающая в нужник все, что попадалось под горячую руку, наконец-то перепугала самого Мао: началось «истребление истребляющих», однако воцарившаяся в городах молодежь еще несколько месяцев огрызалась — брошенная на юг и на север армия сбилась с ног. В конце концов, как всегда в подобных случаях, когда проблема выскакивает уже за всякие и всяческие рамки, дело решили танки и артиллерия. Навалившись всем миром, китайцы справились с гопотой. Целый легион горлопанов был сослан затем в глубокие, словно артезианские колодцы, провинции. Хунвейбинские главари отправились пасти свиней в еще более отдаленные области. Только к 9 октября 1967 года костер наконец догорел: «студенты вернулись в свои институты».
Я так и представляю себе еще не совсем остывших от «критики» паразитов, ерзающих на стульях в Пекинском университете тем октябрьским умиротворенным деньком. Вот они, стриженные, как газоны, одинаковые, как новобранцы, в серых своих одеждах, скучившиеся в аудитории обычным стадом под настенными лозунгами (не путать с исчезнувшими дацзыбао) и гигантским изображением похожего на пупса вдохновителя чисток, который сам же и взбаламутил всю эту муть в детских головных полушариях. Портретный Кормчий бодр; бородавка заретуширована, щеки отлакированы, морщины (так называемые «гармони») назначили встречу возле поистине ленинских (от клише никуда не деться) цепких лукавых глазок — они единственные выдают возраст прохвоста, сумевшего, как и полагается великому политику, в очередной раз объегорить миллиардное население.
Поверившие его цитатам понурые юные ослы, которым в конце их похождений хорошенечко всыпали, внимают благополучно отсидевшему в какой-нибудь щели весь тот лихой год профессору — полуслепому старому филину, наконец-то вернувшему «детей» к математике. Счастливчик, с некоторой, правда, опаской отворачиваясь от поросли, еще не расставшейся с заветными книжечками, показывая ей согбенную спину, привычно скребет мелком по доске. 9 октября 1967 года в университетском дворе необычайно пусто: ни торжествующих толп, ни воинственных кличей, ни ритуальных танцев с цитатниками, ни проклятий загнивающим янки и хрущевским предателям-недобиткам, ни ставших уже привычными эшафотов, в маоистском Китае имеющих вид табуреток — на этих незамысловатых столярных изделиях, едва удерживая тяжеленные деревянные плакаты, еще летом стояли «ревизионисты». Временами какой-нибудь учащийся, отвлекаясь от разбегающейся по доске паутине формул, таращится в давно позабывшие мокрую тряпку окна, эти истинные глаза истории, еще совсем недавно отражавшие отблески пламени, революционные пляски и лихорадочное табуреточное «перевоспитание», вспоминая, с каким азартом сам он, нафаршированный лозунгами, словно жареный гусь антоновкой, перетянутый хлестким ремнем, выкидывал там, внизу, тощий кулак в сладострастно-трепетном жесте (что-то похожее на испанское «но пасаран»), всю силу своей звонкой, визгливой глотки вкладывая в бесконечно повторяемое батальонами и полками пекинской шпаны, пожалуй, самое известное послание лукавого Кормчего: «Винтовка рождает власть!» Сейчас же студенческие перья смиренно выводят «елочки» иероглифов; не менее мирно шуршит бумага, скрипит мелок; ему вторят сопение, кашель где-то на задних рядах — безумие потихоньку отступает на цыпочках, покидает разбитые здания, ободранные проспекты (дацзыбао смыты со стен, с площадей сгребается мусор, храмы уже догорели, «не выдержавшие критику» интеллигенты навсегда успокоились в могилах), оно оставляет столицу, ненадолго задерживается в Шанхае, в Харбине, в Сяошане, но неизбежно и с ними прощается, уползает в свою нору, сворачивается клубком, успокаивается до следующего пробуждения…
Цитатники мудрого Мао! Коммюнике и шестнадцать директив! Склоненные 9 октября 1967 года над конспектами головы с таким же успехом можно было наполнить конфуцианством, христианством, буддизмом, кришнаизмом, синтоизмом, шаманизмом, другими человеколюбивыми «измами», но, увы, простодушных рабоче-крестьянских детей до рвоты и до революционного поноса накормили лозунгами типа «Выяви капиталистического врага». Впрочем, что там опростоволосившийся Китай! Не менее славные нации до сих пор позволяют мять себя, словно мякиш, глотая «евангелие» от Рокфеллеров с обескураживающей легкостью. Почти мгновенное заражение масс чепухой («преимущество Зигфрида над Зюссом»; «преимущество Зюсса над Зигфридом»; «преимущество над ними обоими шахтера Стаханова»; «преимущество над Зигфридом, Зюссом, Стахановым американского образа жизни») просто поразительно. В свою очередь Мао, Герцли, Вейцманы, Кеннеди, Энгельсы, Марксы, Великие Кормчие, Отцы-основатели, жрецы человечества, вожди, демиурги, те, кто «на вершине», те, кто «рулит планетой» (из пекинского ли кабинета, из здания ли иерусалимской хоральной синагоги, из Белого ли дома суть неважно!), еще с младенчества, с детства, с первых шагов своих по лондонской бирже, палестинским холмам, седому московскому Кремлю набиты не менее удивительными химерами о всесильном могуществе тайных лож, орденов, учений, денег, сионизма, нацизма, кубизма, дадаизма и миссии всемирного пролетариата. «И так весь мир вертится!»
9 октября 1967 года в Пекине состоялось «относительное успокоение» варваров-молокососов. В Европе было также относительно тихо; еще спал парижский университет; «диктатор» де Голль не в состоянии был и представить себе, каким эхом вскоре прогремит по всему Латинскому кварталу затеянный на другой стороне земли эксперимент, сопровождаемый призывами самого известного в мире китайца: «Отбросить иллюзии, готовиться к борьбе!», «Без разрушения нет созидания!», «Враг сам по себе не исчезнет» и т. д. Олицетворение будущего краха в образе обозленных первокурсников Сорбонны не являлось великому галлу и в самом диком ночном кошмаре. Президент ждал подвоха от кого угодно, но только не от молочных поросят. Весь предыдущий год бывший танкист отбивал нападки критиков, призывал к самоограничению разозленных крестьян, брюзжал по поводу НАТО, плевал на США, благословлял немцев и протягивал Подгорному дружественную руку, в то время как буквально под носом у Елисейского дворца посетители кафешек типа «Липп», «Кафе де Флер», «Ле Дё Маго», все эти почтеннейшие профессора, доморощенные троцкисты, фанаты пессимиста Сартра и весельчака Камю, поглощая вино, кофе и круассаны, с восторгом ловили малейшую весточку из вставшей на уши Поднебесной и грезили будущим студенческим бунтом, своими книгами, мыслями и речами ненавязчиво подстрекая бурсу к вожделенному взрыву, мечтая о том благословенном дне, который здесь, на тихих прелестных средневековых улочках наконец-то вздыбит баррикады, распотрошит мостовые и каждую протянутую юную руку щедро снабдит булыжником. Что же, через год они своего дождались.
Эмир Кустурица. Сто бед
- Эмир Кустурица. Сто бед / Пер. с фр. М. Брусовани. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 256 с.
Кажется, знаменитый серб воскрешает в прозе магическую атмосферу лучших своих фильмов. Ткань жизни с ее устоями и традициями, семейными ритуалами под напором политических обстоятельств рвется, сквозь прорехи мелькают то змеи, пьющие молоко, то взрывающиеся на минном поле овцы, то летящие влюбленные («лететь — значит падать?»). В абсурдных, комических, бурлескных, а порой трагичных ситуациях, в которые попадают герои новелл, отразились взрывная фантазия автора, размышления о судьбе его родины, о том, как юность сталкивается с жестоким миром взрослых и наступает миг, когда детство остается далеко позади.
Сам Кустурица объясняет, что действие всех шести рассказов, вошедших в сборник, происходит в последние десятилетия двадцатого века и что написал он их в противоположность и даже назло современной жизни.ПУПОК — ВРАТА ДУШИ «Ослиные годы» Бранко Чопича мне прислали из Белграда по почте. На упаковке стоял штамп главпочтамта Сараева и значился адрес: Алексе Калему, ул. Ябучице Авдо, д. 22. Это была первая посылка, которая пришла на мое имя. В пакет была вложена визитная карточка, на обратной стороне которой Ана Калем, директриса Института международных рабочих связей, написала: «Моему дорогому Алексе на его десятилетие. С днем рождения! Тетя Ана».
Этот подарок не доставил мне удовольствия. Я ушел в школу, преисполненный утренних опасений. Когда колокол возвестил начало большой перемены, я первым завладел взрослой уборной — она так называлась потому, что там курили. Сигареты с фильтром «LD» считались школьными, потому что продавались поштучно. Одной хватало на десятерых третьеклассников.
— Не так! — укоризненно сказал Цоро мальчику по фамилии Црни. — Смотри, вдыхать дым надо так глубоко, чтобы он дошел до самого кончика твоего мизинца на ноге!
С первого взгляда могло показаться, он объясняет, как курить, хотя на самом деле он пользовался этим, чтобы затягиваться чаще, чем подходила его очередь.
— У меня проблемы, — внезапно признался я. — Что мне делать?
— Это зависит… от того, в чем проблема.
— Меня хотят заставить читать книги… А я бы уж лучше в колонию загремел!
— Есть одно средство.
Я чуть не поперхнулся табачным дымом. Перемена, конечно, большая, но не сказать, чтобы на курение нам была отпущена целая вечность.
— Какое?
— Мой братан до конца года должен был прочесть «Красное и черное» Бальзака.
— Стендаля. Бальзак написал «Отца Горио».
— Если не заткнешься, сейчас схлопочешь.
— Но я почти уверен…
— Тебе так важно, что ли, знать, кто написал? Значит, братану в школе сказали: не прочтешь, мол, книжку, останешься в седьмом классе на второй год. Мать привязала его к стулу и пригрозила: «Глаз с тебя не спущу, пока не дочитаешь до конца! Даже если ты сдохнешь, пока будешь читать, а я ослепну, на тебя глядя, но ты его прочтешь, этого чертова мужика!»
— Какого мужика?
— Ну, этого… да Бальзака же! Тут Миралем принялся ныть: «Мам, ну за что?» Но она его отругала: «И ты еще спрашиваешь?! Твой бедный отец был носильщиком. Но ты не повторишь его судьбу! А иначе во что верить…» Так что она привязала его. Как следует!
— Да ладно… И чем?
— Шнуром от утюга! А меня послала в библиотеку за книгой. Я уже собирался бежать, но Миралем знаком подозвал меня и сунул мне в руку записку: «Сходи к мяснику Расиму. Попроси сто пятьдесят ломтиков тонко нарезанного вяленого мяса». Я пошел в библиотеку, а потом к мяснику. Расим нарезал все прозрачными лепестками, чтобы проложить между книжными страницами и подкрепляться. Вечером мать уселась на диван против Миралема с полным кофейником кофе и больше не спускала с моего братца глаз. А он пялился на вяленое мясо, будто читает, и, когда ему хотелось съесть кусочек, придвигал к себе книгу, якобы чтобы перевернуть страницу Бальзака, и вытягивал оттуда прозрачный ломтик. Сто пятьдесят ломтиков — это как раз книга в триста страниц! А мать-то думала, что он все прочел!
Из-за «Ослиных годов» вся наша семья впала в крайнее возбуждение. Вместо того чтобы заниматься важными делами, отец с матерью принялись составлять список шедевров мировой литературы, которые я не читал.
— Мам, а что, если не читать, можно умереть?
Это был первый серьезный вопрос, который я задал матери. Она загадочно улыбнулась и усадила меня на стул. Я испугался, что она одобряет метод матери Цоро и решила взять на вооружение технику связывания.
Если так, то мне не удастся повторить трюк Миралема… Я ненавижу вяленое мясо! Мой желудок бунтует, стоит мне только представить себе сало или жир. Однако у моей матери была своя стратегия.
— Ты только взгляни, какие они умные, — говорила она, поглаживая нарядные корешки. — Достаточно прочесть одну, и непременно узнаешь новое слово. Слыхал о таком правиле?
Проблема обогащения словарного запаса меня вообще не колыхала. Мать показала мне «Виннету» Карла Мая, «Отряд Перо Крвжица» и «Поезд в снегу» Мато Ловрака1. Вся эта суета вокруг чтения меня бесила. Я прямо кипел. Моя тетя была знакома с Бранко Чопичем, что мне особенно не нравилось.
— Лучше бы она была знакома с Асимом Ферхатовичем!2 Тогда я мог бы бесплатно ходить на матчи футбольного клуба «Сараево»!
— Твоя тетя революционерка, Алекса! Тебе не следует говорить такие вещи! Ты не должен проявлять такую ограниченность!
— Что?! Это Хасе ты считаешь ограниченным?
Во мне все бурлило. Я готов был взорваться, если бы при мне кто-то осмелился оскорбить футболиста, который в одиночку разгромил загребский «Динамо» на их поле! Три — один!
— Я не имею ничего против твоего Ферхатовича, сынок, но у тебя оба дедушки — ответственные работники, и ты не можешь не любить книгу!
— Ну и что? Я не обязан из-за этого перестать играть в футбол! Дожить до такого ужаса вам не грозит!
Я все больше распалялся, как огонь на ветру, и тут моя мать вдруг взялась за утюг.
— О нет! — завопил я. — Ведь ты же не собираешься связать меня шнуром?!
— С чего ты взял, что я тебя свяжу? — разволновалась мать. — Что с тобой, совсем спятил?
Психологическое давление не возымело никакого эффекта, меня по-прежнему не тянуло читать что-нибудь, кроме футбольных сводок в «Вечерних новостях». В знак протеста я заинтересовался еще и теми, которые касались второго, третьего и даже четвертого дивизиона. На тумбочке возле моей кровати высилась стопка книг, которые предстояло прочесть в первую очередь. Теперь отец убедился: сделать из меня интеллигентного человека не удастся…
— Если он упрется, ничего не поделаешь… Пускай играет, у него вся жизнь впереди. Может, в один прекрасный день опомнится!
Эти слова проникли в мой сон. Едва мать подоткнула вокруг меня шерстяное одеяло, как я провалился в мучительное видение: передо мной возникла гигантская раковина размером с бассейн турецких бань в районе башни Барчаршия. В раковине плавала мочалка. Издали я увидел приближающегося незнакомца; надо было вынуть мочалку, заткнувшую сливное отверстие. Из крана текла вода; она переливалась через край и затопляла мне голову. Я очнулся в полном сознании, но не мог пошевелить ни рукой ни ногой. Проснувшись посреди ночи и плавая в собственном поту, как сказал бы наш сосед Звиждич, я заорал.
— Что случилось, малыш? — спросила мать. — Почему твое сердечко так испуганно бьется?
Как объяснить ей, что меня сильно потрясли слова отца?— Пожалуйста, скажи Брацо, чтобы оставил меня в покое! — всхлипывал я в объятиях матери, прижавшей меня к груди, чтобы успокоить.
— Ну что ты, Алекса, он желает тебе только добра!
И тут я отчетливо понял фразу «Дорога в ад вымощена благими намерениями»! Господи, сделай так, чтобы у Брацо их оказалось не много!
— Смотри, видишь? — Мать указывала пальцем на мой пупок.
— Да. Ну и что?
— Это врата твоей души.
— Пупок… врата души! Ты смеешься?
— Нет, я серьезно. А книги — пища для души.
— Тогда душа мне не нужна.
— Человек без души не может.
— А душа… что-то ест?
— Нет. Но чтобы она не утратила силы, необходимо читать…
Она пощекотала меня, и я улыбнулся. Но это вовсе не означало, что я попался на ее россказни о душе.
— Я еще не человек.
— Что ты говоришь?
— Человек — это взрослый.
Я вовсе не собирался ссориться с матерью, потому что был уверен в своей правоте. Но меня бесило, что она кормит меня байками.
Желая не то чтобы приохотить меня к чтению, но просто заставить прочесть хотя бы одну книгу, мать вдруг вспомнила, что я член Союза югославских скаутов. И как-то вечером принесла в мою комнату книгу Стевана Булайича «Ребята с Вербной реки«3.
— На, прочти! И ты об этом не пожалеешь, сынок!
— Азра, умоляю! Лучше накажи! Хочешь, заставь меня встать коленками на рис, только давай перестанем мучить друг друга!
— За что же тебя наказывать? Ты не сделал ничего плохого!
— Потому что ваше чтение — настоящее мучение! У меня уже на третьей странице глаза слипаются, и мне это ничего не дает! Лучше рис под коленками, чем ваши книги!
Раз уж история со скаутами потерпела неудачу, мать решила обратиться к более популярной литературе. Зная, что ковбоям я предпочитаю индейцев, она на свою тринадцатую зарплату купила для меня полное собрание книг Карла Мая. Однако милый индеец имел не больше успеха, чем предыдущие герои. Как и раньше, мои глаза начинали косить на третьей странице, на четвертой останавливались, а на пятой каменело мое сознание.
Исчерпав свое терпение, отец вынужден был стоически смириться с мыслью, что среди Калемов интеллигентных людей больше не будет.
— Сынок, если так и дальше пойдет, кончится тем, что ты, как герой русской литературы Обломов, прочтешь свою первую книгу, когда выйдешь в отставку! — сделал вывод отец за чашкой кофе, под звуки радио Сараева, передававшего бодрые утренние песни.
1 Мато Ловрак (1899–1974) — крупнейший сербский и хорватский детский писатель.
2 Асим Ферхатович (1933–1987) — один из самых популярных сараевских футболистов.
3 «Ребята с Вербной реки» — повесть о жизни югославских ребят, воспитанников дома сирот войны, об их мужестве и дружбе, которая помогает им выследить и поймать опасного преступника. (В оригинале «Скауты с озера выдр», но такой книги на русском языке нет.)
Мария Семенова. Братья. Книга 1. Тайный воин
- Мария Семенова. Братья. Книга 1. Тайный воин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 608 с.
«Тайный воин» — первая книга нового цикла «Братья» писательницы Марии Семеновой, написанного ей не в соавторстве. В основу романа легла идея о мире, пережившем природную катастрофу и погрузившемся в вечную зиму, где жизнерадостную, праздничную веру сменила угрюмая, жестокая религия, могущество которой ревностно охраняется тайными воинами.
НАЧИН Ветка рябины — Наша девчушка гоит1 ли? — спросил мужчина. — Всё из
памяти вон, Айге, как ты её назвала?Женщина улыбнулась:
— Больше ругаю Баламошкой, потому что она умница и
опрятница. А так — Жилкой.Мужчина рассеянно кивнул:
— Жилкой… ну да. Привезёшь однажды, покажешь.
Если бы не разговор, ускользавший от посторонних ушей,
они выглядели бы самыми обычными странствующими торгованами, каких много в любом перепутном кружале. Двое крепких молодых парней, скромно помалкивавших в уголке, сошли
бы за сыновей.— Привезу, — пообещала Айге. — Вот наспеет, и привезу.
Ты, Ветер, едешь ли за новыми ложками по весне?Он снова кивнул, поглядывая на дверь:
— В Левобережье… за Шегардай.
— А я слышала, гнездари бестолковы, — поддела Айге.
Ветер усмехнулся, с уверенной гордостью кивнул на одного из детин:
— Вот гнездарь!
В большой избе было тепло, дымно и сыровато. В густой
дух съестного вплетались запахи ношеных рубах, сохнущей кожи, влажного меха. По всем стенам сушилась одежда. Снаружи мело, оттепель раскачивала лес, ломала деревья, забивала хвойник густыми липкими хлопьями. Хорошо, что работники загодя насушили целую сажень дров. Все знают, что печь
бережливее греет скутанная, но гостям по сердцу, когда в отворённом горниле лопаются поленья и дым течёт живым коромыслом, ныряя в узенький волок. А гости были такие, что угодить им очень хотелось. В кружале третий день гулял с дружиной могучий Ялмак по прозвищу Лишень-Раз. С большого
стола уже убрали горшки и блюда с едой, воины тешили себя
игрой в кости.— Учитель… — подал голос парень, сидевший рядом с наставником.
Вихры у него были пепельные, а глаза казались то серыми,
то голубыми.Ветер не торопясь повернул голову:
— Что, малыш? Спрашивай.
— Учитель, как думаешь, где они всё это взяли?
За стеной, в просторных сенях, бойко шёл торг. Отроки
продавали добычу. Да и старшие витязи у стола, где выбивали
дробь костяные кубики, ставили в кон не только монету. Зарево жирников скользнуло по тёмно-синему плащу, расшитому
канителью. Сильные руки разворачивали и встряхивали его,
стараясь показать красоту узорочья — да притаить в складках
тёмное пятно с небольшой дыркой посередине.Айге положила ногу на ногу и заметила:
— Вряд ли у переселенцев. Те нищеброды.
Ветер пожал плечами. В серых глазах отражались огни, русую бороду слева пронизали морозные нити.
— Источница Айге мудра, — сказал он ученикам. — Однако в поездах, плетущихся вдоль моря, полно варнаков и ворья. Мало ли как они плату Ялмаку собирали.
За столом взревели громкие голоса. К кому-то пришла хорошая игра. Брошенные кубики явили два копья, топор и щит
против единственных гуслей. Довольный игрок, воин с как
будто вмятой и негоже выправленной левой скулой, подгрёб
к себе добычу. Кости удержали при нём плащ, добавив резную
деревянную чашу с горстью серебра и тычковый кинжал в дорогих ножнах.Ветер задумчиво проводил взглядом оружие:
— А могли и с соищущей дружиной схватиться…
Беседа тянулась вяло, просто чтобы одолеть безвременье
ожидания.— Отважусь ли спросить, как нынче мотушь? — осторожно полюбопытствовала Айге.
Ученики переглянулись. Ветер вздохнул, голос прозвучал
глухо и тяжело:— Живёт, но не знает меня.
— А о единокровных что-нибудь слышно?
Ветер оторвался от наблюдения за игрой, пристально посмотрел на Айге:
— Двоих, не желавших звать меня братом, уже преставила Владычица…
— Но младший-то жив?
Глаза Ветра блеснули насмешкой.
— Говорят, Пустоболт объявился Высшему Кругу и вступил в след отца.
— Пустоболт, — с улыбкой повторила Айге.
— Если не врёт людская молва, — продолжал Ветер, — старый Трайгтрен ввёл его в свиту. Может, ради проворного меча,
а может, надеется, что Болт ещё поумнеет.Над большим столом то и дело взлетал безудержный смех,
слышалась ругань, от которой в ином месте давно рассыпалась
бы печь. Здешняя, слыхавшая и не такое, лишь потрескивала
огнём. Канительный плащ так и не сменил обладателя, увенчавшись витой гривной и оплетённой бутылкой. Щедрый победитель тут же распечатал скляницу, пустил вкруговую. Как
подобало, первым досталось отхлебнуть вожаку. Под хохот
дружины Лишень-Раз сделал вид, будто намерился одним
глот ком ополовинить бутыль. Он выглядел вполне способным
на это, но, конечно, жадничать не стал. Отведал честно, крякнул, передал дальше. Два воина за спиной воеводы стерегли
стоячее копьё, одетое кожей. Из шнурованного чехла казалась
лишь чёлка белых волос и над ней — широкое железко.— Учитель, Мятой Роже везёт шестой раз подряд, — негромко проговорил второй парень. — Как такое может быть?
Ты сам говорил, кости — роковая игра, не знающая ловкости
и науки…Волосы у него были белёсого андархского золота, он скалывал их на затылке, подражая наставнику.
Ветер зевнул, потёр ладонью глаза:
— Удача своевольна, Лихарь. Ты уже видел, что делает с человеком безудержная надежда её приманить.
— А вот и он, — сказала Айге.
Через высокий порог, убирая за пояс войлочный столбунок
и чуть не с каждым шагом бледнея, в повалушу проник неприметной внешности середович. Пегая борода, пегие волосы, латаный обиванец… Как есть слуга в небольшом, хотя и крепком
хозяйстве. Ступал он бочком, рука всё ныряла за пазуху, словно там хранилось сокровище несметной цены.Зоркие игроки тотчас разглядели влезшего в избу.
— Прячь калитки, ребята! Серьга отыгрываться пришёл!
Ученик, сидевший подле наставника, чуть не рассмеялся
заодно с кметями:— А глядит, как тухлое съел и задка со вчерашнего не покидал…
— Не удивлюсь, если вправду не покидал, — сказал Ветер.
Томление бездействия сбежало с него, взгляд стал хищным.
Глядя на источника, подобрались и парни.
Мужичонка по-прежнему боком приблизился к столу, словно до последнего борясь с погибельной тягой, но тут его взяли
под руки, стали трепать по спине и тесней сдвинулись на скамье, освобождая местечко.— Удачными, — обращаясь к ученикам, пробормотал Ветер, — вас я сделать не властен. А вот удатными… умеющими
привести на службу Владычице и удачу мирянина, и его неудачу…Игра за столом оживилась участием новичка. В прошлые
дни Серьга оказал себя игроком не особенно денежным, но забавным. Стоило поглядеть, как он развязывал мошну и вытаскивал монету, которую, кажется, удерживала внутри вся тяга
земная. Долго грел в ладони, словно что-то загадывая… потом
выложил на стол. Когда иссякли шуточки по поводу небогатого кона, в скоблёные доски снова стукнули кости. Пять кубиков подскакивали и катились. Игроки в очередь вершили
по три броска; главней всего были гусли, вторыми по старшинству считались мечи. Когда сочлись, Серьга из бледного стал
совсем восковым. Его монета, видавший виды медяк с изображением чайки, заскользила через стол к везучему ялмаковичу.Лишень-Раз вдруг поднял руку — трезвый, несмотря на всё
выпитое. Низкий голос легко покрыл шум кружала.— Не зарься, брат! Займи ему, с выигрыша отдаст. А проиграется, всё корысть невелика.
Взятое в игре так же свято, как боевая добыча, но слово
вождя святей. Мятая Рожа рассмеялся, бросил денежку обратно. Серьга благодарно поймал её, поняв случившееся как знак:
вот теперь-то счастье должно наконец его осенить!Стукнуло, брякнуло… Раз, другой, третий… Словно чьё-то
злое дыхание поворачивало кости для Серьги кверху самыми
малопочтенными знаками: луками да шеломами. Медная чайка снова упорхнула на тот край. Серьга низко опустил голо-
ву. Если он ждал повторного вмешательства воеводы, то зря.
Ялмак не зря носил своё прозвище. А вот ялмаковичу забава
полюбилась. Монетка, пущенная волчком, вдругорядь прикатилась обратно. Серьга жадно схватил её…— Бороду сивую нажил, а ума ни на грош, — прошипел
Ветер.…и проиграл уже бесповоротно. Дважды прощают, по третьему карают! Витязь нахмурился и опустил денежку в кошель.
Ближний ученик Ветра что-то прикинул в уме:
— Учитель… Ему правда, что ли, двух луков до выигрыша
не хватило? Обидно…Ветер молча кивнул. Он смотрел на игроков.
Серьгу у стола сочувственно хлопали по плечу:
— Ступай уж, будет с тебя. И обиванец свой в кон вовсе не
думай, застынешь путём!Серьга, однако, уходить не спешил. Он медленно покачал
головой, воздел палец, двигаясь, словно вправду замёрзший до
полусмерти. Рука дёрнулась туда-обратно… нырнула всё же за
пазуху… вытащила маленький узелок… Серьга развернул тряпицу на столе, будто не веря, что вправду делает это.— Как же Ты милостива, Справедливая, — шепнула Айге.
На ветошке мерцала серебряной чернью ветка рябины.
Листки — зелёная финифть, какой уже не делали после Беды,
ягоды — жаркие самограннички солнечно-алого камня. Запонка в большую сряду красной госпожи, боярыни, а то и царевны!
Воины за столом чуть не на плечи лезли друг дружке, рассматривая диковину. Сам Ялмак отставил кружку, пригляделся,
протянул руку. Серьга сглотнул, покорно опустил веточку ему
на ладонь. Посреди столешницы уже росла горка вещей. Недаровое богатство, кому-то достанется!Воевода не захотел выяснять, какими правдами попало сокровище к потёртому мужичонке. Лишь посоветовал, возвращая булавку:
— Продай. Сглупишь, если задаром упустишь.
Серьга съёжился под тяжёлым взглядом, но ответил как
о решённом:— Прости, господин… Коли судьба, упущу, а продавать не
вели…Ялмак равнодушно передёрнул плечами, снова взялся за
кружку.И покатились, и застучали кости… На Серьгу страшно стало
смотреть. Живые угли за ворот сыпь — ухом не поведёт! И было отчего. Диво дивное! Им с Мятой Рожей всё время шли
равные по достоинству знаки. Кмети, уже отставшие от игры,
подбадривали поединщиков. Остался последний бросок.Вот кубиками завладел ялмакович. Коснулся оберега на
шее, дунул в кулак, шепнул тайное слово… Метнул. Кмети выдохнули, кто заорал, кто замолотил по столу. Мятой Роже выпало четверо гуслей и меч. Чтобы перебить подобный бросок,
требовалось истое чудо.Серьга, без кровинки в лице, осоловелые глаза, принял кости и, тряхнув кое-как, просто высыпал на стол из вялых ладоней.
И небываемое явилось. Четыре кубика быстро замерли…
гуслями кверху. Пятый ещё катился, оказывая то шлем, то щит,
то копьё. Вот стал медленнее переваливаться с боку на бок……лёг уже было гуслями… Серьга ахнул, начал раскрывать
рот……и кубик всё-таки качнулся обратно и упокоился, обратив
кверху топор.Серьга проиграл.
Крыша избы подскочила от крика и еле встала на место,
дымное коромысло взялось вихрями. Мятой Роже со всех сторон предлагали конаться ещё, но ему на сегодня испытаний
было довольно. Он сразился грудью на выигранное богатство,
подгрёб его к себе и застыл. Потом встрепенулся, поднял голову, благодарно уставился на стропила, по-детски заулыбался —
и принялся раздавать добычу товарищам, отдаривая судьбу.
Серьга тупо смотрел, как рябиновая веточка, в участи которой
он более не имел слова, блеснула камешками перед волчьей
безрукавкой вождя.— Спасибо за вразумление, воевода, твоя мудрость, тебе
и честь!Ялмак отхлебнул пива. Усмехнулся:
— На что мне девичья прикраса? Оставь у себя, зазнобушке в мякитишки уложишь.
Воины захохотали, наперебой стали гадать, какой пышности должны оказаться те мякитишки…
Ветер кивнул ближнему ученику:
— Твой черёд. Поглядим, хорошо ли я тебя наторил.
Парень расплылся в предвкушении:
— Учитель, воля твоя!
Обманчиво-неспешно поднялся, выскользнул за порог. Разминулся в дверях с кряжистым мужиком, казавшимся ещё шире в плечах из-за шубы с воротом из собачьих хвостов. Лихарь
понурил белобрысую голову, пряча полный ревности взгляд.
Айге отломила кусочек лепёшки, обмакнула в подливу.— И надо было мне тащиться в этакую даль, — шутливо
вздохнула она. — Кому нужны скромные умения любодейки,
когда у тебя встают на крыло подобные удальцы!Ветер улыбнулся в ответ:
— Не принижай себя, девичья наставница. Кости могли
лечь инако…Веселье в кружале шло своим чередом. Витязи цепляли за
подолы служанок, хвалили пиво, без скупости подливали
Серьге: не журись, мол, день дню розь, выпадет и тебе счастье.
Он кивал, только взгляд был неживой.Черева у дружинных вмещали очень немало. Обильная
выпивка всё равно отзывала наружу то одного, то другого. Мятая Рожа было задремал у стола, но давняя привычка не попустила осрамиться. Воин протёр глаза, вынул из-под щеки ставший драгоценным кошель и на вполне твёрдых ногах пошёл
за дверь отцедить. Миновал в сенях отроков, занятых торгом,
кивнул знакомым коробейникам из Шегардая и Сегды…Наружная дверь отворилась с мучительным визгом, в лицо
сразу ринулись даже не хлопья — сущее крушьё, точно с лопаты. Мятая Рожа не пошёл далеко от крыльца. Повернулся к
летящей пáди спиной, распустил гашник, блаженно вздохнул…
Он даже не отметил прикосновения к волосам чего-то чуть
более твёрдого, чем упавший с ветви комок. Ну проросла в том
комке остренькая ледышка, и что?..Ялмакович открыл глаза, кажется, всего через мгновение.
Стоя на коленях в снегу, тотчас бросил руку за пазуху, проверить, цел ли кошель. Кошель был на месте. Только… только не
ощущались сквозь мягкую замшу самогранные ягодки под зубчатыми листками, которые ему уже понравилось холить…Другой витязь, в свой черёд изгнанный пивом из тепла
повалуши, едва не наступил на Мятую Рожу. До неузнаваемости облепленный снегом, тот шарил в сугробе, пытался что-то
найти. Боевые побратимы долго рылись вместе, споря, достоило ли во избежание насмешек умолчать о пропаже — либо,
наоборот, позвать остальных и раскопать всё до земли.Серьга волокся заметённой, малохожей тропой, плохо понимая куда. В глазах покачивался невеликий, но тяжёленький ларчик. Доброго старинного дела, из цельной, красивейшей, точно изнутри озарённой сувели… ларчик, ключ от которого посейчас висел у него, Серьги, кругом шеи, гнул в три
погиба… Из метельных струй смотрели детские лица. Братец
Эрелис и сестрица Эльбиз часто открывали ларец, выкладывали узорочье. Цепочки финифтевых незабудок — на кружевной платок матери. Серебряный венец, перстни с резными печатями — на кольчугу отца.Он знал, как всё будет. Ужас и непонимание в голосах:
«Дядюшка Серьга… веточку не найти…»
И он пойдёт на поклёп, а что делать, ведь Космохвост за
утрату их пальцем не тронет, ему же — голову с плеч.«А вы, дитятки, верно ли помните, как всё назад складывали?»
И — две горестно сникшие, без вины повинные голо вёнки…
И — раскалённой спицей насквозь — взгляд жуткого
рынды…И — нельзя больше жить, настолько нельзя, что глаза уже
высмотрели над тропой сук покрепче, а руки вперёд ясной
мысли взялись распутывать поясок. Длинный, с браным обережным узором, вытканный на бёрде старательными пальчиками, все бы по одному перецеловать: «Носи на доброе здоровье, дядька Серьга…»— Постой, друже! Умаялся я тебя настигать.
Злосчастный слуга не сразу и понял, что голос прозвучал
въяве и что обращаются вправду к нему. Вздрогнул, обернулся, только когда ворот сжали крепкие пальцы.Незнакомец годился ему в сыновья. Серые смешливые
глаза, в бровях застряли снежные клочья, на ногах потрёпанные снегоступы… Серьга успел решить, что нарвался на лиходея, успел жгуче испугаться, а потом обрадоваться смерти, только подивившись: да много ли у него, спустившего хозяйское достояние, надеются отобрать? — но против всякого
ожидания человек вложил ему в ладонь маленькое и твёрдое
и замкнул руку, приговорив:— Утрись, не о чем плакать.
Серьга стоял столбом, пытаясь поверить робкому голосу
осязания. И таки не поверил. Мало ли что причудится сквозь
овчинную рукавицу. Послушно утёрся. Бережно расправил
ладонь… Света, гаснувшего за неизмеримыми сугробами туч,
оказалось довольно. Серьга упал на колени, роняя с головы
столбунок:— Милостивец… отец родной…
Всё качалось и плыло. Возвращаться с исподнего света
оказалось едва ли не тяжелее последнего безвозвратного шага.— Встань, друг мой, — сказал Ветер. Нагнулся, без большой надсады поставил Серьгу на ноги. — Мне будет довольно,
если ты вернёшь булавку на место и никогда больше не подойдёшь к игрокам, искушающим Правосудную. Служи верно
Эре лису и Эльбиз, а я рядом буду… — Он выпустил Серьгу и
улыбнулся так, словно вечный век его знал. Собрался уже уходить, но вспомнил, подмигнул: — Да, смотри только, Космохвосту молчи… Он добрый малый, Космохвост, одного жаль,
недалёкий. Да что с рынды взять! Никому не верит, не может
в толк взять, кто истинные друзья.Серьга опустил взгляд всего на мгновение — убедиться,
что рябиновая гроздь вправду переливается в ладони. Когда
он снова поднял глаза, рядом никого не было. Лишь деревья
размахивали обломанными ветвями, стеная и жалуясь, точно
скопище душ, заблудившихся в междумирье.
1 Автор, отнюдь не занимавшийся придумыванием новых слов или удивительных толкований, всего лишь пытался писать эту книгу по-русски. Честно предупреждаю: в тексте встретится ещё немало замечательных старинных слов, возможно выводящих из зоны привычного читательского комфорта. Полагаю, незаинтересованный читатель сумеет их с лёгкостью «перешагнуть». Заинтересованного — приглашаю в самостоятельное путешествие по сокровищнице русского языка. Поверьте, это может стать захватывающим приключением. А найдёте вы гораздо больше, чем предполагали…
Апокалипсис навсегда
- Вадим Левенталь. Комната страха. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 362 c.
По легенде, Лев Толстой отозвался о творчестве Леонида Андреева следующим образом: «Он пугает, а мне не страшно». К сборнику рассказов Вадима Левенталя применима другая формулировка: он пугает, а мне безумно интересно. Если прибегнуть к помощи простейшей метафоры «книга — это отдельный мир», то можно сказать, что из комнаты страха Левенталя не хочется уходить.
Лабиринт его предыдущего романа «Маша Регина» был подчеркнуто филологичен (от названий глав вроде «Феноменология вины» и «Горизонт событий» прямо-таки веет курсом литературной герменевтики). По «Комнате страха» блуждать приходится по-другому. Если «Маша Регина» в большей степени задействует рациональные методы работы с текстом, то в «Комнате страха» им на смену приходят сенсуальные, чувственные читательские ассоциации. Некоторые из них, к счастью, удается сразу же сопоставить с собственным опытом (однозначно Гоголь, однозначно Булгаков, однозначно Саша Соколов), а вот другие требуют советов с более подкованными товарищами, странных звонков друзьям и скандирования, возможно, и вовсе не существующих стихотворений («Четырехстопный ямб, точно кто-то из XX века… нет, не знаешь?»). Разумеется, все эти ассоциации сугубо индивидуальны и наверняка не были задуманы автором (едва ли еще у кого-то название рассказа «Лапа Бога» вызовет ассоциацию с одним из опытов изобразительной поэзии Андрея Вознесенского: «Чайка — это плавки Бога»), но от того, что все участники игры следуют разным правилам, она не становится менее интересной.
Пользуясь терминологией самого Левенталя, «в глубине культурного слоя на месте меня в мире (не назовешь же это памятью)» проявляется главное: стиль автора уникален и узнаваем с первой строчки, так что придется поверить хвалебным словам Льва Данилкина, напечатанным на обложке. Язык, выводящий из себя некоторых читателей, по мнению того же Данилкина, — не просто язык, не просто слог, а «слух зрелого поэта и легкие молотобойца». В «Комнате страха» можно найти стилистические неудачи — вроде таких: «Анни что-то ворчит по-голландски, и я закрываю дверь, чертовски холодно, все это, вероятнее всего, от голода». Однако, даже если составить полный перечень ляпов Левенталя, любому скептику придется признать, что «слог умный и живой», несмотря ни на какие «оговорки».
Вадим Левенталь — один из немногих писателей, не зациклившихся на форме исторического повествования. Он — автор для тех, кто предпочитает современную литературу за ее возможность отражать нынешние реалии. В этих рассказах девушки выходят из дома только после того, как нарисуют брови и сделают селфи, герои вспоминают «Игру престолов» и используют в речи выражения «вот это вот всё» и «накося-выкуси». Однако Левенталь не просто переносит на бумагу приметы времени, но ставит рассказы сугубо современные рядом с рассказами историческими.
Проблема в конечном счете в том, что человек всегда один на один с историей. Проблема вообще — в человеке, а не в истории.
Всеобщая боязнь подступиться к настоящему вырастает из того, что писатель не защищен временным ремнем безопасности. Ему приходится смотреть важным вопросам в лицо, анализировать историю в зависимости от обстоятельств. Левенталь, похоже, это понимает:
В действительности, прошлое, в той мере, в которой оно вообще существует, всегда скорректировано своим будущим.
Сборник начинается с двух исторических рассказов и заканчивается исторической повестью. В «Лапе Бога» события происходят в России середины XIX века; в «Carmen Flandriae» — в Европе XV столетия; повесть «Доля ангелов» — о блокаде Ленинграда. Они также становятся ключевыми для сквозной темы веры: между рассказом об уверовавшем безбожнике и заявлением о том, что «если бога нет — а его нет, это очевидно» находятся 350 страниц и десять сочинений малой формы. В «Комнате страха» герои вместе с автором теряют своего бога, и страшен этот сборник вовсе не смертями, которые там все-таки будут (на них намекает и ворон, изображенный на обложке), а страшен он духовной смертью, пустотой на том месте, где была душа, отсутствием нравственной нормы.
Взаимосвязь между нормой нравственной и нормой языковой Левенталю абсолютно ясна, и отсюда — «взбесившийся» синтаксис, бесконечный «чужой» голос посреди авторской речи и прочие забавы скучающих филологов-расстриг, которым никуда не уйти от полученного ядовитого знания. Оно же отравляет и одновременно озаряет благодатью все в тексте, например — игру с голосами рассказчиков. От самой простой формы повествования, третьеличной, переходя к перволичной, прибегая к вставкам из прямой речи героев, графическим выделениям реплик, доходя до повествования с параллельными сюжетными линиями и добиваясь появления, кажется, чистейшего писательского «я», Левенталь, в конце концов, выходит за рамки одного лишь себя и пишет повесть о том городе, без которого его «я» не случилось бы.
Думая о любви к Родине, я не знаю, где я в этой любви, это что-то, что приходит со стороны, и это больше меня.
Трепетное отношение к фигуре ленинградца и петербуржца чувствуется во всем сборнике. Да что там — старушка, речь которой наделена чертами диалектного просторечия («взяла», «евонные»), становится одним из отрицательных персонажей. При этом Вадим Левенталь изображает и другие города (среди них — Амстердам, Рим, Симферополь) и не умаляет их композиционного значения: Амстердам для рассказа «Станция Крайняя» становится сюжетообразующим, как Петербург для рассказа «Набережная бездны» (хотя и в разной степени). Рассказы, в которых действие происходит в Петербурге, чередуются с рассказами, в которых действие происходит в других городах, но все-таки начиная с середины сборника даже образ великого Рима смешивается с не менее великим (для Левенталя уж точно!) образом Петербурга:
Сквозь улицы Ленинграда тенями проступают осажденный Париж, пораженный чумой Лондон, разоренный варварами Рим — призраки всех великих городов, в одно мгновение ставших кладбищами.
Там, где может не быть ничего — ни времени, ни веры, — там останется хотя бы половинка хронотопа — место. Единственная константа в сборнике — это Петербург, город, создавший вокруг себя литературный миф, с которым, в том числе, и заигрывал автор. В какой-то степени Петербург — это и есть та «комната страха», которую описал Левенталь. Однако и от нее скоро ничего не останется.