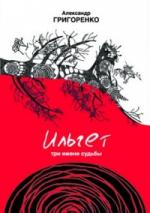- Александр Григоренко. Ильгет. Три имени судьбы. М.: ArsisBooks, 2013. — 332 с.
Возвращение в прошлое — выбор многих современных писателей. Вероятно, говорить о высоком, о судьбе и смысле жизни легче, когда отвлекаешься от века сегодняшнего, от его бешеного ритма и сиюминутных проблем. Александр Григоренко вошел в литературу так же стремительно, как летит стрела, пущенная одним из его персонажей. Имя автора становится все более известным: оба его романа, «Мэбэт» и «Ильгет», в разные годы проходили в финал «Большой книги». А последний отметился и в шорт-листе премии «НОС».
«Ильгет. Три имени судьбы», по словам самого Григоренко, — вторая часть дилогии о человеке тайги. Идейное содержание здесь то же, что в «Мэбэте». Герой на протяжении всего романа упорно пытается выяснить, где его истинное место на Древе мира: «Жизнь спутанной сетью лежит у моих колен, и я мучительно пытаюсь отыскать в ней начальную нить, чтобы извлечь все, что видел сам, слышал от других людей, то, что приходило в снах и видениях, чтобы понять ее строй и надобность моего появления на земле».
Задача эта не из легких — чтобы ее решить, придется пройти сквозь множество испытаний и потерь. Но если в первом романе навстречу своей судьбе шел сильный Мэбэт, любимец богов, то здесь главным героем является «маленький» человек, сирота, взятый из жалости чужой семьей. Ильгет тем не менее переживает не одну метаморфозу. Из обиженного приемыша он превращается в великого война, отца большого семейства, а потом вновь становится рабом.
Погони, бои, испытания, неожиданные повороты конфликта, появление забытых героев — мир романа не позволяет замерзнуть от скуки в выдуманной тайге. Заслуга автора в том, что он не бросает ни одну сюжетную линию. «Ильгет» населяет большое количество персонажей. И судьба каждого прослеживается до конца.
Художественный язык писателя одурманивает, заставляет полностью погрузиться в повествование. Подобно художнику, Григоренко выдумывает новые яркие краски для того, чтобы точнее передать настроение: «Помимо воли вспоминалось другое — день, блистающий цветами осени и солнца, растворенного в воде. Ябто вздрогнул от мысли, что по цвету этот день очень похож на нынешний».
Автор не боится шокировать читателя физиологическими подробностями и описаниями кровавых битв:
«Железный Рог вынул из ножен большой кривой нож, вспорол грязную худую малицу мертвеца, оголив тело — бледное, покрытое струпьями — следом неизвестной болезни. В одно мгновение нож разрезал кожу под ребром, широкая рука тунгуса проникла в тело, как в узкий мешок, и шарила что-то нужное. Олени приплясывали на щеках, когда он резким движением вынул руку, и я увидел на почерневшей ладони неровный вздрагивающий шар.
— Ешь».Постепенно привыкаешь к подобным пассажам. В результате можно не заметить, как сознание меняется: вместо человека XXI века появляется древний житель тайги, всегда помнящий о том, что опасность поджидает на каждом шагу, а человек человеку — скорее враг, нежели друг.
Проблемы правдоподобия в этом романе не возникает. Реальность легко сосуществует с потусторонними мирами. Духи предков возвращаются и разговаривают с живыми людьми. Женщина, спасенная волком, превращается в волчицу. Супруги, разлученные, казалось бы, навсегда, неожиданно встречаются вновь. Рассказчик умеет проникать в мысли других героев и пересекать любые временные и пространственные границы. За спинами у людей живут демоны, которые в трудный момент подсказывают верное решение. И стоит только прислушаться к себе, чтобы понять, что многое из этих чудес не выдумка.
Роман Александра Григоренко обнаруживает демонов и в современном человеке, который мучается теми же желаниями, что и люди Нга. Одежда из оленьих шкур — всего лишь декорация, главный предмет изображения — душа, которая может «говорить», «плакать», «одеваться тревогой» и жить сама по себе: «Слова, которые изрекал рот, существовали за тем пределом, где уже нет слез, ровно как нет ни горя, ни радости, ни смеха. Душа превратилась в жилище, которое давно оставили люди и увели за собой запахи жизни».
«Ильгет» дает возможность освободиться от множества культурных наслоений, чтобы понять: «жизнь и люди одинаковы», «ничего не меняется, никто не меняется». Это напоминание о том, что всегда и везде человечество будет идти в поисках своей судьбы вдоль реки, на которой стоит мир.
Метка: Современная литература
Этери Чаландзия. Уроборос
- Этери Чаландзия. Уроборос. — М.: Альпина нон-фикшн, 2014. — 320 с.
Роман «Уроборос» журналиста, редактора, киносценариста Этери Чаландзии, вошедший в лонг-лист премии «Ясная поляна», – это еще одна попытка показать разницу между безумием и разумом любви. Желание понять, когда и почему между самыми дорогими друг для друга людьми, наступает момент, после которого гибель отношений становится лишь вопросом времени. «Не всех можно отпускать и терять. Не со всеми можно просто так расставаться», – считает Чаландзия. Жаль, не все это понимают.
Зима в тот год началась рано и внезапно. Уже в сентябре выпал первый снег, к октябрю все занесло метелью, а к ноябрю зима, похоже, устала от самой себя. Сугробы почернели и оплыли, приступы морозов чередовались с кислой оттепелью, наступило темное время, и конца и края ему не предвиделось. Той зимой все и началось. Хотя, конечно, началось все значительно раньше.
~ Желание уехать появилось внезапно. За завтраком Нина долго рассматривала густое кофейное пятно на дне чашки. Ее напугала мысль о том, что это и есть ее будущее — бессмысленная и стремительно остывающая тьма, в которой ничего не разобрать. Телефон лежал под рукой. Она не любила летать, заказала билеты на поезд, обо всем договорилась, отключила связь и допила остывший кофе. Нина посмотрела на стенные часы. На все про все ушло пять минут.
Что-то гнало ее прочь из города. Но что? Егор довольно спокойно выслушал сбивчивый рассказ о том, что она хочет уехать, сменить обстановку, подумать, погулять. Ей пришло в голову, что она ведет себе, как женщина, которая срывается к любовнику и мямлит чушь, чтобы объясниться и замести следы. Но Егор и бровью не повел. На мгновение Нине показалось, что он даже рад ее внезапному отъезду. Она было насторожилась, но он вовремя ввернул, что все понимает — ей надо, хорошо, ничего страшного, в воскресенье утром он ее встретит. Если не сможет, закажет такси на вокзал. Конечно, поезжай, все в порядке. И Нина поехала. Вот только все было далеко не в порядке.
~ Они поженились почти десять лет назад. В осенних парках густо пахло грибами и опавшими прелыми листьями. Утром сходили в загс, там обо всем было договорено заранее, расписались в толстой книге перемен и вышли из мрачного здания уже мужем и женой. Вечером выпили в компании друзей, чуть не забыли, по какому поводу собрались, приняли в подарок забавную деревянную птицу с выпученными то ли от счастья, то ли от ужаса глазами, посмеялись и разошлись. Позже они отметились одной большой глупостью, вернее, глупостью ее считала Нина. Егор всегда только отмахивался.
Вместо свадебного путешествия они уехали в деревню к друзьям Егора. Он любил гостить в их доме на краю леса, в двухстах километрах от города, в глубине Калужской области. Даже непродолжительный побег из столицы давал ему ощущение свободы и покоя. В тот раз их поселили в домике для гостей, небольшой избе на краю участка. Окна комнаты выходили в сосновый бор. Ночью деревья поскрипывали от ветра, и Нине снился корабль в сто мачт, дрейфующий в бухте под звездой. В те дни они редко выходили из дома, снаружи шел дождь, а внутри было уютно и тихо, вкусно пахло поленьями и пьяным яблоком. Чувство покоя и тепла стремилось к абсолюту, постель не отпускала, и молодоженам казалось, что жизнь с ее жесткой хваткой отступила и дала им передышку.
У хозяев дома, театральных художников Альберта и Лили, подрастали два бойких бандита сына. В ту осень малышей отвезли бабкам, чтобы взрослые могли немного отдохнуть и спокойно провести время вместе. Альберт с Егором были знакомы еще со студенческих времен, и поначалу Нина ощущала некоторую неловкость в присутствии друзей. Понятно, что не ее первую Егор привез в этот загородный дом. Но, в конце концов, она все-таки была его женой, да и вели себя все легко и непринужденно, и вообще, бывают времена, когда почти все совершенно неважно. Постепенно Нина и думать забыла о том, сравнивают ли ее здесь с кем-то другим и так ли она хороша, как этот самый кто-то другой.
Гораздо больше ее заинтересовал дом Альберта и Лили. Он был похож на декорацию, в которой люди как будто играли свои роли. Сидя внизу на безразмерном диване под названием «логово», заваленном пледами, коврами и подушками со всего света, Нина часами могла рассматривать развешенные по стенам маски, рисунки, эскизы, макеты и фотографии. Несколько вещей оказались у Нины в фаворитах. Две короны Ричарда III, словно сплетенные из ветвей кустарника. Одна была немного больше другой, у актеров двух составов оказались разных размеров головы. Еще двусторонний ящик-вертеп с десятками маленьких фигурок из папье-маше табачного цвета. На одной стороне располагались фигурки радости, на другой — печали. И можно было до бесконечности крутить ящик, изучая пластику счастья и отчаяния бесполых человечков.
Третьей приманкой для Нины стала дверь в конце длинного коридора. Небольшая, ладная, с ковкой и цветочным орнаментом по краю. На вопрос, что за дверь и куда ведет, Лиля растеряно подергала ручку и с удивлением сказала, что сама не знает. Позвали Альберта, тот тоже сначала в недоумении изучал предмет, потом вспомнил, что дверь — фальшак, ей сто лет, притащили с какого-то спектакля, пожалели выбрасывать, прибили гвоздями к стене в темном месте и все тут. И вообще, пошли за стол, хватит всякой ерундой заниматься. За стол они все в тот раз, конечно, пошли, но Нина втихаря продолжила крутиться у странной двери. Странной, потому что была она именно закрыта, а не прибита гвоздями.
Время текло легко и незаметно. Вечерами они все вместе ужинали, выпивали, играли в карты, возились с ленивой дворняжкой Джульеттой, пекли картошку в камине, ближе к полуночи затягивали песни. Нина с хмельным старанием выводила: «Ой, мороз, мороз…» и представляла себе, как дом с таинственной дверью в никуда, прицепившись к краю земли, летит сквозь холодный космический мрак, оглашая вечную ночь нестройным счастливым пением.
Однажды утром немного распогодилось, и они с Егором решили прогуляться. Они нашли церковь на краю деревни. Обошли несколько раз. Она казалась заброшенной. Дверь почти вросла в притолоку, в мутных окнах отражалось только серое небо, в потухшей маковке не отражалось ничего. Неизвестно откуда вдруг выпал черный кот, уселся на ветхом полуразрушенном крыльце и уставился на них подозрительным желтым глазом. Они уже собирались было уходить, как вдруг дверь легко отворилась, и на пороге встал молодой парень. Что-то здесь было не так, Нине показалось, что он не в настоящем облачении, а в маскарадном костюме, но это и правда был батюшка. Посетовал на безденежье и запустение и пригласил в храм «на экскурсию». Они покорно выслушали печальную историю старого прихода с пятью старухами и вечной угрозой обрушения крыльца и крыши. Внутри храм оказался светлым и ухоженным. Высокие белые потолки круто забирали вверх, на стенах просматривались остатки фресок, голоса звучали гулко, шаги отдавались эхом.
На колокольню Нина отказалась забираться наотрез. Она увидела крутую кривую лесенку, похожую на лисью нору в один конец, и сказала, что подождет внизу. Пока она гуляла вокруг крыльца, Егор с таким энтузиазмом звонил в колокол, что распугал всех ворон над деревней. Даже облака слегка разошлись, и в просвет с любопытством выглянуло солнце. Церковный кот и тот ненадолго отвлекся от своих блох и тоже с удивлением посмотрел куда-то вверх.
Вернулся Егор очень довольный. На вопрос Нины ответил, что ему понравилось и что вид сверху вдохновляющий. Однако было что-то еще. От Нины не укрылись заговорщические взгляды, которыми они обменялись с батюшкой на прощанье.
Прошло несколько дней, Нина чувствовала всеобщее радостное оживление и немного злилась оттого, что не могла его разделить. Ее расспросы не увенчались успехом, все удивленно таращили глаза и разводили руками, и она окончательно убедилась в назревании какой-то интриги. В то утро Егор, разбудив Нину, долго обнимал и целовал, а потом попросил надеть на глаза повязку. Нина насупилась, поворчала, но в его голосе было столько радостной мольбы, что она согласилась. Егор накрутил ей на голову какой-то платок, попросил не подглядывать, довериться ему и ничему не удивляться.
Дальнейшее напоминало сон во сне. Вокруг Нины закрутился какой-то странный мир из запахов, звуков и прикосновений. В нем она была как кукла, беспомощная и бестолковая. Егор умолял ее расслабиться и не мешать, но Нина не сдавалась. Когда она поняла, что и правда будет много легче, если она перестанет подозрительно тянуть руки во все стороны, принюхиваться и прислушиваться, дело пошло быстрее.
Для начала ее одели во что-то явно чужое. Она пожаловалась, что в рукаве жмет и в боку колет, но Егор только поцеловал ее в лоб. Дальше была еще какая-то возня, шепот и тихие переругивания, потом все вышли из дома и отправились в поход. Альберт и Лиля поддерживали Нину с обеих сторон, но Егору вскоре надоело гадать, на каком повороте она свалится в кусты, он подхватил жену на руки и бодро зашагал вперед по слегка подмороженной тропинке. Спустя некоторое время они зашли в помещение. У Нины в тревожном предчувствии сжалось сердце. Здесь было жарко, пахло ладаном, слышалось шевеление толпы и потрескивание свечей. Егор снял повязку с ее глаз.
В белом платье она стояла перед алтарем. Рядом Егор, друзья и незнакомые люди за спиной в казавшейся теперь огромной церкви. Молодой священник внимательно посмотрел на них, кивнул и начал службу.
Мерно гудел его голос, за клиросом тихо пел хор, друзья держали над их головами венцы — те самые короны Ричарда III, на ней было платье Офелии, на Егоре сюртук Моцарта, и от жары и ладана у Нины начала кружиться голова. Ей казалось, что алтарь раскачивается в воздухе, то приближается, то медленно удаляется. И голос священника то звучит совсем рядом, то затихает где-то вдали. Она достояла до конца. Их благословили. Они поцеловались. Короткая процессия двинулась к выходу. На пороге на их головы посыпался рис вперемешку с конфетти. Собравшиеся оживленно галдели, кто-то фотографировал, кто-то утирал слезы, кто-то был уже пьян и счастлив. И все бы хорошо, если бы не одно обстоятельство. Нина и Егор были некрещеными.
Нина знала, что религиозность Егора всегда стремилась к нулю. Ее, впрочем, тоже. Она понимала, что он мог соврать, умолчать, в конце концов, просто заплатить священнику. И вот теперь, когда их без лишних вопросов обвенчали, подозрение, что они совершили ошибку, не отпускало.
Как Нина и предполагала, Егор ее не понял. Он придумал и устроил нечто особенное. То, что наверняка они оба запомнят навсегда. Остальное не имело значения. Нина не знала, во что верил Егор, но догадывалась, что меньше всего он верил в человека.
Нехорошее предчувствие преследовало, она упрекала себя за то, что доверилась Егору и не сняла повязку. Однако терзаться бесконечно невозможно. Постепенно тревога ослабела и жизнь, как река, потекла дальше, похоронив на своем дне еще одну человеческую глупость.
~ Нина втолкнула небольшой саквояж в купе и с силой захлопнула тяжелую дверь. Щелкнул замок, и она разрыдалась. Да что же это такое, в самом деле? Совсем расклеилась. Она утерла слезы и села у окна. До отхода поезда оставалось еще полчаса.
Сью Таунсенд. Женщина, которая легла в кровать на год
- Сью Таунсенд. Женщина, которая легла в кровать на год / Пер. с англ. Ласт Милинской. — М.: Фантом Пресс, 2014. – 416 с.
Английская писательница Сью Таунсенд точно знала, чего хочет женщина-домохозяйка, изо дня в день вынужденная выполнять одни и те же функции примерной жены, кухарки и домоработницы. Поэтому Таунсенд героиню своего нового романа уложила отдохнуть в кровать на год, заставив волноваться остальных персонажей книги – мужа, мать и свекровь.
Глава 4 На второй день Ева проснулась, откинула одеяло и свесила ноги с кровати.
Затем она вспомнила, что нет нужды вставать и готовить на всех завтрак, будить детей, опустошать посудомойку, закладывать вещи в стиральную машину, гладить кучу белья, тащить наверх пылесос, перебирать содержимое шкафов и ящиков, чистить духовку, протирать пыль на всех поверхностях, включая горлышки бутылок с кетчупом и соевым соусом, полировать деревянную мебель, мыть окна и полы, чистить ершиком загаженные туалеты, собирать испачканную одежду и складывать ее в корзину, менять лампочки и рулоны туалетной бумаги, носить оказавшиеся не на своем месте предметы с первого этажа на второй и наоборот, идти в химчистку, пропалывать газон, ехать в садовый магазин за луковицами и однолетниками, начищать обувь или нести ее в ремонт, возвращать библиотечные книги, сортировать мусор, оплачивать счета, навещать мать и корить себя, что не заглянула к свекрови, кормить рыбок и чистить аквариум, отвечать на звонки за двоих подростков и передавать им сообщения, брить ноги и выщипывать брови, делать маникюр, перестилать белье на трех кроватях (если на календаре суббота), стирать вручную шерстяные джемперы и сушить их на банном полотенце, покупать еду, которую она не станет есть сама, везти тяжелые пакеты на магазинной тележке к машине, загружать в багажник, ехать домой, убирать покупки в холодильник и в шкафчики, расставлять консервные банки и бакалею на полке, до которой ей не дотянуться, а вот Брайан доставал без труда.
Сегодня она не будет резать овощи и поджаривать мясо для рагу. Не будет печь хлеб и торты, которые всегда пекла из-за того, что Брайан предпочитал домашние магазинным. Не будет косить траву, подрезать растения, подметать дорожки и собирать листья в саду. Не будет мазать креозотом новый забор. Не будет рубить дрова, чтобы растопить настоящий камин, рядом с которым устраивается Брайан, придя зимой домой с работы. Не будет укладывать волосы, принимать душ и в спешке краситься.Сегодня она не станет делать ничего из перечисленного.
Не станет беспокоиться, что ее вещи разложены как попало, потому что не знает, когда снова начнет носить одежду. В обозримом будущем ей понадобятся только пижама и халат.
Пускай другие люди кормят ее, обихаживают и покупают для нее еду. Она не знала, кто возьмет на себя роль феи-крестной, но верила, что большинство окружающих пожелают продемонстрировать свою врожденную доброту.
Ева знала, что скучно ей не будет — столько нужно обдумать.
Она поспешила в ванную, умылась, поплескала под мышками, но вне постели ей было некомфортно. Пожалуй, стоя на полу, легче поддаться чувству долга и спуститься вниз. Возможно, в будущем она попросит мать привезти ведро. Она помнила фарфоровый горшок под провисшей бабушкиной кроватью — в обязанности Руби входило опорожнять посудину каждое утро.
Ева откинулась на подушки и тотчас уснула, но Брайан вскоре разбудил ее вопросом:
— Куда ты подевала мои чистые рубашки?
— Отдала их проходившей мимо прачке, — ответила Ева. — Прачка отнесет их к журчливому ручью и отобьет на камнях. Вернет в пятницу.
Брайан, по обыкновению не слушавший жену, закричал:
— В пятницу?! Так не пойдет! Мне нужна рубашка сейчас!
Ева отвернулась к окну. С клена, кружась, падали золотые листья.
— Ты вполне обойдешься без рубашки. У вас же нет дресс-кода. Профессор Брэди одевается так, словно играет в «Роллинг Стоунз».
— И это чертовски конфузит, — проворчал Брайан. — На прошлой неделе к нам приезжала делегация из НАСА. Все они были в блейзерах, рубашках и галстуках, а экскурсию проводил Брэди в скрипучих кожаных штанах, футболке с Йодой и ковбойских казаках! И это при его-то зарплате! Все космологи одним миром мазаны. Когда они собираются в одной комнате, это похоже на встречу наркоманов в реабилитационном центре! Говорю тебе, Ева, если бы не мы, астрономы, эти пустозвоны уже давно по миру пошли бы.
Ева повернулась к мужу и сказала:
— Надень синюю рубашку-поло, брюки и коричневые броги.
Она хотела, чтобы он поскорее ушел. Пожалуй, имеет смысл попросить свою необразованную мать показать ученейшему Брайану Боберу, бакалавру естественных наук, магистру естественных наук, доктору философии с дипломом Оксфорда, как запускать простейшие программы на стиральной машине.
Прежде чем муж ушел, Ева спросила:
— Как думаешь, Брайан, Бог существует?
Он сидел на кровати и завязывал шнурки.
— Ох, только не говори, что ты внезапно ударилась в религию, Ева. Это обычно заканчивается слезами.
Судя по последней книге Стивена Хокинга, Бог не соответствует целевому назначению. Это сказочный персонаж.
— Тогда почему в него верят миллионы людей?
— Слушай, Ева, статистика говорит обратное. Что-то действительно может появиться из ничего. Принцип неопределенности Гейзенберга допускает, что пространственно-временной пузырь надувается из ничего… — Брайан помолчал. — Но, признаю, с точки зрения частиц все несколько сложнее. Сторонникам теории струн и суперсимметрии действительно необходимо открыть бозон Хиггса. И коллапс волновой функции — та еще проблема.
Ева кивнула и сказала:
— Ясно, спасибо.
Брайан расчесал бороду Евиной расческой и поинтересовался:
— Итак, как долго ты собираешься лежать в постели?
— Где кончается Вселенная? — парировала Ева.
Брайан затеребил кончик бороды.
— Можешь мне объяснить, почему решила податься в затворницы, Ева?
— Я не знаю, как жить в этом мире, — вздохнула она. — Я даже с пультом не умею обращаться. Мне больше нравилось, когда было три канала и нужно было нажимать переключатели — щелк, щелк, щелк.
Она пощелкала воображаемым тумблером на воображаемом телевизоре.
— Значит, ты собираешься валяться в постели, потому что не научилась обращаться с пультом?
Ева пробормотала:— Я не умею обращаться и с новыми духовкой, грилем и микроволновкой. И не могу разобраться, сколько в квартал мы платим энергетической компании «E.ON» по счету за электричество. Мы должны им денег, Брайан, или все-таки они задолжали нам?
— Не знаю, — признался муж. Взял ее за руку и сказал: — Увидимся вечером. Кстати, а секса в меню тоже не осталось?
Марина Степнова. Безбожный переулок
- Марина Степнова. Безбожный переулок. — Москва : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 382 с.
Известная широкому кругу читателей романом «Женщины Лазаря», получившим бронзу на «Большой книге» и вошедшем в шорт-листы еще трех литературных премий, Марина Степнова написала новую книгу «Безбожный переулок». Ее главный герой Иван Огарев, врач и примерный семьянин, влюбляется в странную девушку, для которой главное – свобода от всего, в том числе и от самой жизни.
ГЛАВА 1
От Мали осталась только баклева.
Никто не знал, что это такое. Но вкусно.
Сто грецких орехов (дорого, конечно, но ничего не поделаешь — праздник) прокрутить через мясорубку. Железная, тяжеленная, на табуретке от нее предательская вмятина, ручка прокручивается с хищным хрустом, отдающим до самого плеча. Когда делаешь мясо на фарш, разбирать приходится минимум трижды. Жилы, намотавшиеся на пыточные ножи. Но орехи идут хорошо. Быстро.
Калорийных булочек за девять копеек — две с половиной.
Смуглые, почти квадратные, склеенные толстенькими боками. Темно-коричневая лаковая спинка. Если за 10 копеек, то с изюмом. Ненужную половинку — в рот, но не сразу, а нежничая, отщипывая по чуть-чуть. Некоторые еще любят со сливочным маслом, но это уже явно лишнее.
Смерть сосудам. На кухню приходит кошка, переполненная своими странными пищевыми аддикциями (зеленый горошек, ромашковый чай, как-то выпила тайком рюмку портвейна, наутро тяжко страдала). Почуяв изюм, орет требовательно, как болотный оппозиционер. Приходится делиться — но ничего, без изюма калорийные булочки даже вкуснее. Теперь таких больше не делают, а жаль. И кошка давно умерла.
Булочки надо перетереть руками, поэтому важно, чтобы были вчерашние, чуть подсохшие. Еще важнее не забыть и не слопать их с утра с чаем. Потому в хлебницу их, подальше, подальше от греха. Чревообъедение, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Святитель Игнатий Брянчанинов. Бряцающий щит и меч святости. Прости мя, Господи, ибо аз есмь червь, аз есмь скот, а не человек, поношение человеков. Приятно познакомиться. Мне тоже. Протестанты, кстати, заменяют уныние ленью — и это многое объясняет. Очень многое. Ибо христианин, которому запрещено унывать, не брат христианину, которому запрещено бездельничать. И перерезанных, замученных, забитых во имя этого — легион.Аминь.
Конечно, булочки — это условность. Позднейшая выдумка. Чужие каляки-маляки поверх строгого канонического текста. Маргиналии на полях. Изначально был только мед, грецкие орехи, анисовые семена. Мускатный орех. Булочки приблудились в изгнании, да и не булочки, конечно, — хлеб. Вечная беднота. В ДНК проросший страх перед голодом. Супермаркеты Средиземноморья до сих пор полны сухарями всех видов и мастей. Рачительные крестьяне. Доедаем все, смахиваем в черствую ладонь даже самую малую крошку. А эти и вовсе были беженцы без малейшей надежды на подаяние. Какие уж тут булочки? Ссыпали в начинку все объедки, которые сумели выпросить или найти. Радовались будущему празднику. Готовились. Волновались.
Это мама придумала добавлять булочки? Мамина мама, может быть? Она говорила? Ты помнишь?
Смотрит в сторону. Ничего не говорит. Опять.
Ладно. Тогда варенье из роз.
Когда-то достать было невозможно в принципе. Только обзавестись южной родней, испортить себе кровь и нервы всеми этими хлопотливыми мансами, истошными ссорами навек, ликующими воплями, внезапными приездами всем кагалом или аулом (в понедельник, без предупреждения, в шесть тридцать утра). А Жужуночка наша замуж вышла, ты же помнишь Жужуну? Не помню и знать не хочу! Но вот из привезенного тряпья, из лопающихся чемоданов с ласковым лопотанием извлекается заветная баночка. Перетертые с сахаром розовые лепестки. Гладкая, едкая горечь. Вкус и аромат женщины. Но неужели нельзя было просто посылкой, божежтымой?!
Варенья из роз нужна столовая ложка — не больше, потому что…
Черт. Телефон.
Да, здравствуйте. Нет, вы поняли совершенно неправильно. В вашем случае уместнее три миллиона единиц, а не полтора. Нету? Значит, придется два раза по полтора. Сами знаете куда. Сочувствую.
Да. До свидания.
Итак, розы. Надо сразу признаться, что никакой южной крови и родни у меня нету. Я настолько русский, что это даже неприятно. Чистый спирт, ни на что совершенно не употребимый. Даже на дезинфекцию. Чтобы выпить или обработать рану, придется разбавить живой водой. Иначе сожжешь все к чертовой матери. В девяностошестипроцентной своей ипостаси спирт годен разве что для стерилизации. Неприятно осознавать себя стерильным. Неприятно осознавать себя вообще. Хоть капля другой крови придала бы моей жизни совсем другой смысл. Но — нет.
Позвольте представиться — Огарев Иван Сергеевич.Нет, не родственник того и не товарищ — этого.
Иван Сергеевич — тоже всего лишь пустая реминисценция.
Я врач.
Всего-навсего врач.
Елена Чижова. Планета грибов
- Елена Чижова. Планета грибов. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014.
Новый роман лауреата премии «Русский Букер» 2009 года Елены Чижовой передает историю мужчины и женщины: переводчика, погрязшего в рутинной работе, и удачливой бизнес-леди. Он интеллигент, для которого сломанный замок — чудовищная проблема. Она с пятнадцати лет привыкла все решать сама. Существа с разных планет, они объединены общим прошлым: прошлым страны, города, семьи.
СВЕТ И ТЬМА
(понедельник)Чердачную комнату он называл кабинетом. Топчан,
покрытый линялой попоной, пара разнокалиберных
стульев, по стене — полки, набитые выцветшими папками: не любил ничего выбрасывать — ни старых рукописей, ни черновиков. Втайне надеялся на будущих
ученых, которые явятся после его смерти: изучать наследие, сверять варианты.Рабочий стол стоял у окна, обращенного к лесу. Половину столешницы занимала пишущая машинка. Другая — портативная, с латинским шрифтом, — томилась
на тумбочке в углу. Лет десять назад, когда издательство окончательно перестало принимать машинопись,
он отвез их на дачу и обзавелся стареньким компьютером — не задорого, по случаю. Переводы, сделанные
летом, осенью приходилось перегонять. Конечно, на
это уходит уйма времени, но не возить же сюда компьютер: нанимать машину. Весной — туда, осенью —
обратно. Тысяч пять как минимум…В этот раз, учитывая срочность заказа, главный
редактор обещал выделить наборщика. Просил привозить порциями: по три-четыре главы. Он было заартачился: мало ли, понадобится внести уточнения. Но получил обещание: предоставят распечатку. Пока оригинал-макет не подписан, он свободен вносить любую
правку.Машинка обиженно хохлилась. Он покрутил боковое колесо, будто потрепал по плечу старую, но
верную спутницу жизни, и заправил чистый лист.
«Ну-ну, виноват. Замок. Непредвиденное обстоятельство», — жалкие оправдания. В глубине души он
соглашался с нею: ритуал есть ритуал. Каждый божий день, не обращая внимания на выходные и праздники, просыпался без пятнадцати восемь, наскоро
ополоснув лицо и почистив зубы, завтракал и шел
к письменному столу. Сломанный замок внес свои коррективы.Сел и потер ладонями щеки. Верная спутница еще
не догадывалась, но он, мужчина, знал: завтра тоже
придется нарушить. Уйти ни свет ни заря.Лист, заправленный в каретку, белел соблазнительно. Обычно этого соблазна было достаточно, чтобы,
отрешившись от посторонних мыслей, погрузиться
в иное пространство, в котором звуки чужого языка
превращаются в русские буквы — складываются в слова. Первые годы, пока не приобрел устойчивого навыка, ощущение было острым, сродни тому, которое испытал в четыре года, научившись читать. Теперь, конечно, притупилось: работа есть работа. Над этой
книгой он корпел третью неделю, все это время чувствуя, что ступает по шатким мосткам. Текст, выползавший из-под каретки, оставался сомнительным —
даже на его взгляд, что уж говорить о специалистах.«Хоть отказывайся… — чтобы как-то войти в колею,
попытался найти подходящее оправдание: — Фантастика — не мой жанр», — осознавая, что дело не в жанре — достаточно вспомнить замечательные книги, чтимые интеллигенцией: Брэдбери, братья Стругацкие.Действие происходит в космическом пространстве,
точнее, на инопланетном корабле. По отдельным замечаниям, разбросанным по тексту, можно догадаться,
что он приближается к Земле. Днем астронавты занимаются текущими делами, но по вечерам собираются
в общем отсеке, где — по воле автора, увлеченного дарвиниста, — обсуждают теорию эволюции в разных ее
аспектах: естественный отбор, наследственность, выживание наиболее приспособленных, противоречия
между поколениями, борьба полов и все прочее. Для
него, далекого от этой проблематики, все это объединялось словом генетика.Пугала не столько терминология — на это существуют словари. Трудности перевода начинались там, где
герои вступали в споры: Что первичнее: благополучие
вида или спасение индивидуума? От каких факторов
зависит вероятность выживания той или иной популяции? Какой отбор важнее: индивидуальный или групповой? Он боялся содержательных ошибок: в его дилетантской интерпретации реплики персонажей — попадись они на глаза профессиональному биологу — могли
звучать бредом.Едва приступив к работе, он отправился к главному
редактору, чтобы поделиться своими сомнениями и выговорить себе пару дополнительных недель: подобрать
специальную литературу, спокойно посидеть в библиотеке, короче говоря, войти в курс.
— Поймите, у меня школьные знания. Дальше Менделя с его горохом и мушек-дрозофил я не продвинулся.Главный свел белесоватые брови и постучал ладонью
по горлу красноречивым жестом, намекающим на то,
что уважаемый переводчик, обращаясь к руководству
с просьбой об отсрочке, режет его без ножа.— Вы же понимаете: серия есть серия… Ох!.. Ох!..
А-апчхи!! — чихнул оглушительно и помотал голо-
вой. — Извините. Кондиционер проклятый… А без него вообще смерть! — заключил мрачно. — О чем, бишь,
мы? Ах, да… — сморщился, прислушиваясь к себе, видимо, чувствовал приближение нового чиха.— Ну хотя бы неделю… — он предложил неуверенно.
Рука главного редактора пошарила в столе. Не обнаружив ничего похожего на платок, редактор нажал на
кнопку. В дверях появилась секретарша.— Наташа, у нас есть салфетки?
— Не знаю, Виктор Петрович. Сейчас проверю.
Оглядев стол, заваленный рукописями, редактор
вернулся к теме разговора:— И что это даст?
— Как — что? — он старался говорить настойчиво.
— Тем самым мы избежим ошибок, не введем в заблуждение читателей.
Секретарша явилась снова:
— Салфеток нету. Только это, — протянула рулон
туалетной бумаги. — Хотите, схожу в магазин.— Не надо. Идите работайте, — главный редактор
отмотал и с удовольствием высморкался. — Я так и не
понял: что это даст?Он попытался объяснить:
— Нельзя идти поперек смысла. В конце концов, мы
живем в двадцать первом веке. У любого мало-мальски
образованного читателя возникнут претензии. Мы
обязаны хоть как-то соответствовать…Собеседник, мучимый насморком, слушал невнимательно.
— При чем тут образованные? Серия изначально
рассчитана на… — видимо, затруднившись с точным
определением, редактор понизил голос. — О, господи!
А-апчхи!— Будьте здоровы, — он откликнулся вежливо и обежал глазами стены. На задней, под портретами правящего тандема — они, в свою очередь, располагались под
иконой Богородицы, — висели фирменные календари.
Их выпускали ежегодно в представительских целях.
Правую стену — еще недавно, кажется, года три назад,
она пустовала — украшали старые плакаты с логотипом
прежнего издательства, на фундаменте которого выросло нынешнее. После ремонта кабинет главного редактора оформили в ностальгическом ключе. — Вы
должны понять и меня. Переводчик не имеет права нести отсебятину. Его задача — довести до читателя
именно то, что автор имел в виду. Иначе… — он придал
голосу оттенок серьезности, — может возникнуть скандал. Международный.— Лишь бы не внутренний, — его собеседник оттопырил большой палец, но ткнул не в икону и даже не
в портреты, а куда-то в угол, где висел выцветший плакат. Напрягая глаза, он разобрал цифры: 1975. — С заграницей мы как-нибудь справимся. Нехай клевещут.
Нам, как говорится, не привыкать.— Но ведь… Есть же права автора, — он покосился
на телефон, будто ожидая, что автор или его агент,
узнав о существе спора, каким-то чудом объявятся —
позвонят.Судя по тому, что главный редактор сморщился,
мысль о защите прав иностранного автора не показалась ему конструктивной:— Кто он нам, этот ваш автор? Может, он вообще
умер.— Но я-то?.. Дело и во мне, — он хотел объяснить,
что переводчик является полномочным представителем автора в той культуре, на языке которой он делает
свою работу.Но главный редактор его не слушал:
— Этот ваш… как его… — он щелкнул пальцами,
вспоминая имя. — Не Стейнбек. Не Йэн Макьюэн…
И даже, господи прости, не Бэнкс. Мне казалось, уж
вы-то, с вашей квалификацией, как никто понимаете. Мы выпускаем чтиво. Вто-ро-сорт-ное… — выговорил четко. — Так что поверьте мне: не надо мудрить.Слово, произнесенное по слогам, впилось жалом
в сердце:— Я работаю добросовестно. Свою работу я подписываю собственным именем, так что если я, как переводчик, полагаю…
— Не хотите — не подписывайте, — редактор нехорошо усмехнулся. — Желающих тьма. На ваше место.
Стоит только свистнуть.Он растерялся, неловко встал и направился к двери,
обостренно чувствуя за спиной шуршание туалетной
бумаги. Потом шуршание оборвалось.На другой день редактор, конечно, позвонил. Смущенно сопел в трубку, ссылался на головную боль: вы
же видели, в каком я был состоянии. Когда человек просит прощения, несправедливо не простить.— Я хотел… — все-таки он решил воспользоваться
моментом. — Есть одна книга, я думал предложить издательству…— Предлóжите, конечно, предлóжите. Но позже,
когда закончите эту работу. Тогда и поговорим, — редактор попрощался и положил трубку.Этот разговор он начинал не в первый раз. Раньше
редактор внимательно выслушивал его предложения,
просил подождать: «Поймите, редакция переживает
трудные времена. Еще несколько убойных книг, и у нас
появится возможность выбора. В смысле, у вас. Выберете сами. Обещаю: издам. Даю слово. Надеюсь, вы
мне верите?»Конечно, он верил. А что оставалось? Тем более начальство можно понять: первые четыре книги серии
вышли в свет через равные промежутки: раз в квартал. Если затянуть с пятой, внимание читателей может переключиться на другие серии, с которыми работают конкуренты. Такие истории случались и раньше. В этих обстоятельствах главный редактор всегда
обращался к нему, говорил: на вас вся надежда, счет
идет на дни, кроме вас в такие сроки никто не уложится, и разные другие слова, которые даже профессионалу его уровня редко приходится слышать. Отказать не хватало духу. Однако разговор, в котором редактор упомянул про второсортное чтиво, что-то
изменил.Пишущая машинка блеснула клавишами.
Отвечая на ее улыбку, он погладил каретку: «Ладно,
мир…»Команда космического корабля собиралась к ужину. Эти ежевечерние трапезы он назвал летучками.
Импонировала игра слов: в помещение, отведенное
для этой цели, участники действительно влетали.
Главное блюдо — его подавали в красивом расписном
сосуде, чем-то похожем на канистру, во всяком случае, верхняя крышечка откручивалась, — было приготовлено из овощей.Пожав плечами: овощи на космическом корабле?
Интересно, как их там выращивают? — двинулся дальше. Обвив подлокотники зеленоватыми щупальцами,
астронавты расселись и приступили к трапезе. Больше
не отвлекаясь на посторонние мысли, он закончил вторую главу.Под стропилами собирался душный воздух. Он
поднял глаза, представляя себе невидимое солнце.
Раскаленные лучи били по крыше прямой наводкой.Встал, распахнул оконные створки. Высокие корабельные сосны стояли в двух шагах. Солнечный свет
заливал вершины, оставляя в тени подлесок. Только теперь заметил: березы начали желтеть. «Конец июля…
Рановато. Обычно желтеют в августе».Сел, подперев ладонью щеку: «Второсортное…
второсортное, — проклятое слово впечаталось в память. Как след в мокрый песок. — Можно ли оставаться хорошим переводчиком, если переводишь всякую ерунду?..»Ты стал прекрасным переводчиком.
«Во всяком случае, если сравнивать с молодыми…»
Время от времени наведывался в книжные магазины.
Не покупал — пролистывал. Чтобы отловить очевидные глупости, хватало пары минут. Конечно, встретимся, — без убеждения повторил Джон. Или вот: Задумчивые глаза Ифигении грезили среди травы. Так и
видишь глазные яблоки, самочинно выпавшие из подобающих им впадин, чтобы покататься в траве. Вот, тоже симпатично: негнущийся маятник. Любопытно
взглянуть на маятник, который гнется, будто помахивает хвостом. Рядом с этим какое-нибудь Исчез по направлению к лесу смотрелось образчиком стиля.«А все потому, что ни вкуса, ни школы», — он выпрямился в кресле и покачал головой.
Обычно лингвистическая терапия действовала.
Сегодня — нет.
Алексей Варламов. Мысленный волк
- Алексей Варламов. Мысленный волк. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014. — 512 с.
Действие нового романа лауреата нескольких литературных премий, постоянного автора серии «ЖЗЛ» Алексея Варламова происходит с лета 1914-го по зиму 1918-го. В героях «Мысленного волка» угадываются известные личности (Григорий Распутин, Василий Розанов, Михаил Пришвин и другие), происходят события реальные и вымышленные. Персонажи романа философствуют и спорят о природе русского человека, вседозволенности, Ницше и будущем страны. По словам писателя, «не было бы Варламова-прозаика, не было бы и биографа». Надо сказать, работать на славу ему удается в обоих литературных направлениях.
Часть I
ОХОТНИК1 Больше всего на свете Уля любила ночное небо и сильный в нем ветер. В ветреном черном пространстве она во сне бежала, легко отталкиваясь ногами от травы, без устали и не сбивая дыхания, но не потому, что в те минуты росла — она невысокая была и телосложением хрупкая, — а потому что умела бежать, — что-то происходило с тонким девичьим телом, отчего оно отрывалось от земли, и Уля физически этот полубег-полулет ощущала и переход к нему кожей запоминала, когда из яви в сон не проваливалась, но разгонялась, взмывала, и воздух несколько мгновений держал ее, как вода. А бежала она до тех пор, пока сон не истончался и ее не охватывал ужас, что она споткнется, упадет и никогда больше бежать не сможет. Тайный страх обезножеть истязал девочку, врываясь в ее ночные сны, и оставлял лишь летом, когда Уля уезжала в деревню Высокие Горбунки на реке Шеломи и ходила по тамошним лесным и полевым дорогам, сгорая до черноты и сжигая в жарком воздухе томившие ее дары и кошмары. А больше ничего не боялась — ни темноты, ни молний, ни таинственных ночных всполохов, ни больших жуков, ни бесшумных птиц, ни ос, ни змей, ни мышей, ни резких лесных звуков, похожих на взрыв лопнувшей тетивы. Горожанка, она была равнодушна к укусам комаров и мошки, никогда не простужалась, в какой бы холодной речной воде ни купалась и сколько б ни мокла под августовскими дождями. Холмистая местность с островами лесов среди болот — гривами, как их тут называли, — с лесными озерами, ручьями и заливными лугами одновременно успокаивала и будоражила ее, и, если б от Ули зависело, она бы здесь жила и жила, никогда не возвращаясь в сырой, рассеченный короткой широкой рекой и изрезанный узкими кривыми каналами Петербург с его грязными домами, извозчиками, конками, лавками и испарениями человеческих тел. Но отец ее, Василий Христофорович Комиссаров, выезжал в Высокие Горбунки только летом, ибо остальное время работал механиком на Обуховском заводе и в деревне так скучал по машинам, что почти все время занимался починкой нехитрых крестьянских механизмов. Денег с хозяев за работу он не брал, зато на завтрак всегда кушал свежие яйца, молоко, масло, сметану и овощи, отчего болезненное, землистое лицо его молодело, лоснилось, становилось румяным и еще более толстым, крепкие зубы очищались от желтого налета, а азиатские глазки сужались и довольно смотрели из-под набрякших век. На горбунковских мужиков этот хитрый опухший взгляд действовал столь загадочным образом, что они по одному приходили к механику советоваться насчет земли и хуторов, но об этом Василий Христофорович сказать не умел, однако мужикам все равно казалось, что петербургский барин что-то знает, но утаивает, и гадали, чем бы его к себе расположить и неизвестное им выведать.
Иногда, к неудовольствию молодой жены, Комиссаров ходил на охоту вместе с Павлом Матвеевичем Легкобытовым, надменным нервозным господином, похожим чернявой всклокоченностью не то на цыгана, не то на еврея. Легкобытов по первой профессии был агрономом, но на этой ниве ничего не взрастил, если не считать небольшой книги про разведение чеснока, и заделался сначала журналистом, а потом маленьким писателем, жил в деревне круглый год, арендуя охотничьи угодья у местного помещика князя Люпы — загадочного старика, которого никогда не видел, потому что у Люпы была аллергия на дневной свет и на людские лица, за исключением одного — своего управляющего. Про них двоих говорили дурное, но Легкобытов в эти слухи не вникал, он был человек душевно и телесно здоровый, с удовольствием охотился в прозрачных сосновых и темных еловых лесах, натаскивал собак, писал рассказы и в город ездил только за тем, чтобы пристраивать по редакциям рукописи да получать гонорары по двадцать копеек за строчку. Журналы его сочинения охотно брали, критика их то лениво бранила, то снисходительно хвалила, а механик Комиссаров любил своего товарища слушать и был у Павла Матвеевича первым читателем и почитателем. Однажды он даже привез сочинителю из Германии в подарок велосипед, на котором Легкобытов лихо разъезжал по местным дорогам, вызывая зависть мальчишек и ярость деревенских собак. На первых он не обращал внимания, а от вторых отбивался отработанным приемом: когда пес намеревался схватить его за штанину, велосипедист резко тормозил, и животное получало удар каблуком в нижнюю челюсть. Но столь жестоко Павел Матвеевич относился только к чужим псам, в своих же охотничьих собаках души не чаял, ценил их за ум, выносливость и вязкость и дивные давал имена — Ярик, Карай, Флейта, Соловей, Пальма, Нерль, а у иных было и по два имени: одно для охоты, другое для дома. Однажды купил гончую по имени Гончар и переименовал в Анчара. Он был вообще человек поэтический, хоть и казался грубым и резким.
После стычек с невоспитанными сельскими псинами штаны у Легкобытова оказывались порванными и их зашивала красивая, дородная и строгая крестьянка Пелагея, которая всюду за Павлом Матвеевичем следовала. Помимо охотничьих собак у них было трое детей: младшие — общие, такие же цыганистые и плотные, как их отец, а старший — белесый, худощавый, синеглазый, с длинными девичьими ресницами и пухлыми губами, — Алеша, был Пелагеиным сыном от другого человека. Павел Матвеевич пасынка не слишком жаловал, и не потому, что Алеша был ему по крови чужой, а потому, что относился к детям равнодушно и занимался в жизни только тем, что ему нравилось. А что не нравилось — отметал и в голове не держал.
Уля же с Алешей часто играла и очень его жалела. Оттого что сама она росла с мачехой, ей все время казалось, будто бы Алешу обижают в семье и даже занятая хозяйством мать относится хуже, чем к младшим сыновьям. Уля с детства таскала для своего товарища из дома лакомства и, перенимая крестьянскую печаль, во все глаза смотрела, как Алеша уплетает гостинцы, хотя впрок печенья и конфеты ему не шли и кости все равно выпирали из загорелого мальчишеского тела, а нежное лицо оставалось всегда трагически готовым к обиде. Однажды Уля накопила денег и купила ему нарядную рубашку, но Алеша смутился, потому что надеть обновку ему было некуда, а как объяснить матери, откуда рубашка взялась, он не знал.
— Не нравится? — истолковала по-своему его смущение Уля.
— Велика, — не соврал он, потому что с размером Уля и в самом деле ошиблась, и спрятал рубашку в овине подальше от чужих глаз, но зоркая Пелагея ее нашла.
Она выслушала Алешины спутанные объяснения, однако ругать сына не стала, а как-то странно хмыкнула, и обыкновенно сухие, прищуренные глаза ее помутнели и сузились, не давая выходу той судорожной материнской любви, которую Пелагея в себе носила, но о которой ни Павел Матвеевич, ни Уля не догадывались. Павел Матвеевич по самонадеянности, а Уля если во что уверовала, то переубедить ее не было никакой возможности. И Алеша с нею не спорил, а делал все, как она велела, — качался до головокружения на гигантских шагах, устроенных механиком, плавал на лодке-плоскодонке, учил свою подружку ловить рыбу и раков, которых они варили на костре, и, тараща глаза — ему спать хотелось, потому что утром вставать ни свет ни заря, — слушал Улины сказки про трехглазых людей, которым третий глаз дан для того, чтобы не видеть обыденного и прозревать сокровенное, и Уля верила, что у нее этот глаз есть, но еще пока не открылся.
— А чтобы глаз открылся, — говорила Уля Алеше чужим голосом, — надо делать особенные упражнения. Хочешь, научу?
— Хочу, — отвечал Алеша, и Уля чувствовала, как по ее позвоночнику от шеи до пояса пробегает легкий озноб.
Она невзначай касалась Алеши и тотчас отдергивала руку:
— А ты отчего в школу не ходишь?
— Зачем мне? Я и так все, что мне надо, умею и знаю. Читать умею, писать, знаю счет. Для чего мне лишнее?
— Это не лишнее, — возражала Уля, наблюдая за тем, как лихо Алеша делает рачницу, обвязывая сеткой ивовый прут и прикрепляя к центру камень с тухлой рыбой, а сама думала: «А правда, что толку, что он знал бы кучу ненужных вещей, которые знаю я?» Она вспоминала воспитанных петербургских мальчиков, с которыми бывала вместе на детских утренниках и елках: «Окажись они здесь, то пропали бы, не знали бы, как меня укрыть, а с Алешей ничего не страшно».
Страшно было только однажды, когда под вечер вытаскивали из реки перемет и после лещей, язей, налимов увидели на предпоследнем крючке человеческий нос, от которого шел резкий запах. Уля закричала, затряслась, Алеша побледнел, поднял голову и, ни слова не говоря, показал пальцем на реку. На самой ее середине, медленно вращаясь, плыл на спине человек в шубе, брюках и валенках. Лицо у утопленника было белое, обезображенное, волосы тоже белые, спутанные.
— Это мы его… переметом зацепили.
— Надо взрослым сказать.
— Не надо, пусть плывет куда плывет. А мы ничего не видали. Зимой управляющий князя Люпы пропал. Поехал с утра на станцию, а вечером лошадь пришла с пустыми санями. Мужики его, говорят, убили.
— За что?
— Немец был. Нитщ. А князь запил и от тоски вслед за ним помер. А перед тем наказал выставить на похоронах три ведра самогону, напоить всех, и чтобы на поминках до упаду плясали и плакать не смели.
Уля втянула голову в плечи и посмотрела по сторонам. Но ничего особенного не происходило: виднелись вдали темные деревенские избы с растрескавшимися бревнами и нарядными окнами, цвели луга, пели птицы и шли по полю загорелые, уверенные в себе женщины в узорчатых платках. Ничто не могло эту мирную картину порушить, и только отец, когда читал газеты, говорил странное, тревожное, иногда ему присылали телеграммы, от которых он смурнел, но Уля в эту сторону его жизни не вникала. Когда мачехи не было рядом, ей хотелось прижаться к нему, почувствовать родной запах и сладко заплакать, но отец в те минуты, когда она к нему ластилась, становился беспомощным, деревенел, пугался, и это останавливало ее и будило мысли мутные, тяжкие: «А может, и он мне неродной? Может быть, я вовсе подкидыш, сирота? И у меня были другие родители?»
Дни стояли долгие, не по-северному сухие, безветренные, жаркие. Жирное, студенистое солнце поднималось над горизонтом и лениво плыло по белесому небу, обжигая и суша кожу земли. Уля ждала вечера, тех часов, когда деревья начнут отбрасывать долгие тени, которые постепенно размывались, смешивались с сумерками, и все холмистое пространство слабо озарялось прохладной луной. Чем ближе было полнолуние, тем сильнее волновалась в ней кровь. Она знала, что такою ночью будет бежать, была возбуждена и тормошила худого большеголового Алешу, но взять его с собой не могла, а он смотрел на нее двумя грустными прищуренными глазами и, как умная собака, чуял ее недолгую судьбу.
Под вечер возвращались охотники. Измученный, мокрый от пота, грузный механик едва волочил стертые ноги и надсадно дышал, а жилистый, неутомимый Павел Матвеевич был бодр, будто не по лесам и болотам вдоль Шеломи шарашил, а сидел весь день в тени в парусиновых креслах и читал модного иностранного писателя Гамсуна вперемежку с иллюстрированным журналом «Нива», как это делала Вера Константиновна Комиссарова, жена механика, высокая, крупная женщина с тяжелыми медными волосами, относившаяся к Легкобытову с такой насмешливостью и подчеркнутым презрением, что даже Уле становилось неловко. Однако охотник невежливости не замечал или придавал женским уколам значение не большее, чем лаю деревенского беспородного пса. Веру Константиновну его снисходительность и пренебрежительность еще пуще злили и красили. За что именно мачеха своего деревенского соседа презирала, наблюдательная Уля уразуметь не могла — то ли за простонародную хозяйку с ее курами и козами, то ли за то, что Павел Матвеевич ничем своей бабе не помогал, а лишь пользовался ее трудами и услугами: она даже портянки ему наматывала, он так и не научился, зато был высокомерен сверх меры, воображал себя знаменитостью и, когда приезжал в Петербург, вечерами ходил на религиозные собрания в философский клуб для интеллигентов, а ночами водил дружбу с темными и страшными людьми — сектантами-чевреками. Об этих сектантах он вполголоса рассказывал, что есть у них главный человек — Исидор Щетинкин, бывший ученый иеромонах, бывший черносотенец, оратор и миссионер, которому чевреки поклоняются как богу, а он заставляет женщин делать с ним половые мерзости.
— Они все там бывшие.
— Это как? — недоумевал механик Комиссаров.
— Родители, когда их дети становятся совершеннолетними, от них отрекаются и говорят: мой бывший сын или моя бывшая дочь. А дети — моя бывшая мать или бывший отец.
Все это было и страшно, и непонятно, но странным образом сильный, кряжистый Легкобытов с его черной с проседью бородой и крючковатым носом Улю то пугал, а то завораживал, и она старалась почаще попадаться ему на глаза, хоть и боялась красивой Пелагеи.
Павел же Матвеевич был с девочкой ласково-равнодушен, но при этом не слишком внимателен. Однажды только поинтересовался на ходу высоким, мальчишеским голосом, совсем не подходившим к его диковатому лесному облику:
— Что это вы читаете, милая барышня?
— «Антоновские яблоки», сочинение господина академика Бунина, — сказала она примерно и сделала глубокий книксен.
— А-а, соседушка… — Мягкие губы презрительно дернулись и приоткрыли коричневые зубы. — Однокашничек.
— Вы с ним учились? — спросила Уля благоговейно.
— Вот уж, слава богу, не довелось. Его прежде меня из гимназии выставили.
— За что?
— За неспособность к наукам, надо полагать. А чего с малокровного дворянского сынка взять?
— Вы-то кто тогда? — побелела от обиды Уля.
— Я — сын лавочника и радостный пан.
Пелагея Ивановна разделывала подстреленную птицу, бросая потроха собакам, и казалось, что-то насмешливое было в движении ее бесстрастных, больших, никогда не замиравших в работе рук. Тихо стрекотали кузнечики, мужчины пили водку, но немного — Улин папа пить не любил, а мнительный Павел Матвеевич любил очень, но еще больше боялся спиться подобно своему отцу-алкоголику, и, сидя в глубине террасы, Уля слушала, как Легкобытов рассказывает историю своей первой любви.
Кейт Аткинсон. Музей моих тайн
- Кейт Аткинсон. Музей моих тайн. — СПб.: Азбука-Аттикус, Иностранка, 2014. — 448 с.
Впервые на русском — дебютный роман Кейт Аткинсон, автора цикла романов о частном детективе Джексоне Броуди.
Когда Руби Леннокс появилась на свет, отец ее сидел в пивной «Гончая и заяц», рассказывая женщине в изумрудно-зеленом платье, что не женат. Теперь Руби живет в тени йоркского собора, в квартирке над родительским зоомагазином, и пытается разобраться в запутанной истории четырех поколений своей семьи. Отыскивая дорогу в лабиринте рождений и смертей, тайн и обманов, девочка твердит себе: «Меня зовут Руби. Я драгоценный рубин. Я капля крови. Я Руби Леннокс».
Нелл ничего не сказала — она думала о том, как
грустно было бы матери Перси, будь она сейчас здесь,
при виде троих его товарищей, что едут веселиться
в Скарборо. Ведь Перси уже не может с ними поехать.Нелл не знала — может, она никогда по-настоящему не любила Перси, а может, просто забыла, каково
было его любить. В любом случае теперь ей казалось,
что она никогда в жизни ни к кому не испытывала
таких чувств, как сейчас к Джеку. От одной мысли о
нем ее бросало в жар, и она с новой силой осознавала, что живет на свете. Каждую ночь она молилась,
чтобы ей хватило сил устоять перед ним до свадьбы.Она продолжала навещать мать Перси, но перенесла свои визиты с пятницы на понедельник, потому
что в пятницу вечером теперь гуляла с Джеком. Она
не говорила миссис Сиврайт, что полюбила другого:
ведь еще года не прошло, как Перси умер, и они продолжали беседовать о нем за бесконечными чашками
чаю, но теперь — скорее о выдуманном человеке, чем
о том, кто когда-то был плотью и кровью. И на снимок
футбольной команды Нелл смотрела виновато: теперь
ее взгляд проскальзывал по безжизненному лицу Перси и останавливался на дерзкой улыбке Джека.На фронт первым пошел Альберт. Он сказал сестрам, что это будет «весело» и он «хоть мир повидает».
«Повидаешь ты разве что кусок Бельгии», — саркастически сказал Джек, но Альберта уже ничто не могло сбить с пути, и они едва успели с ним попрощаться,
как его уже отправили в Фулфордские казармы, где
зачислили в Первый Йоркширский полк и преобразили из машиниста поезда в артиллериста. Но все же
они все сфотографировались — это была идея Тома.
«Всей семьей», — сказал он. Может, у него было предчувствие, что другого раза не будет. У Тома был друг,
некий мистер Мэтток, страстный фотограф, он пришел
как-то в солнечный день и расположил всю семью на
заднем дворе: Рейчел, Лилиан и Нелл сидели на свежепочиненной скамье, Том стоял позади них, а Альберт присел на корточки посредине, на переднем плане, у ног Рейчел, совсем как Джек на той футбольной
фотографии. Том сказал — очень жаль, что Лоуренса
с ними нет, а Рейчел ответила: «Почем мы знаем, может, он умер». Если пристально вглядеться в фотографию, можно увидеть клематис — он вьется по верху
стены, словно гирлянда.Фрэнк завербовался в армию в тот день, когда Альберта везли через Ла-Манш. Фрэнк знал, что он трус,
и боялся, что об этом догадаются другие люди, и поэтому решил пойти на фронт как можно скорее, пока
ни кто не заметил. Он так боялся, что рука, подписывающая документы, дрожала, и сержант-вербовщик,
смеясь, сказал:— Надеюсь, когда придет пора стрелять во фрицев, у тебя рука потверже будет.
Джек стоял в очереди вместе с Фрэнком. Ему совершенно не хотелось идти воевать — про себя он считал войну бессмысленным делом, но не мог отпустить
Фрэнка одного, так что пошел вместе с ним и подписал бумаги шикарным росчерком.— Молодец, — сказал сержант.
Лилиан и Нелл пошли на вокзал провожать парней, но на увешанную гирляндами платформу набилось столько народу, что девушкам удалось увидеть
Фрэнка лишь мельком, в последнюю минуту, — он
махал рукой в пустоту из окна вагона, пока состав
выезжал через широкие арочные, как у собора, своды
вокзала. Нелл чуть не заплакала от разочарования —
она так и не углядела Джека среди размахивающей
флагами и нагруженной вещмешками толпы и радовалась только, что отдала ему счастливую кроличью
лапку накануне вечером, во время нежного прощанья.
Она тогда вцепилась ему в руку и заплакала, и Рейчел
с отвращением буркнула:— Прекрати шуметь, — и сунула ей в руку кроличью лапку. — На вот талисман для него.
Джек расхохотался и сказал:
— Их бы надо включить в стандартное снаряжение, а? — и запихнул лапку в карман куртки.
Они в жизни не получали столько писем, сколько
сейчас от Альберта, бодрых писем о том, какие в полку отличные ребята и как им тут не дают скучать.— Он пишет, что соскучился по домашней еде
и что уже немного освоил военный язык, — читала
Лилиан вслух для Рейчел, потому что Рейчел он не
написал ни строчки, хоть она и рассказывала направо
и налево, что ее «сын» ушел на фронт одним из первых в районе Гровз; Лилиан и Нелл этому очень удивлялись, потому что Рейчел недолюбливала всех своих
приемных детей, но Альберта не любила сильнее всех.Нелл, конечно, получала письма от Джека, не такие бодрые, как от Альберта, и не такие длинные; правду сказать, Джек был не ахти какой писатель и обычно ограничивался фразой «Я думаю о тебе, спасибо,
что ты мне пишешь», крупным корявым почерком.
Девушки даже от Фрэнка получали письма, что было
вполне естественно. «Ему же вовсе некому больше писать, кроме нас», — сказала Нелл. Его письма были
самые лучшие, потому что он рассказывал смешные
маленькие подробности о своих однополчанах и их
еже дневном распорядке, так что девушки даже иногда смеялись, разбирая его забавные угловатые каракули. Как ни странно, никто из троих — ни Фрэнк,
ни Джек, ни Альберт — не писал собственно о войне;
битвы и стычки словно происходили отдельно от них,
сами собой.— Битва за Ипр уже кончилась, и мы все очень
рады, — загадочно выразился Альберт.Нелл и Лилиан тратили много времени на ответные письма: каждый вечер они садились в гостиной,
под лампой в абажуре с бисерной бахромой, и либо
вязали одеяла для бельгийских беженцев, либо писали письма на особой, специально купленной сиреневой бумаге. У Лилиан появилось непонятное пристрастие к почтовым открыткам с меланхоличными
сюжетами. Она покупала их целыми наборами (под
названиями вроде «Прощальный поцелуй») и посылала без разбору всем троим солдатам, так что в итоге
ни у кого из них не оказалось ни одного полного
комплекта. А еще надо было слать посылки — с мятными леденцами, вязаными шерстяными шарфами
и 10 ½-пенсовыми жестянками антисептического порошка для ног, который покупали у Ковердейла на
Парламент-стрит. А по воскресеньям они часто ходили пешком до самой Лимен-роуд, чтобы поглазеть на
концентрационный лагерь для иностранцев. Лилиан
очень жалела заключенных в лагере и потому брала
с собой яблоки и швыряла их через забор. «Они точно такие же люди, как мы», — сочувственно говорила
она. Нелл решила, что Лилиан, видимо, права, посколь ку одним из заключенных в лагере был Макс
Брешнер, их мясник с Хаксби-роуд. Странно было,
что они носят яблоки врагам, которые пытаются убить
их собственного брата, но Макс Брешнер, которому
было все шестьдесят и который не мог пройти нескольких шагов без одышки, не очень-то походил на врага.Первым из всех их знакомых пришел на побывку
с фронта Билл Монро, житель Эмеральд-стрит. За
ним — парень с Парк-Гров-стрит и другой с Элдон-
террас. Это казалось очень нечестным, потому что Альберт ушел на фронт самым первым. Однажды поднялся шум: Билл Монро отказался возвращаться на
фронт, когда вышел его отпуск, и за ним послали военную полицию. Его мать подперла парадную дверь
ручкой от метлы, и военной полиции пришлось убрать
даму с дороги — они просто вдвоем подняли ее под
локти и отнесли в сторону. Нелл, которая в это время
как раз шла с работы по Эмеральд-стрит, вспомнила
сцену на похоронах Перси.И тут же испытала второе потрясение при виде
полицейского — из обычной, не военной полиции. Ей
вдруг показалось, что это Перси. На краткий нелепый миг она испугалась, что он сейчас подойдет к ней
и спросит, почему у нее на руке колечко с жемчугом
и гранатами, а не другое, с сапфировой крошкой, которое подарил ей он. То кольцо теперь лежало, завернутое в папиросную бумагу, в дальнем углу ящика
комода.Билла Монро в конце концов уволокли, и Нелл не
стала задерживаться. Ей было стыдно за него, потому
что она увидела страх у него на лице и думала теперь,
как отвратительно быть таким трусом. И как непатриотично. Ее очень удивило, что к миссис Монро, которая
все еще ярилась, орала и плакала у себя на крыльце,
пришло так много женщин — сказать ей, что она поступила совершенно правильно.Фрэнк пришел на побывку после второй битвы за
Ипр: он лежал в госпитале в Саутпорте с заражением
крови из-за раны на ноге, и ему дали несколько дней
отпуска перед отправкой на фронт. Очень странно —
до войны они его едва знали, а теперь он казался старым другом. Когда он постучал в заднюю дверь, Лилиан и Нелл бросились его обнимать, а потом заставили
выпить с ними чаю. Нелл побежала и достала селедку, Лилиан стала резать хлеб, и даже Рейчел спросила,
как Фрэнк поживает. Но когда они расселись вокруг
стола и стали пить чай из лучшего сервиза — с золотыми каемочками и голубыми незабудочками, —
Фрэнк обнаружил, что не может выдавить из себя ни
слова. Он хотел рассказать им кучу всего о войне, но,
к своему удивлению, понял, что аккуратные треугольнички хлеба с вареньем и хорошенькие голубые незабудочки сервиза каким-то образом мешают ему говорить о «траншейной стопе» и крысах, а тем более о
множестве разных способов умирания, которые ему
довелось наблюдать. Запаху смерти явно нечего было
делать в гостиной на Лоутер-стрит, с белоснежной скатертью на столе и лампой под абажуром с бисерной
бахромой, в обществе двух сестер с такими прекрасными, мягкими волосами, в которые Фрэнку безумно
хотелось зарыться лицом. Он думал все это, жуя бутерброд и отчаянно ища темы для разговора, и наконец нервно сглотнул среди всех этих золотых каемок
и незабудок и сказал:— Вот это отличный чай, а посмотрели бы вы, что
мы пьем.И рассказал им про хлорированную воду в окопах.
Но увидел ужас у них на лицах и устыдился, что когда-то хотел говорить с ними о смерти.Они в свою очередь рассказали ему про Билли
Монро, и он возмущался в нужных местах, но про себя мечтал, чтобы и у него была такая мать, которая
как-нибудь — как угодно — не дала бы ему вернуться
на фронт. Он знал, что, вернувшись туда, погибнет. Он
вежливо слушал девушек, пока они описывали ему
свои повседневные занятия, показывали вязание —
они перешли с одеял для бельгийцев на носки для
солдат. Нелл рассказала про свою новую работу, на
фабрике солдатского обмундирования, — ее только что
сделали бригадиром, потому что у нее есть опыт работы со шляпами, а Лилиан теперь кондуктор в трамвае, и тут Фрэнк поднял брови и воскликнул: «Не
может быть!» — потому что не мог представить себе
женщину-кондуктора, и Лилиан захихикала. Сестры
были слишком живые, и война не смогла проникнуть
в разговор — конечно, за исключением того, что Джек
здоров и передает привет и что Альберта они совсем
не видят, но ему гораздо безопасней за большими
пушками в артиллерии, чем было бы в окопах.Но Рейчел, сидевшая жабой в углу, вдруг заговорила:
— Ужасно, должно быть, в этих окопах.
Фрэнк пожал плечами, улыбнулся и ответил:
— Там не так уж плохо на самом деле, миссис Баркер, — и отхлебнул из чашки с незабудочками.
Большую часть отпуска Фрэнк провел с Нелл,
Лилиан или обеими сразу. Он сводил Нелли в мюзикхолл в театр «Эмпайр», а Лилиан повела его на собрание в Образовательное общество, но там говорили о
слишком сложных для него вещах. Там были сплошные квакеры, сознательные отказники и социалисты,
и все они твердили, что войну надо кончить путем переговоров. Фрэнк решил, что они просто трусы, и был
рад, что он в солдатской форме. «Может, тебе не стоит
якшаться с такими людьми?» — спросил он у Лилиан
на обратном пути, а она только засмеялась, посмотрела на него и воскликнула: «Фрэнк!» Гораздо приятней
было, когда они все втроем пошли смотреть «Джейн
Шор» в «Новом кинотеатре» на Кони-стрит — он только открылся и оказался просто потрясающим, огромным, с тысячей откидных сидений в зале.Когда Фрэнку пришла пора возвращаться на фронт,
он чувствовал себя еще хуже, чем когда уходил туда
первый раз. Ему невыносимо было оставить Нелл и Лилиан.
Фэнни Флэгг. На бензоколонке только девушки
- Фэнни Флэгг. На бензоколонке только девушки / Пер. с англ. Ш. Мартыновой. — М.: Фантом Пресс, 2014. — 416 с.
Плодовитая американская писательница Фэнни Флэгг, известная книгой «Жареные зеленые помидоры», неустанно пишет один текст за другим. Их незамысловатые оптимистичные сюжеты отлично сгодятся для летнего чтения. В новом романе Флэгг «На бензоколонке только девушки» описывает двадцатый век в пяти поколениях, от сумрачной предвоенной Польши до томной Алабамы наших дней: героические женщины-летчицы и простые домохозяйки, связанные одной судьбой и историей.
ПУЛАСКИ, ВИСКОНСИН
28 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Скажи мне кто-нибудь пару лет назад,
что я окажусь на этой сходке,
ни за что бы не поверила…
Но вот поди ж ты!
Миссис Эрл Пул-мл.Пролог
НАЧАЛО
ЛЬВОВ, ПОЛЬША
1 АПРЕЛЯ 1909 ГОДАГод 1908-й. Станислав Людвик Юрдабралински, высокий костлявый мальчик четырнадцати лет, смотрел в будущее нерешительно. Жизнь в Польше под русским владычеством была беспросветна и опасна. Польских мужчин и юношей забривали в царскую армию, а католиков и их священников сажали в тюрьму за антироссийские настроения, пытаясь таким манером подорвать польское единство. Костелы позакрывали, а отца и троих дядьев Станислава отправили на каторгу за говорливость.
Но старший брат Венцент, сбежавший из Польши пятью годами раньше, поддержал Станислава, и тот добрался до Нью-Йорка — совершенно ни с чем, если не считать скверно скроенного шерстяного костюма, фотографии матери с сестрами и обещанной работы. Ему удалось сесть в товарняк — помог один польский портовый грузчик, с которым они подружились на корабле.
Через пять дней Станислав прибыл к братнину порогу в Чикаго, восторженный и готовый начать новую жизнь. Ему рассказывали, что в Америке, если много трудиться, получится все, что хочешь.
НЕОБЫЧАЙНАЯ НЕДЕЛЯ
ПОЙНТ-КЛИЭР, АЛАБАМА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ 2005 ГОДА
76 °F, СОЛНЕЧНОМиссис Эрл Пул-мл., среди друзей и родственников более известная как Сьюки, ехала домой из магазина «ПтицыНам», что на трассе 98, с одним десятифунтовым мешком подсолнечных семечек и одним десятифунтовым — семян для диких птиц, а также с необычным для ее еженедельных закупок последние пятнадцать лет двадцатифунтовым мешком «Смеси подсолнечника и семян для диких птиц „Симпатяга“». С мистером Нэдлшафтом она поделилась беспокойством: ей кажется, что мелкие птицы по-прежнему недоедают. Последнее время каждое утро, стоило ей наполнить кормушки, как большие, воинственные синие сойки налетали сразу и распугивали малышей.
Она заметила, что синие сойки сначала всегда выклевывают подсолнечник, и потому назавтра решила засыпать в кормушки на заднем дворе только его, и, пока синие сойки будут им заняты, она пулей обежит дом и наполнит кормушки перед крыльцом смесью. Тогда бедняжкам вьюркам и синицам уже наконец достанется хоть что-то.
Проезжая по мосту через бухту Мобил, она глянула на белые пухлые облака, увидала длинную вереницу летевших над водой пеликанов. Залив сиял под ярким солнцем, его уже испещрили вышедшие в море красные, белые и синие яхты. Несколько рыбаков на мосту помахали ей, она улыбнулась и помахала в ответ. Почти добравшись до съезда с моста, она вдруг почувствовала некую смутную и необычную радость бытия. И на то были причины.
Несмотря ни на что, она пережила последнюю из трех свадеб своих дочерей — Ди Ди, Си Си и Ли Ли. Не вступил в брак только двадцатипятилетний сын Картер, обитавший в Атланте. Это радостное событие будет планировать другая несчастная (господи, помоги ей) загнанная мать невесты. От них с Эрлом потребуется только явиться на торжество и улыбаться. А сегодня, кроме краткого заезда в банк и покупки пары свиных отбивных к ужину, ей не надо было делать совсем ничего. От облегчения едва не кружилась голова.
Разумеется, Сьюки совершенно боготворила и обожала своих девчонок, но спланировать три масштабные свадьбы за без малого два года — изнурительная, нескончаемая, круглосуточная работа: девичники, подбор фасонов, магазины, примерки, приглашения, встречи с поварами и официантами, рассадка за столы, заказ цветов и т. д. А в промежутке надо успеть разобраться с иногородними гостями и новоиспеченными родственниками, понять, где всех разместить, а сверх того — новобрачные истерики в последний момент, и вот к этому часу она уже была попросту в лоскуты от всех этих свадеб.
Что неудивительно. Если считать последнюю свадьбу Ди Ди, вообще-то масштабных свадеб было четыре, а это означало, что за два года потребовалось покупать и подгонять четыре наряда матери невесты (в одном и том же два раза нельзя).
Ди Ди вышла замуж и стремительно развелась. Но после того, как они потратили несколько недель на возврат свадебных подарков, невеста опомнилась и вышла заново — за того же мужа. Ее вторая свадьба получилась не такой дорогой, как первая, но ничуть не менее хлопотной.
Их с Эрлом свадьба в 1968 году — обыкновенное церковное мероприятие: белое свадебное платье, подружки невесты в одинаковых пастельных нарядах и туфлях, кольценосец, свидетель жениха, банкет — и вся недолга. А теперь всем подавай свадьбу с какой-нибудь темой.
Ди Ди настаивала на подлинной свадьбе в стиле Старого Юга и «Унесенных ветром» — платье, как у Скарлетт О’Хара, с пышным кринолином и всем прочим, а к церкви ее следовало привезти в последнюю минуту, и чтобы она ехала стоя в небольшом мебельном фургоне.
Ли Ли и ее жених пожелали свадьбу целиком в бело-красных тонах, включая приглашения, еду, напитки и весь декор, — в честь футбольной команды университета Алабамы.
Си Си, близняшка Ли Ли, выходила замуж последней и несла в руках вместо свадебного букета свою десятифунтовую кошку-перса по кличке Ку-ку, а немецкая овчарка жениха, облаченная в смокинг, была его свидетелем. И это еще полбеды: кольца подава- ла чья-то черепашка. Изнурительная канитель вышла. Черепаху не поторопишь.
Вспоминая все это, Сьюки подумала, что, когда Си Си с Джеймсом пригласили на банкет всех друзей вместе с их домашними питомцами, ей и впрямь надо было упереться, но она свято поклялась никогда не подавлять своих детей. И все-таки полная замена всех ковров в банкетном зале «Гранд-отеля» влетит им в целое состояние. Ну и ладно. Что уж теперь. К счастью, все позади — и очень вовремя.
Два дня назад, когда Си Си отбыла в свадебное путешествие, Сьюки вдруг разразилась безутешными рыданиями. И сама не понимала, что это: синдром пустого гнезда или попросту утомление. Ясное дело, она устала. На банкете представила какого-то гостя его жене. Дважды.
Но, если честно, как бы ни было ей грустно провожать Си Си и Джеймса, она втихаря мечтала вернуться домой, раздеться и залечь в постель лет на пять, — но и с этим пришлось погодить. В последнюю минуту родители Джеймса, его сестра и ее муж решили остаться еще на одну ночь, и ей пришлось по-быстрому что-то придумать им к «прощальному» обеду.
Хорошо еще, что скромно: кокосовые «маргариты» Эрла, ассорти из печенья, сливочный сыр и перцовый мармелад, креветки с дробленкой, крабовые пирожки с капустным салатом и заливные помидоры на гарнир. И все-таки пришлось поднатужиться.
Добравшись до городка Пойнт-Клиэр и миновав книжную лавку «Страница и палитра», Сьюки подумала, что, может, завтра она сюда заедет и купит хорошую книжку. Читать она успевала только свой гороскоп на каждый день, бюллетень «Каппы»*, иногда — журнал «Птицы и цветы». Мы, может, уже воюем с кем-нибудь, а она ни сном ни духом. Но теперь, похоже, опять доберется до чтения целых книг.
Ей вдруг захотелось вжарить твист, прямо за рулем, и она вспомнила, как давно им с Эрлом не удавалось разучить новый танец. Она уж, наверное, забыла, как танцевать хоки-поки**.
Возиться ей теперь осталось лишь со своей восьмидесятивосьмилетней матерью, грозной миссис Ленор Симмонз Крэкенберри, которая категорически отказывалась переезжать в совершенно чарующее заведение для престарелых всего лишь на другом конце города. А согласись она — как бы всем полегчало. Один только уход за материным садом выходил страшно дорого, не говоря уже о годовой страховке. После урагана страховки на дома в бухте Мобил подорожали до небес. Но Ленор была неумолима: никаких переездов из дома! И объявила она об этом драматически: «Пока меня не вынесут вперед ногами».Сьюки и представить не могла, как ее мать уходит ногами вперед куда бы то ни было. Сколько помнили они с братом Баком, Ленор, крупная властная женщина, вся в декоративных булавках и длинных, плещущих шарфах, с седыми волосами, начесанными и уложенными во флип завитками назад, вечно влетала в комнату как вихрь. Как-то Бак сказал, что она смахивает на фигуру, которой место на капоте, и с тех пор они между собой называли ее Крылатой Никой. И покидала комнату Крылатая Ника не попросту: она уносилась с шиком, оставляя за собой шлейф дорогих духов. Тихой женщиной она не была ни в каком смысле слова: в точности как выставочную лошадь на Параде Роз***, ее саму было слышно за милю — столько Ленор носила браслетов, подвесок и бус. И говорить она принималась задолго до того, как возникала в поле зрения. У Ленор был громкий зычный голос, и, посещая женский колледж Джадсон, она изучала «экспрессию»; к вечному прискорбию семьи, наставник ее в этом поощрял.
Ныне же, из-за кое-каких недавних событий, включая поджог собственной кухни, который она же и устроила, пришлось нанять для Ленор круглосуточную сиделку. Эрл был преуспевающим стоматологом с крепкой практикой, но богатыми их уж никак не сочтешь — тем более после всех трат на колледжи и свадьбы для детей, закладных за дом Ленор, а теперь еще и на сиделку. Бедному Эрлу не уйти на пенсию лет до девяноста, однако без сиделки больше определенно не обойтись.
Ленор, мало того что шумная, но еще и со своим мнением обо всем на свете, не только доносила его до всех в радиусе слышимости, но и взяла нынче моду телефонировать чужим людям в другие города. В прошлом году она пыталась дозвониться до Папы Римского, и один тот звонок обошелся им в триста с лишним долларов. Когда ей показали счет, Ленор возмутилась и заявила, что с нее не имеют права стребовать ни дайма, потому что все время продержали в режиме ожидания. Ага, расскажите это телефонной компании. И ведь никак ее не урезонишь. Сьюки спросила, зачем Ленор звонила Папе — принимая в расчет, что она была махровейшей методисткой в шестом поколении; та задумалась на миг и ответила:
— Ну… потолковать.
— Потолковать?
— Да. Нельзя быть такой зашоренной, Сьюки. С католиками вполне можно разговаривать. Жениться не стоит, но поговорить по душам не повредит.
Случалось и всякое другое. На встрече в Торговой палате Ленор обозвала мэра не в меру умным «саквояжником»**** и конокрадом, за что ей вчинили иск за очернение репутации. Сьюки вся испереживалась, зато Ленор хранила невозмутимость:
— Им еще придется доказать, что я сказала неправду, и никакие присяжные в своем уме не рискнут признать меня виновной!
Кончилось тем, что дело закрыли, но все равно было очень неловко. Весь прошлый год Сьюки старательно избегала встреч с мэром и его женой, но куда там — город-то маленький. Всюду они.
После того разбирательства у Ленор сменилось три сиделки. Две уволились, одна сбежала посреди ночи, прихватив с собой парадные кольца хозяйки и замороженную индейку. Но недавно, потратив на поиски несколько месяцев, Сьюки, похоже, нашла наконец идеальную няньку, пожилую душку-филиппинку по имени Энджел, терпеливую и милую — невзирая на то, что Ленор все время называла ее Кончитой, потому что, с ее слов, та выглядела в точности как мексиканка, работавшая у нее в Техасе в сороковых, когда туда перевели отца Сьюки.Радость же состояла вот в чем: у Ленор теперь была Энджел, и Сьюки могла наконец попасть на встречу выпускников «Каппы» в Далласе, а ее соседка по общежитию Дена Нордстром обещала ее там ждать. Они регулярно разговаривали по телефону, однако много лет не виделись, и Сьюки этой встречи очень ждала.
На перекрестке, ожидая зеленого, Сьюки потянула вниз козырек с зеркальцем — посмотреть на себя. О господи, это она зря. Ей казалось, после пятидесяти никто уж на ярком солнце хорошо не смотрится, но все-таки она себя запустила не на шутку. К окулисту не наведывалась года три, не меньше, а ей явно нужны новые очки.
Месяц назад она опозорилась вусмерть. Правильная цитата была: «Я чаша любви Божией», а Сьюки прочла громко, перед всей паствой: «Я бяша любви Божией». Эрл сказал, что никто не заметил, но это уж точно неправда.Сьюки глянула на себя еще разок. Боже ты мой, неудивительно, что она так жутко выглядит. Выскочила за порог нынче утром без капли косметики на лице. Теперь придется возвращаться домой и хоть как-то краситься. Она всегда старалась выглядеть более-менее презентабельно. Хорошо хоть, что она не такая суетная, как мать, иначе не выбраться ей из дома. Внешний вид значил для Ленор все.
В особенности она гордилась «симмонзовскими ступнями» и своим маленьким, чуть вздернутым носиком. Сьюки достался длинный нос отца, а Бак, ясное дело, уродился с симпатичным. Ну да ладно. У Сьюки зато хоть ступни симмонзовские.
* Одна из «организаций греческих букв» — североамериканских студенческих союзов. — Здесь и далее примеч. перев.
** Групповой танец, хорошо известный в англоязычных странах.
*** Ежегодный новогодний парад в Пасадине, Калифорния, проводится с 1890 года.
**** Презрительное именование южанами переехавших на Юг северян в период с 1865 по 1877 год.
В пустыне чахлой и скупой
- Евгений Чижов. Перевод с подстрочника. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2013. — 508 с.
Артюр Рембо, когда-то страстно желавший стать поэтом-пророком, писал: «Я вернусь с железными мускулами, с темною кожей и яростными глазами: глядя на эту маску, меня сочтут за представителя сильной расы. У меня будет золото: я стану праздным и грубым. <…> Я буду замешан в политические аферы. Буду спасен». С тех пор прошло много времени. Но неожиданно его обещание приобрело несколько иной смысл и сбылось: он вернулся. Правда, он изменил имя и внешность, но внутренне остался верен себе. Помог ему в этом наш современник, писатель Евгений Чижов.
«Перевод с подстрочника», по признанию самого автора, — это попытка осуществить идеи французского символиста: наделить поэзию безграничной властью и силой. Евгений Чижов создает экзотическую восточную страну Коштырбастан, правителем которой является Народный Вожатый, гениальный поэт Гулимов. Многие уверены, в Коштырбастане «совершается духовная революция планетарного масштаба», потому что «власть силы и денег уступила место власти духа и вдохновения». Говорят даже, что на заседаниях министров стихи президента-поэта «превращаются в указы и распоряжения, по которым живет вся страна». Мечта Сократа о том, чтобы государством правили философы, сбылась.
Если бы читатель смотрел на выдуманную страну глазами среднестатистического коштыра, то он увидел бы совершенно другой Коштырбастан. Наверное, многое здесь показалось бы ему привычным и совсем не удивительным, вопросы, столь остро стоящие в романе, отпали бы сами собой. А как иначе, если Коштырбастан — это мир людей, завороженных, одурманенных поэзией? В своем романе Евгений Чижов возвращается к ее истокам. Изначально поэзия служила своеобразным заклятием, заговором, способным повлиять на окружающее. Неслучайно у Народного Вожатого, «главного шамана», вместо лица видна одна лишь маска (уж не та ли, о которой писал Рембо?), живущая «отдельной жуткой жизнью». Коштыры необыкновенно близки к тем древним людям, которые верили в магическую силу поэзии, объединяющей всех со всеми: «Коштыры вставали целыми рядами, клали руки друг другу на плечи и раскачивались в такт <….>. Сознание все равно затопляла радость, сама собой возникавшая в едином теле публики, как пот при движении, и захлестывавшая граница между людьми».
Однако этот роман — нечто большее, чем просто рассказ о гипнозе и введении в транс целой страны. Автор «Перевода с подстрочника» — мастер увлекательнейшего сюжета, незаметно поглощающего читателя, который будто попадает в воронку на поверхности воды, не замечая ее. Как и предыдущие книги Евгения Чижова, «Перевод с подстрочника» — это неразгаданная тайна, почти детектив. Коштырбастан — еще один миф, созданный писателем. И в него Евгений Чижов помещает «непосвященного» героя, для которого страна Народного Вожатого — неизвестная, полная загадок земля.
Поэт и переводчик Олег Печигин по приглашению своего друга детства отправляется в Коштырбастан для того, чтобы перевести на русский язык стихи Гулимова. Именно точка зрения Печигина организует повествование, заставляя читателя одновременно восхищаться окружающей действительностью и ужасаться ей. Понять жизнь коштыров и их любовь к своему правителю — задача главного героя. Но сделать это не так просто. Ведь уже в поезде, следующем из Москвы, Печигин сталкивается с другим, «неофициальным» мнением о президенте-поэте. Оказывается, сказка хранит в себе много секретов. Гулимов, по словам оппозиционеров, деспот и диктатор, захвативший власть силой. Его стихи мог написать совершенно другой человек. Не исключено даже, что в президента вселился злой дух — джин. Чтобы понять, на чьей стороне правда, Печигину приходится совершить собственное путешествие по Коштырбастану.
Весь путь героя — это стремление приблизиться к неуловимому образу Народного Вожатого. Автор держит читателя в постоянном напряжении: кто же этот Гулимов на самом деле? Однозначного ответа нет, ведь «для каждого он становится тем, что тот хочет в нем увидеть». В результате желание понять гениального поэта оборачивается для Печигина попыткой самопознания. «Каждый человек хочет вырваться из доставшегося ему времени и места. И из себя, к ним привязанного. Стать другим. Для каждого есть свой Коштырбастан». «Перевод с подстрочника» — это роман о Коштырбастане героя, который находится в постоянном поиске.
Попадая в сказочную страну, Печигин вынужден пройти множество испытаний. Ему удается выполнить одно из главных заданий — завершить перевод стихов Гулимова. По всем законам сказочного жанра герой должен спастись, обрести «недостачу» (в данном случае — найти себя, ведь любовь он уже нашел) и вернуться домой. Однако здесь сказка оборачивается самой страшной реальностью, потому что выбраться из нее невозможно.
«Перевод с подстрочника», вопреки всем ожиданиям, — это рассказ об узнаваемом мире и чуждом ему герое. Стоит проделать вместе с ним путь от начала до конца хотя бы для того, чтобы научиться видеть за окружающими нас миражами настоящую реальность.
Поворот не туда
- Евгений Гришковец. Боль. — М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2014. — 304 с.
Каждый житель бескрайней России, имеющий доступ к средствам массовой информации, знает, кто такой Евгений Гришковец. Служивый, вынужденный отведать собачатину, трогательно переминающийся на сцене с ноги на ногу актер и режиссер моноспектаклей, а также автор довольно незамысловатой прозы, впрочем, имеющей свою аудиторию. Гришковец — это еще и практически полмиллиона запросов в «Гугле», угадывающем фамилию писателя с четырех букв.
Однако в последнее время армия «гришкофилов» заметно приуныла. Выходящая том за томом «Жжизнь» (особенно после заявления Гришковца в первой книге, составленной на основе заметок из «Живого Журнала», о том, что продолжения не последует) заставляла подозревать автора в простом желании заработать. Аннотация к «Боли» на этом фоне выглядела обнадеживающе:
…Я ощущаю сборник «Боль» как цельное произведение, как художественный цикл, в котором боль, как состояние душевное, так и физическое, становится некой призмой, через которую человек смотрит на мир, на жизнь особым образом… Книга «Боль» —<…> шаг в том художественном направлении, в которое я еще не шагал.
Повесть «Непойманный» не содержит размышлений о метафизической боли, но захватывает почти детективным сюжетом. Конфликт, сплетенный из недомолвок и непонимания между героями, требует разрешения и не позволяет отложить книгу надолго. История крутится вокруг денег: они нужны Вадиму, для того чтобы его бизнес остался на плаву. Кстати, финансовые проблемы и карьерная гонка — фон не только трех произведений сборника, но и недавно вышедшей пьесы «Уик энд (Конец недели)», которую Гришковец написал в соавторстве с Анной Матисон.
Это не первая совместная работа Гришковца с молодым сценаристом и режиссером, предыдущие (например фильм «Сатисфакция») имели хоть и противоречивый, но успех. На этот раз Гришковец и Матисон решили издать пьесу как можно раньше, поскольку надежды на ее скорейшую постановку в Москве и Санкт-Петербурге у них не было, хотя она, по словам писателя, «сегодняшняя и остро сегодняшняя». Пьеса не вошла в новый сборник сочинений (тематика и проблематика идентичны) лишь по жанровым и коммерческим соображениям.
Надежд на глубокие размышления вслед за первой повестью (несмотря на ее трагическую развязку) не оправдали и рассказы. Однако читая «Ангину» и «Палец» можно, наконец, облегченно выдохнуть: вот она, старая добрая «бытопись» Гришковца времен «Рубашки» и «Асфальта» с зарисовками о неудобствах, причиненных долгими полетами в самолете, о пледе и камине как синонимах уюта, о «живом и податливом сопротивлении» пойманной рыбы…
Стремление прочесть книгу как можно быстрее зависело не только от желания раскрыть все интриги сюжета. Стиль «школьного пересказа», приправленный каламбурами и повторами, что, по идее автора, должно придавать еще большей реалистичности тексту, вызывает даже не боль, а зуд, от которого хочется скорее избавиться. Листаешь быстрее, чтобы не видеть на одном развороте двенадцатикратных повторов имени главного героя (кажется, Гришковец не признает существования местоимений). Чтобы не читать на трех страницах подряд:
«… И ради чего все-таки выпил коньяку, хотя категорически этого делать не хотел…»
«Вадим ехал к Боре на такси и заклинал себя ни в коем случае не пить…»
«Из-за всего этого Вадим взял да и выпил коньяку. Хотя делать этого, когда ехал к Боре, не собирался».
То ли имеющий слабую память, то ли неуверенный в умственных способностях читателей, Гришковец использует многочисленные повторы, которые уже и на художественный прием списывать нет желания. Другими словами, хоть и шагнул, судя по аннотации, автор в некоем художественном направлении, но, кажется, оступился или повернул не в ту сторону.