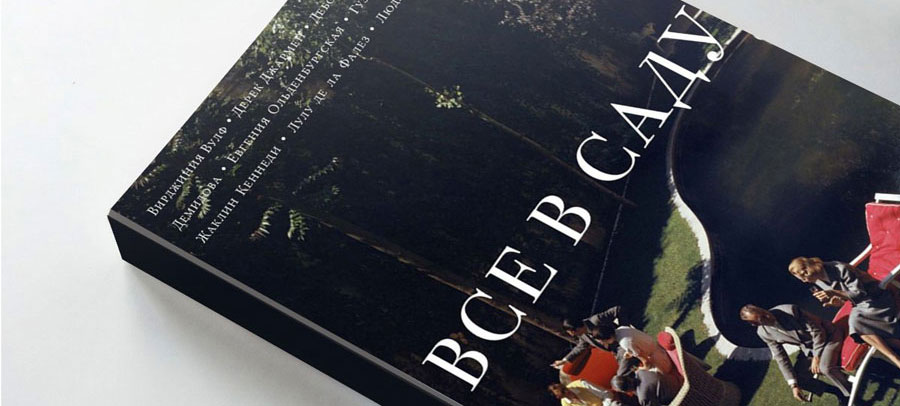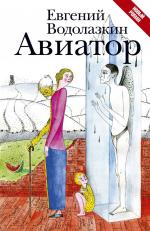Прозаик Михаил Шишкин родился в Москве в 1961 году, живет в Швейцарии. Автор романов «Записки Ларионова», «Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник» и литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария». Лауреат премий «Национальный бестселлер», «Русский Букер», «Большая книга». В новой книге короткой прозы автор пишет о детстве и юности, прозе Владимира Набокова и Роберта Вальзера, советских солдатах и эсерке Лидии Кочетковой… Но главным героем — и в малой прозе это особенно видно — всегда остается Слово.
Гул затих…
Много лет назад я всё знал.
Я ничего еще тогда не написал, но знал про себя, что — писатель. Вернее, писал много, но ничего не получалось довести до конца. Я уже вроде бы существовал, ходил в школу, ездил на метро, ел, пил, но еще не стал настоящим. Существование необходимо доказать, поставив в тексте последнюю точку.
Мне была открыта сокровенная тайна мироздания. Все сущее состоит из атомов и прочей невидимой дряни, которую никто не видел и не щупал, каких-то там элементарных частиц. Но они-то, в свою очередь, состоят из букв.
Я знал, что будет потоп. Обещали ведь, что не будет, но наврали. Обязательно придет. Каждому — по потопу. И нужно спастись. Сколотить свою лодчонку. Написать свою книгу. Найти нужные слова, которые переживут сорок дней разверзшихся хлябей небесных.
Мы жили на «Щелковской», в хрущобе на 13-й Парковой, на последнем, пятом этаже, и поверх деревьев из окна виднелось здание местной школы, с четырьмя медальонами на фронтоне — писательские головы в профиль. Они тоже всё знали и всю жизнь строили каждый свой ковчег. Что там осталось от их эпох? Брички? Кринолины? Примусы? Соседи? Прохожие? Любимые? Пшик. Их книги и стали теми эпохами.
Все дело было в том, — знал я, — чтобы написать правильные слова. Вот ученики встретили Его на пути в Эммаус и не узнали. Не поверили. Ведь в гроб сошел. И еще никто никогда не воскресал. А Он им: Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это — Я Сам. Осяжите меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И еще спросил: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему, что ели сами, печеную рыбу. И взяв ел пред ними.
Все дело в печеной рыбе. Рыба-то настоящая. Мертвые рыбу не едят.
Я в гроб сойду. На третий день восстану.
Сам текст «Живаго» после Бунина и Набокова казался какой-то расползшейся словесной тушей, но стихи из романа я знал наизусть. Они меня спасали.Чаще в переносном смысле, но иногда в прямом.
Я учился на Арбате и ездил каждый день по часу туда и обратно. От нас до «Щелковской» можно было подъехать пару остановок на автобусе. Там ходили 52-й, 68-й, лучше, конечно, на 516-м, тот промахивал 11-ю Парковую экспрессом.
Помню, возвращался зимой из школы, выхожу из метро, страшный мороз, темно уже, автобусов нет, толпа огромная собралась, все топчутся, мерзнут, ругаются. Я пообедать не успел, а тут запах от горячих беляшей ноздри дерет — бабка в валенках продает беляши из огромного парного чана. Купил два беляша, сжевал, в животе сразу резь. Ноги задубели, пальцы от мороза ноют, нос вот-вот отвалится. Автобусов все нет. Люди, матерясь, идут пешком. Потоптался и тоже поковылял.
Плетусь в морозной темноте с резью в желудке и спасаю себя волшебными строчками:
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
И я тогда знал, что это Пастернак сказал про себя. Это он сошел в гроб, а потом восстал. Мы же ездили к нему в Переделкино на кладбище, и я знал, что там, под камнем, его не было. Вот рядом кладбище старых большевиков — там все шеренгами лежали на месте, где положили. А Пастернак там быть просто не мог, потому что он шел со мной по пути со «Щелковской» на 13-ю. Мимо один за другим проносились пропавшие автобусы, наверно, делали крюк через Эммаус. А он шагал со мной. В могиле его быть не могло, потому что он был во всем вокруг меня. Он был всем — паром изо рта, и полупустым 516-м, и съеденным беляшом, и резью в кишках, и задубевшими ботинками, и ледяными раскатанными на тротуаре дорожками, и матом, и звездами, и продрогшими пятиэтажками, и каждым, кто в них ютился.
Я знал, что это к нему на суд поплывут столетья, как плоты.
Знал, что и я поплыву когда-нибудь к нему на суд.
Тогда я все это знал.
А теперь пишу эти строки, за окном дождь, бесконечный, вот уже сорок дней никак не остановится, — и не знаю.
За стеклом в накрапах — игрушки разбросаны на мокрой траве. В алой пластмассовой песочнице потоп для человечков из лего. Розы положили свои тяжелые головы друг другу на спину, как лошади.
Может, я растерял то сокровенное знание по дороге?
Ведь я знал всё, кроме времени. Да и не мог знать. Просто его еще не было. Было только будущее и не очень настоящее настоящее, походившее на затянувшееся предисловие.
Время — это когда ты смотришь в зеркало и удивляешься: откуда эта чужая седина? Откуда эта чужая морщинистая кожа?
И все еще тянутся те три дня до воскресения. И никакого Эммауса.
А в ту соседнюю школу с классиками на фронтоне мне пришлось походить.
Мама была директором в нашей 59-й на Арбате, и она меня выгнала. Последней каплей был субботник. Я ушел с ленинского коммунистического субботника и увел с собой половину класса. Так что доучивался по месту жительства.
В новой школе было великое преимущество — вставать не нужно было рано. Из дома выходил за пять минут до звонка. Правда, это оказалось единственным и последним преимуществом.
По литературе проходили Толстого. Чуть ли не на первом же уроке — классное сочинение по «Войне и миру». Все открывают учебники и списывают. У нас это было бы немыслимым. С другой стороны, хоть перестали плевать друг в друга мокрыми катышами через трубочки от шариковых ручек.
Почти всем моим новым однокашникам литераторша поставила пятерки, мне единственному досталась тройка. На вопрос умника «а почему?», получил ответ:
— Отсебятина.
Отсебятина! Кажется, впервые тогда почувствовал, что критика может быть наградой.
— Но Толстой ведь тоже — отсебятина.
Как она оскорбилась за Льва Николаевича, и за «Войну и мир», и за всю русскую литературу!
Какое чудесное слово — отсебятина! Спасибо тебе, русский язык!
Сказать, что новенького не полюбили, — ничего не сказать.
У нас в школе «война» была цирком с отставным полковником на арене. А тут всё оказалось по-другому. Здесь у военрука на уроке был порядок, как на Красной площади во время парада, все даже сидели навытяжку и к доске выходили торжественным шагом, оттягивая носок. «Калашников» разбирали и собирали, завязав повязкой глаза, с секундомером и удалью. На своего майора юноши, не говоря уже о девушках, смотрели влюбленными глазами. И вообще, класс, который только что бесился и срывал урок беременной биологичке, на НВП было не узнать.
Военрук был совсем еще не стар, в отставку вышел по ранению, левая рука всегда была в черной перчатке и звонко стучала, когда он опускал ее на стол. Про него говорили, что он «исполнял интернациональный долг» где-то за границей, но это военная тайна. Короче, он был героем.
На первом же занятии новенький заявил, что он пацифист, в людей стрелять никогда не будет и до автомата не дотронется. Предупреждение, что он получит плохую отметку, вызвало у него лишь снисходительную усмешку.
— Но скоро класс поедет на стрельбы, мы будем соревноваться с другими школами. Ты же не хочешь подвести твоих товарищей?
Но и этот аргумент не поколебал стойкость пацифиста.
Помню, что услышал в голосе майора настоящую печаль. Он сказал с горечью:
— Ты — плохой патриот, Шишкин. Когда начнется война, твои одноклассники пойдут умирать за родину, а ты станешь дезертиром.
И его черная перчатка поставила деревянную точку.
Это прозвучало приговором, а я, может, впервые ощутил, что такое чувство собственного достоинства. Это когда тебя будут бить, и ты к этому готов.
Меня били за гаражами, около школьной помойки. Парни из класса выкрутили мне руки, и по очереди от каждого я получил под дых.
Потом засунули в бак с мусором.
Те, что в медальонах на фронтоне, отвернулись, только косились и еле слышно сквозь зубы: а ты как думал? Ты на нас посмотри! Нас тут самих построили — в затылок друг другу по стойке смирно. Кто это из наших сказал, что вечность на самом деле — изба с пауками? Wishful thinking! Вечность — это когда тебя, не спрашивая, во все дырки. Но им надо всё простить, ибо не ведают, что творят. Нас построили — и тебя построят. Будешь шагать в ногу и смотреть в затылок. Не сахарный, не растаешь. Die erste Kolonne marschiert, Сусанна должна ждать старцев,жизнь прожить — не поле перейти. Понимаешь,это — наша страна. Но они ее оккупировали. И ты в плену. Война. И они, оккупанты, могут сделать с тобой что захотят. Урыть, отмудохать, облевать. Но им недоступно твое сокровенное знание. Это ведь только им, наивным, кажется, что они начальник, а ты дурак. Чудаки, право слово! Не однорукий майор имеет над тобой власть, а ты над ним. От тебя только зависит, исчезнет он или останется. Захочешь, когда-нибудь возьмешь и воскресишь его, скажешь ему, давно сгнившему, выйди вон! — и он тут как тут выскочит из небытия и снова вздохнет горько: «Шишкин, ты плохой патриот!» Вот увидишь, всё так и будет! На войне нужно победить. Победить — это выжить, чтобы написать. Или написать, чтобы выжить. Что-то мы тут запутались, но это не важно. Короче, выжить, чтобы написать, чтобы выжить. Вот это твоя война, и ты не дезертир. Помни, ты в плену у врагов, у тебя есть то, чего нет у них, — твое сокровенное знание, за которое ты отвечаешь. И, кстати, черную перчатку с деревянным стуком возьми себе, пригодится! Можешь потом отдать какому-нибудь проходному персонажу, такие детали запоминаются. И главное, заруби себе на носу: победить — это поставить точку в конце текста.
На следующем уроке военного дела новенький взял автомат и стал его разбирать.
И я знал, зачем это делаю. Это была моя война, и я не был дезертиром.
Однорукий военрук тогда сказал не «если» будет, а «когда». Странно, казалось, у всех была уверенность, что войн больше не будет. А войны потом пошли гуськом и оравой. Так что возможностей умереть за родину было достаточно. Умирай не хочу. Наверно, у майора тоже было какое-то свое сокровенное знание.
Когда началась афганская, я был студентом. В педагогическом институте на ром-герме была военная кафедра, из нас готовили переводчиков. Раз в неделю мы ходили строем и учились переводить допросы пленных солдат Бундесвера.
После четвертого курса нас отправили в летние лагеря под Ковровом недалеко от Владимира. Вернувшись оттуда, я взахлеб настрочил повесть. Впервые я поставил точку в конце текста. В нем было много мата, задора, молодой злобы и радости слов, короче, в тексте было до отвала первого писатель ского счастья и рядовой Говнюк писал письмо космонавтке Терешковой.
Произведение с названием «Пиф-паф, ой-ой-ой!» получилось очень юношеским, и поэтому юноша через какое-то время его уничтожил.
Был бы камин, не было бы проблем. Рукописи, понятное дело, не горят. Но я положил тот текст в мусорное ведро и вынес на помойку. Вот вопрос: выброшенные на помойку рукописи не горят?