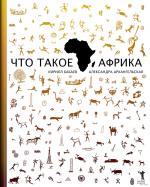- Сергей Чупринин. Вот жизнь моя. Фейсбучный роман. — М.: РИПОЛ классик, 2015. — 560 с.
Российский литературный критик и публицист, главный редактор литературного журнала «Знамя» Сергей Чупринин собрал в книгу лучшие записи, опубликованные на его странице Facebook. Легкое, увлекательное мемуарное чтение предназначено тем, кто любит «вспоминательную» прозу классиков и в то же время хочет узнать о закулисных историях из жизни известных писателей и общественных деятелей современности.
2001 — н/в
Память у меня, вообще-то, ни к черту. Или, утешу сам себя,
специфическая. Вот, скажем, с книгами: и спустя десятилетия
помню смысл прочитанного романа, авторский, как сейчас выражаются, месседж могу без хлопот восстановить. А как звали
главных героев и поженились ли они в конце концов — убей бог,
не помню.То же и в жизни. Вернусь, бывало, с каких-нибудь литературных посиделок, говорю жене, что встретил там такую-то. «И в
чем она была одета?» — натурально интересуется жена.
«Ммм», — тушуюсь я. «Нет, а все-таки, — не отстает спутница
моей жизни. — В юбке или в брюках?» Начинаю припоминать,
видел ли я коленки нашей общей приятельницы, но и это не
всегда помогает, ибо что длинная юбка, что брюки, по мне, без
разницы.«Это, — объясняет мой друг-прозаик, — потому что память у
тебя не писательская». Ну, не писательская так не писательская;
я со своим недостатком уже вполне свыкся.Пока не впал, как видите, в мемуаристский азарт, и то одно,
вроде бы совсем стершееся, стало из памяти выниматься, то
другое. Не вплоть, конечно, до фасона юбок, но все-таки.«Ведь можешь же, когда хочешь», — как говорит мне обычно
жена, когда я храбро берусь за починку… ну, не утюга, понятное
дело, чего-нибудь попроще, но все-таки.***
В ту пору, когда всё в нашей венценосной семье было, надо думать, еще благополучно, Людмила Александровна Путина решила, как это и подобает первой леди, взять шефство над чем-нибудь
гуманитарным. И выбрала школьных библиотекарей. Вернее,
библиотекарш, ибо какой же это мужчина согласится на такую
низкооплачиваемую и, что уж говорить, малопрестижную работу?Так что собрали — от Москвы до самых до окраин — этих подвижниц просвещения в роскошных столичных интерьерах. И о
библиотечных проблемах разговаривать, и лекции слушать.
В том числе мою — о современной русской литературе. А вечером всех нас — и библиотекарш, и лекторов — повезли ужинать
в кремлевский зал, только-только отреставрированный рачительным Пал Палычем Бородиным1. Люстры сияют, зеркал и золота в преизбытке, и за каждым столом — помимо лекторов и милых наших женщин — еще непременно по зарубежному послу, по депутату с медийной внешностью да по народному артисту. «Запоминайте, будет о чем дома рассказать», — шепнул я соседке, которая, мы успели к тому времени познакомиться, никогда даже в Красноярске, своем краевом центре, не бывала, а тут — Москва, люстры, послы с народными артистами!..
«Да я запоминаю, — она мне в ответ. — Но кто же мне поверит?!»Про угощенья, про тосты и речи рассказывать незачем. Лучше о том, что ближе к концу ужина, когда подавали уже десерты,
по залу будто ветерок пробежал. Все обернулись — а в дальних
дверях Путин Владимир Владимирович лично и пальцем левой
руки так характерно постукивает по часам на запястье правой:
время, мол, пора, жена и гости дорогие, по домам собираться.На глазах у полюбившихся мне библиотекарш слезы — умиления, конечно. Кому же из них этот мужнин жест не знаком?..
И что гадать, удачная ли это была придумка кремлевских
имиджмейкеров, чтобы сиятельные образы утеплить, или оно
действительно само собою так получилось?..***
В начале 1990-х я был на «ты» и по имени с министром культуры и всеми тремя его заместителями. Большой пользы «Знамени» это не принесло, но сам стиль эпохи, когда казалось, что
мы одного рода-племени с важными государственными чиновниками, вселял, скажу так, надежды.Теперь этот стиль, разумеется, переменился. К людям, принимающим решения, удается пробиться, если удается, только через
плотную толщу секретарей, референтов, помощников, советников и проч. и проч. Именно что «проч(ь)». Да и с бывшими своими добрыми знакомцами, что во власти уцелели, говоришь теперь
по-другому: без прежней короткости и понятно, что на вы, со всем
почтением. Они и перезванивают-то не всегда. Далеко не всегда.Простецкий стиль 1990-х среди людей при должности сохранили немногие. Может быть, только Владимир Ильич Толстой,
советник президента. И, уж безусловно, Владимир Викторович
Григорьев из Роспечати.Иду я как-то с сыном, тогда еще школьником, по коридору, а
навстречу Владимир Викторович с Леонидом Парфеновым,
что был как раз в самом зените славы. Тормознули, обменялись
рукопожатиями. «А это, — говорю, — мой сын. Звать Костей».
Тогда Григорьев и ему руку подал, а за ним Парфенов. «Володя, — говорят, — Леня…»Чепуха, казалось бы, малость. А сын до сих пор помнит. И я,
как видите, помню.***
Странная вещь, непонятная вещь: смотришь, бывает, на наших государственных мужей (и жен) по телевизору, и скулы сводит. Между тем рассказывают, что в личном общении люди это
почти всегда исключительно приятные, даже образованные, с
полуслова все схватывают.О Путине, во всяком случае, лет пятнадцать назад, когда он в
роли еще главы правительства ходил представляться писателям в ПЕН-клуб, участники этого сборища говорили если не с
воодушевлением, то с надеждой. Да и Медведев в ту пору, пока
он не пробовался еще на амплуа президента, произвел самое
благоприятное впечатление на прогрессивных литераторов,
приглашенных отужинать с ним в 8-й комнате Центрального
дома литераторов.Утверждают, впрочем, что умение нравиться входит в число
обязательных для политика качеств. Не знаю, у меня своего
опыта общения с самыми высокими персонами нет.Не считая двухминутного разговора с Медведевым на книжной ярмарке позапрошлого года в Гаване.
И не считая встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко,
тогда еще вице-премьером по социалке, на Форуме молодых писателей в Липках. Молодые писатели на этой встрече, правда,
явно скучали, зато их убеленные сединами руководители так
и рвались в бой. И неудивительно, ведь разговор шел ни о какой не идеологии, да и о духовных скрепах тогда помину не
было2. Говорили о пенсиях, о социальном и медицинском
обеспечении немощных литераторов, о том, как бы сделать
так, чтобы пишущие не побирались в старости и болезнях.Разговор продолжился за совместным то ли обедом, то ли
ужином, весьма скромным, где мы с нею оказались сидящими
рядышком. И говорили, говорили… Очень неглупа, думал я,
помнится, и даже — с разнесением отрицательной частицы
и определяемого слова — очень не глупа.Разгоряченный, я даже спустя несколько дней отослал на
имя Валентины Ивановны памятную записку со своими собесовскими и прочими идеями.С тех пор прошли годы. И, разумеется, мне никто за эти
годы так ничего и не ответил.***
Были, рассказывают, мемуары, которые начинались фразой:
«С Львом Толстым я никогда не встречался. Это произошло так.
Я родился в обедневшей дворянской семье…» Ну, и далее еще
страниц триста увлекательного повествования.Я вот с Сергеем Михайловичем Мироновым, бывшим в оно
время главою Совета Федерации, тоже никогда не встречался.
Но письмо на его имя посылал. Это произошло так — люди из
Роспечати, желающие «Знамени» только добра, как-то попеняли мне, что плохо, мол, мы работаем с регионами. Вот «Наш
современник» знается с регионами, с губернаторами и местными заксобраниями — у него поэтому и тираж чуть ли не выше,
чем у «Знамени» с «Новым миром», вместе взятыми.Меня, признаюсь, это задело. Но где мы, где губернаторы?
А тут еще подсказка, уже не из Роспечати: «А почему бы вам не
обратиться с каким-нибудь интересным для провинциальных
читателей проектом прямо к Миронову? Сенаторы ведь представляют интересы своих республик и губерний, так неужели
же они не захотят заработать очки на культурном окормлении
своего электората?»Ну, проект — дело недолгое, их у меня в шкафу уже две с половиной полки. Так что звонит мне спустя малое время советник Сергея Михайловича, в изысканных выражениях благодарит за чудо как интересные предложения, говорит, что его патрон всецело за, но… «Вы же понимаете, что у нас нет возможности давать сенаторам указания… А собственного бюджета у
Совета Федерации кот наплакал…»Что ж, кот так кот. Я говорю спасибо и уже собираюсь прощаться. А мне из трубочки: «Слушайте, меня вот только сейчас озарило. Перепишите-ка вы письмо на имя Сергея Михайловича, но уже не как спикера, а как главы партии „Справедливая Россия“, и он точно пойдет вам навстречу. Может даже
статью написать специально для „Знамени“, на открытие номера»…***
Получая ордена или премии из рук государства, писатели-патриоты обыкновенно приосаниваются, и грудь что называется вперед: мол, заслужили. А либералы чуть-чуть, или чуть более чем чуть-чуть, стесняются монаршей ласки. И говорят, как
правило, что и не ждали совсем, ничего о выдвижении не ведали и, наверное, от награды бы отказались, но поздно уже,
и кому он нужен, лишний скандал?..Охохонюшки хо-хо, скажу я вам на это. Поскольку и самому
случилось уже при Путине орден получить, и в распределении
Государственных премий (ельцинского, правда, еще образца)
поучаствовать, то точно знаю: процедура такова, что не ведать
про свое выдвижение невозможно. Претендент обязан не только предварительно сообщить о своей готовности стать почествованным, но и, как правило, поставить личную подпись под
теми или иными документами из наградного дела.Или вот хотя бы не государственная вроде, но всё же и не
так чтобы уж очень от государства удаленная, премия «Большая
книга»3. Во всяком случае, письменное согласие участвовать в конкурсе и тут от претендента требуют.Что полезно иметь в виду, сталкиваясь с яркими гражданскими жестами. Ну, вы помните, как Евгений Евтушенко в 1993 году громко отказался от награждения орденом Дружбы народов в знак протеста против войны в Чечне. Или как Юрий Бондарев — ни разу, правда, не либерал, но тоже в ту пору оппозиционер — уже в 1994 году отказался от такой же награды, заявив
в телеграмме президенту, что «сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».Зачем же, спросите, они раньше-то заявляли о своем согласии, зачем дали наградному делу дойти до самого финиша? Вопрос глупый, ответят вам те, кто тоже питает склонность к ярким гражданским жестам, а говоря по-новорусски, к самопиару.
Я такой склонности не питаю. И отказываться от поощрений со стороны высшей власти своего государства отнюдь не призываю. Но глубоко уважаю тех, кто не считает для себя возможным в тех или иных исторических условиях брать награду
от власти, которую они, наоборот, глубоко не уважают. Свободу
выбора, в том числе и ошибочного, у нас никто ведь не отнимал, правда же?Поэтому в пример можно, конечно, поставить Александра
Солженицына, которой в ельцинском 1998 году отказался от ордена Андрея Первозванного («…от верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять
награду не могу»), зато при новой уже верховной власти принял-таки в 2006 году Государственную премию России.Но мне лично почему-то милее пример Людмилы Петрушевской. Ее как прозаика в 1990-е выдвинули на соискание Государственной премии. Она не возражала, но, узнав, что должна самолично заполнять так называемый «Личный листок по
учету кадров», свое согласие забрала. Это что же, сказала,
я, значит, сама должна просить у начальства награду? Не буду,
и всё тут.А что потом? Потом Людмила Стефановна все-таки получила лауреатскую медаль, но уже в составе группы создателей
спектакля «Московский хор». И необходимые документы, надо
думать, скреплял своей подписью Лев Додин, руководитель
постановки.
1 Бородин Павел Павлович (1946) — государственный деятель, доктор политических наук. Работая в 1993–2000 годах управляющим делами Президента РФ, руководил реконструкцией
и приемкой в эксплуатацию Большого Кремлевского дворца и других зданий на территории Московского Кремля.2 «Да и о духовных скрепах тогда помина не было» — «Мне, —
прокомментировала в Фейсбуке эти слова Татьяна Шабаева, — (из
бездны моего невежества) всегда кажется странным, что писатели
желают говорить о социальном обеспечении без духовных скреп.
Мне всё кажется, что так не бывает. Там есть социальное обеспечение, где есть духовные скрепы. Это условие не вполне достаточное, но непременное».3 «Большая книга» — если не считать Государственной премии
России, лауреаты которой получают по 5 миллионов рублей, то
«Большую книгу» можно назвать самой крупной литературной
премией России. Она была создана в 2006 году Центром поддержки отечественной словесности, и учредители Центра («Альфа-банк», группы компаний «Ренова» и «Видео Интернешнл», Роман Абрамович, Александр Мамут, торговый дом «ГУМ», журнал «Медведь») не поскупились: денежный приз за первое место составляет
три миллиона рублей, за второе — полтора миллиона, а за третье —
миллион рублей. В роли жюри выступает Литературная академия,
среди членов которой более ста писателей, критиков, литературоведов, издателей, преподавателей и библиотекарей. За прошедшие годы обладателями главной премии становились Дмитрий
Быков с книгой «Пастернак» (2006), Людмила Улицкая с романом
«Даниэль Штайн, переводчик» (2007), Владимир Маканин с романом «Асан» (2008), Леонид Юзефович с романом «Журавли и карлики» (2009), Павел Басинский с книгой «Лев Толстой: Бегство из
рая» (2010), Михаил Шишкин с романом «Письмовник» (2011),
Даниил Гранин с книгой «Мой лейтенант» (2012), Евгений Водолазкин с романом «Лавр» (2013), Захар Прилепин с романом «Обитель» (2014). Предусмотрена и специальная премия «За честь и достоинство» (как вариант «За вклад в литературу»), которой были
отмечены Наум Коржавин (2006), Андрей Битов и Валентин Распутин (2007), Илья Кормильцев (2007; посмертно), Александр
Солженицын (2008), Борис Васильев (2009), Антон Чехов (2010;
увы, и он посмертно), Фазиль Искандер (2011), Даниил Гранин
(2012), Евгений Евтушенко (2013), Леонид Зорин (2014).
Метка: РИПОЛ Классик
Валерия Пустовая. Великая легкость. Очерки культурного движения
- Валерия Пустовая. Великая легкость. Очерки культурного движения. — М.: РИПОЛ классик, 2015. — 352 с.
«Великая легкость» — книга статей, очерков и эссе Валерии Пустовой — современного литературного критика, лауреата премии «Дебют» и «Новой Пушкинской премии», премий литературных журналов «Октябрь» и «Новый мир», а также Горьковской литературной премии. Герои книги — авторитетные писатели старшего поколения и ведущие молодые авторы, блогеры и публицисты, реалисты и фантасты, недавние театральные лидеры. О культуре в свете жизни и о жизни в свете культуры — вот принцип новой критики, благодаря которому в книге достигается точность оценок, широта контекста и глубина осмысления.
Животные архетипы женского1 Размышления о любви на д. р. поэта
Архетип, да, так он сказал: архетип Рахили. По мне, просто
типаж: очки, нос, взгляд, сосредоточенный где-то внутри, и
сразу такую хочется спросить: не думала переехать в Израиль? — и он меня, конечно, спрашивал. В монастыре под Боголюбовым женщины выражали свое подозрение иначе, подходили, заглядывали в глаза под косынкой: давно, девочка, в
православии?Давно, что вы, это просто очки и нос, как у него — волос в
огневу. Тоже типаж: руки с рыжинкой, пишет стихи, в Москве
проездом, и познакомились на дне рождения человека, пишущего стихи, — мне с этим парнем все ясно.Таких вот, которые сразу по виду поэты, я заранее боюсь. Но
собравшиеся потихоньку шумной толпой гости считали, что
бояться мне следует совсем другого.Честь знакомства с молодым критиком и поэтом, к тому времени уверенно водившим в прокуренном даже на улице воздухе
бутылкой с водкой уже на донышке, была оказана мне, собственно, потому, что оный критик и поэт с ровесниками хотел
от меня опасность оттеснить.И, бравируя пустой почти бутылкой, попрекал опасность
тем, что она небрита.Опасность парировала, что легкая небритость ей даже идет
и что у нее разряд по боксу, так что лучше не надо тут бутылкой
размахивать.Опасность была в очках, на десятилетия старше, а когда по-
моложе была, хорошо разбиралась в том, как он и как его. Читавший поймет.(Яркий писатель, и фамилия соответствующая.)
Нет, сама-то я его не читала. В том возрасте, когда во мне создавался образ критика, я таких книг, где про то, как его, старалась в себя не впускать.
Да что там — познакомься мы тогда, я бы точно не смогла с
опасностью общаться. Наверное, она довела бы меня до слез,
наступив на воображаемые идеалы, помню, в ранних Липках и
помельче искусители обращали меня в разгневанное бегство.А тут вдруг стою возле урны, опасность курит мне в лицо и насмешливо выясняет, что еще я из нее не читала, каких фильмов
ее не посмотрела, — а я чувствую только, сколько ж лет прошло.Моя подруга сказала: «и когда тебе будет сорок, ты поймешь,
что тебя уже ничто не убьет». Но уже сейчас, сейчас ощущение
спокойной неприкосновенности охватывало меня.Наверное, обманчивое — потому что небритая опасность поинтересовалась, замужем ли я, и отметила, что нам обоим идут
очки. Кокетничала, говоря, что она ни разу не скандалист, а
просто так имидж сложился.Хотела подпустить поближе.
А я не придвигалась, но и не отходила. Молодой поэт и критик с бутылкой ерничал: понравилось. И правда — понравился
небритый, опасный, умный человек. По-змеиному, но все-таки
умный, не ожидала.Для меня все люди, которые уважают концепции Владимира
Мартынова, умные. А этот не только концепции Мартынова,
сказал, уважает, но и лично рассуждал о своем конце литературы — падении своей эпохи стиля, своих великих девяностых,
когда русскую литературу закрыли четыре мушкетера, четыре
благовестника, четыре стихии слова: Пелевин, Сорокин, Радов
и этот, опасный в очках, — с тех пор Радов умер, Пелевин и Сорокин, по убеждению опасного, продались издателям, а сам он
забросил книги, потому что зачем — и без книг, куда ни приедет,
полные залы и интервью с ним в любое издание берут, смотрят
только, чтобы без мата, и если без мата, так радуются, что берут.Еще опасный понимал про судьбу, а про это мало кто понимает. Я поддакнула ему: да, сейчас ведь все думают, что знают законы входа-выхода, и как выбиться в звезды. Ерунда законы, сказал опасный, тут судьба.
А с литературой это — графомания, журнализм, бесстилье —
навсегда? — снова поддержала я разговор. — Навсегда, — успокоил меня опасный.И добавил, что мне надо скорее спускаться на грешную землю. Это за то, что я осмелилась ему посоветовать. Он сказал,
что его новое скандальное сочинение, написанное в соавторстве с приличной репутации писателем, нигде не издадут. Сказал с удовольствием, легко и красиво, а я-то не поняла: вот, говорю, есть же издательство, которое взяло то, что никто не
брался издавать, — дневники девочки из Чечни.На имя грозной республики опасный отреагировал холодно,
объяснял, не теряя терпения: ты пойми, у нас там весь — весь! —
литературный мир изображен, как есть, и вся Россия, это —
это! — не издадут. Никто не станет связываться с таким, как я.Ага, с опасным и ярким таким.
Со змеиноопасными людьми у меня только один способ выстоять: быть овечьи простодушной и собачьи внимательной.
Впервые, пожалуй, я порадовалась, что я такая овца.
Вообще-то у меня нелады со своим внутренним архетипом.
Я пережила их несколько, от французской болонки в детстве до
байкальской нерпы, ставшей мною буквально в этом августе,
когда я попала в Иркутск и у меня там развилась нерпомания.Страшно то, что пока болонка эволюционирует в нерпу, проходя многие пушистые и милые животные стадии, ты начина-
ешь сознавать, что с тобой что-то не так.Что нельзя напоминать себе столько кряду беззащитных,
добродушных, пушных зверьков.Что за пушными охотятся, пока они валяются животом в
траве и урчат гимн солнцу.
Что надо быть женщиной-кошкой, сколько раз повторять?
Кошкой, мужчины это любят, и не только мужчины. Независимой, прихотливой, выскальзывающей из-под руки, влюбленной
в хозяина на меру корма.Идя по улицам, я с собой проводила тренинг: я кошка, я кошка, я женщина-кошка…
Но любой встречный взгляд расколдовывал: я собака, собака, женщина-собака.
Пелевин в последнем романе воспел сучество как необходимую в любимой женщине приправу к духовности. Несмотря на
этимологию, сучество — кошачье свойство.Собаки предают по-другому.
Предают просто тем, что преданно смотрят в глаза. Интересуются. Вникают в правила игры — так обстоятельно, будто и
впрямь готовы признать хозяином вот этого, случайного человека.Собаки так искренни, что случайному человеку кажется:
близки к любви, готовы к команде.А собакам просто искренне — интересно.
Парень, искавший Рахиль, — все-таки с ним, а не с опасным и
ярким, ушла я с этого поэтического вечера, — разочарованно
словил фишку: ты, сказал, хочешь концептуального общения.
Не романтического.Нет ничего обиднее для мужчины, чем твой человеческий к
нему интерес.Пока женщины борются за звание людей, мужчины пытаются удержать за собой право на исключительно половое самоопределение.
Парень попрекнул: ты не похожа на свои статьи. Ты холодная.
Что-то новенькое, уловила я. Раньше мне говорили иначе:
ты не похожа на свои статьи, ты добрая и милая.А дело-то не в статьях. А в том, что вокруг слишком много
ярких.Опасных. Поэтичных.
Не рождается любви из духа тусовки.
Не хватает скучных, вислоухих, настороженных, ученых,
знающих правила — не хватает, хоть вой, мужчин-собак.Во славу любовной несправедливости2
Депрессоидом быть хорошо, потому что в пару им всегда достаются оптимиптоиды.
Оптимиптоидом, по той же причине, быть плохо, но они
этого не замечают.Они вообще не замечают много чего существенного и несущественного, что делает их куда более счастливыми людьми,
чем их нареченные.Оптимиптоидов и самих незаметно. Они круглы или квадратны, уплотнены и неторопливы, неброско одеваются и не
так уж стремятся выразить свое мнение; они редко кричат.Оптимиптоиды существуют так полно и удобно, что им ни к
чему суетиться.Напротив, депрессоиды привлекают бесхитростных оптимиптоидов яркой окраской. Депрессоидов заметно, и они всю
жизнь посвящают тому, чтобы оставить на земле свой след —
как можно четче пропечатанный.Депрессоиды живут в беспокойстве. О чужих интересах, мировой справедливости, судьбе культуры, рейтингах новостей,
исходе премиальной гонки. Им некогда существовать, хотя
иногда и хочется.Оптимиптоиды излучают тепло, депрессоиды — пар: им ничего не стоит закипеть.
Депрессоиды живут в ощущении, что им чего-то не хватило:
удачи, любви, внимания, трудолюбия, условий, времени, сил.
Это ощущение часто возрастает пропорционально достижениям, а достижения депрессоидов значительны.На самом деле им не хватает внутреннего солнца. Яркие снаружи, депрессоиды быстро перегорают внутри.
Внутреннее солнце депрессоиду практически может заменить один достаточно прочный оптимиптоид. Которому всегда
с собой тепло и хорошо, и он не против дать погреться.Депрессоиды часто западают друг на друга, и это ошибка. Но
послушайте, говорят они, разве могут два таких ярких, талантливых человека, хорошо понимающих влияние мировой гармонии на быт отдельно взятой квартиры, разминуться в любви?
Депрессоиды сливаются идеями и блаженствуют мозгом, пока
ситуация не потребует взять ее в руки и хорошенько промять.
А руки у депрессоидов не для мелкой моторики: для крупных,
артистических жестов.Приманенные взаимной яркостью, депрессоиды слипаются
грустью. Впрочем, они хорошо погибают за общие идеи, но,
если не погибнут, готовы сами поубивать друг друга. За то, что
узнали: яркость не бывает без тоски.Любовное счастье депрессоида зависит от быстроты, с какой он сумеет разглядеть оптимиптоида. Которого до момента
прозрения принимал за деталь обстановки.Любовное счастье оптимиптоида зависит от смелости. Надо
уметь распознать источник радости в том, кто, по правде, иногда мешает жить.Справедливость, которая требует, чтобы добрые оптимиптоиды сочетались в крепкие семьи, а неловкие депрессоиды мучились в загоне фантазмов, по-прежнему остается абстракцией.
Мы нуждаемся в том, что нам не дано. И наша доброта должна
послужить сбережению чьей-то яркости, а наша яркость — увеселению чьей-то доброты.Поэтому и в гороскопах, и в соционике нам подтаскивают
пару максимально противоположную: огню — воздух, интуитам — сенсориков, экстравертам — закрытышей.Мужчинам — женщин, женщинам — мужчин.
1 Записано в Живом Журнале 25 августа 2012 года.
2 Записано в Живом Журнале 31 июля 2011 года.
Александр Архангельский. Правило муравчика
- Александр Архангельский. Правило муравчика. — М.: РИПОЛ классик, 2015. —160 с.
«Правило муравчика» — сатирическая повесть или сказка для взрослых, которая заставит читателя по-новому взглянуть на привычные вещи. Здесь есть всё: политика, российское телевидение и… котики. По мнению самого Александра Архангельского, не стоит искать прототипов героев книги. Читать ее можно как взрослым, так и подросткам: и те, и другие найдут в тексте что-то по своему вкусу.
Первая глава
Священное предание котов
Синее море, желтый песок и высокие черные горы. Вдоль берега стоят огромные корзины с обгрызенными ручками; в корзинах на подстилках дремлют кошки и коты. От чего они устали, спрашивать
не надо. Просто устали — и все. Прилегли на заслуженный отдых.Спальный район разделен на две части, крупной
галькой обозначена граница. По одну сторону находится Пепси-Котор, по другую — Кока-Котор.
Над ними нависла скала; здесь на маленьком плато
расположился горный Мурчалой. Каждый март суровые коты из Мурчалоя спускаются в долину и захватывают в жены юных кошек. Такая у них традиция. Кошки на них не в обиде: нормальной кошке
без семьи неинтересно.Внешне Которы и Мурчалой неотличимы. Но
веруют их жители по-разному. Пепси-Котор населяют котославные, в Кока-Которе живут котоли-
ки, а мурчалойцы — убежденные котометане. Объяснить, в чем разница, довольно трудно. В глав-
ном все между собой согласны: что когда-то Рай
располагался здесь, на побережье. Снаружи он на-поминал гигантскую корзину, но только с соломенной крышей. В Раю жил бог. У бога были
огромные ноги в желтых ботинках, а лицо его сияло в вышине. Бог часто сидел за столом и пальцами стучал по клавишам; перед ним стоял экран, по
которому, как муравьи, бежали буквы. Кошки прыгали на стол и ложились животом на клавиши; бог
брал охальника за шкирку и неласково спускал его
с небес.Главное Святилище именовалось Кухня, в центре ее был Алтарь. Бог вынимал из Алтаря еду — кастрюлю с гречневой кашей и прокрученным куриным фаршем, раскладывал по мискам, и запасы еды
не кончались. А сам он ел нечасто. Два или три раза
в день. Хотя мог есть всегда, без остановки. На то
он и бог, чтобы творить чудеса.У бога имелась богиня и маленькие злые божики, которые носились с воплями по Раю, дергали
животных за хвосты и обидно дули им в носы. Божиков не пугало шипение, а за выпущенные когти
бог с богиней били мокрым веником. Но самая
страшная казнь полагалась котам-богоборцам, которые жрали цветы и метили райские кущи: этих
поливали из большого желтого пульверизатора.
Струя была холодная и сильная; преступник думал,
что это Всемирный Потоп, и в ужасе скрывался
под диваном.Зато богиня пахла тестом. У нее была мягкая
грудь, на которой приятно лежать и мурлыкать,
и круглые надежные колени. Она склонялась со
своей небесной высоты, гладила котов и вовремя
меняла наполнитель в туалете. У нее был только
один недостаток. Непонятная, таинственная
страсть влекла ее к собакам, которых бог не обижал, но и не жаловал. От собак отвратительно пахло, и они очень быстро сжирали еду. Очень. Не
успеешь к миске первым — всё. Не оставят ни крошки. А еще они готовы были унижаться, лизали богине то ноги, то руки, в общем, зря богиня их любила.А вот у бога недостатков не было.
Ненадолго отрываясь от экрана, он отодвигал
клавиатуру, возносил котов к себе на грудь и внушительно с ними беседовал. Тогдашние коты владели
языком богов; от тех доисторических времен сохранились лишь отдельные словечки. Такие, например, как «пепси», «кока», «мур» и «кис». Это потому, что божики, приплясывая возле Алтаря,
с утра до вечера кричали «Пепси!», «Кока!». Бог со
строгим умилением ворчал: «Ишь, негодяй, мурррчит!» А богиня, доставая легендарную кастрюлю, громко призывала: кис-кис-кис-кис. Это было
как благословение, как заклинание.Нередко богиня садилась в большую машину,
включала защитную вонь, чтобы никто не мог найти ее по запаху, и уезжала в горы; когда она возвращалась, бог и божики мчались к машине, вынимали из багажника шуршащие пакеты и тащили их
в Святилище. Вынимая из пакетов баночки, кульки, контейнеры с продуктами, они произносили,
как пароль: куринария. Бог, завершив свою работу,
готовил вкусный ужин, и богиня восхищалась им:
ты у меня великий куринар! С тех пор коты (хранившие легенды о божественном курином мясе),
стали называть куринарией место возле миски.
Остальные слова сохранились обрывками, они
мелькали в памяти, как мошки, и не имели никакого смысла.
В Рай часто приезжали гости. Некоторых — избранных! — бог приглашал в Святилище, усаживал
за круглый стол, уставленный едой и разными бутылками. Других в Святилище не допускал и принимал у себя в кабинете. Придирчивая богиня называла их жирналистами. Жирналисты вынимали
из багажников искусственные солнца, зажигали их
от электрической розетки и направляли яркие лучи на бога, и он им долго что-то объяснял. Через
день или два после этого богиня собирала божиков
в гостиной и сажала их перед огромным пылевизором. В пылевизоре показывали бога; божики смеялись, хлопали в ладоши и кричали: «папа! папа!».
Коты пытались заглянуть с обратной стороны, но
там торчали провода и было жарко.И всходило солнце. И сгущалась ночь. Наполня-лись миски и пустели. Нарождались новые котята.
Вспыхивали драки, восстанавливался зыбкий мир.
И казалось, так будет всегда.Но тут произошли ужасные события.
В кошачьих мифах и легендах сохранились темные воспоминания о том, как бог с богиней погрустнели; гости стали приезжать все реже, а жирналисты вообще исчезли. Пылевизор почти никогда не включали, потому что в нем все время говорил
недобрый человек с красивыми зелеными погонами; на груди у него блестели желтые медали — точь-
в-точь как у злобных собак. Нехороший человек
размахивал руками и кричал, а другие люди почемуто хлопали в ладоши. Глядя на это, богиня рыдала.
И бог тогда сердился на нее.Однажды ранним утром вдалеке раздался грохот — со стороны асфальтовой дороги, по которой
боги ездили в куринарию. Коты решили, что вернулись жирналисты, но ошиблись. Рай окружили ма-шины с перепончатыми странными цепями, намо-танными на колеса. Из машин выпрыгивали незнакомцы в пахучей пятнистой одежде и с круглыми
фуражками на бритых головах.Незнакомцев было много, человек пятнадцать;
за спинами у них висели ружья. Но не длинные
охотничьи, с красивым лакированным прикладом,
как у бога, а короткие, с какой-то черной штукой,
которая торчала прямо из ствола. Незнакомцы
продвигались странно, приседая на корточки. Сделают короткий шаг, полуприсядут, обведут вокруг
себя ружьем, шагнут опять.От ужаса кошачье воинство попрыгало из окон,
а собаки попытались оказать сопротивление, но
зря. Бога, богиню и божиков погрузили в грязные
машины. Колонна выпустила вонь из-под хвостов
и устремилась по асфальтовой дороге. В Раю никого не осталось; на входную дверь повесили большой замок. Собаки вскоре пропали, а коты остались жить на побережье. Одни, без богини и бога.
Никто не наполняет им куринарию, никто не берет
на колени, все приходится делать самим…
Сколько лет прошло с тех пор — никто не знает.
Рай зарос вьюном и диким виноградом. На его месте образовался мрачный холм, которого коты боятся и обходят стороной. С соседнего склона к вершине холма тянутся электрические провода. Глупый вьюн пытался оплести их, закрутиться
змейкой, но сил у него не хватило, и он усох.
В этом все религиозные учения сходились.А дальше начинались разногласия.
Котолики не верили в пульверизатор. И утверждали, что великий бог, прекрасная богиня и даже
невоздержанные божики не могли использовать такое негуманное орудие. А котославные считали ересью учение котоликов о том, что бог один — у кошек
и собак. Это нелепо, абсурд! Но дальше всех пошли
котометане. Они соглашались, что бог — это бог, ничего не попишешь. Но в богиню с божиками верить
не желали. С их точки зрения, то были ангелы, которых бог призвал себе на помощь.Толкованием вероучений занимались святые
котцы. Котославных возглавлял Котриарх — черный, необъятный, молчаливый. Котоликов — веселый полосатый кот по прозвищу Папаша. А котометан — обильный телом белый перс, получивший
звание Верховного Жреца.Кошачьи города между собой не воевали, но
и не особенно дружили. Единственное, что пепси-
которцы и кока-которцы решили делать вместе,
это собирать запасы на зиму. Когда на побережье
льют дожди и с моря дует мерзкий ветер, наступает
голодное время. Рыба уходит от берега, мыши прячутся в норки, даже лисы охотятся реже и не оставляют на горных дорогах объедки. В заброшенной
каменоломне прибрежные коты устроили совместный провиантский склад и к нему приставили охрану. Потому что мурчалойцы следовали принципу
халявности: сами не ловили рыбу и мышей, брезговали лисьими объедками, а промышляли дерзкими
набегами.И снова, как когда-то, жизнь подчинилась заведенному порядку. Всходило солнце, заходило солнце, завершалась зима, наступала весна. Старики тихонько умирали, взрослые коты старели, бойкая
порывистая молодежь норовила что-нибудь исправить в этом мире, но не успевала, потому что все рано женились, обрастали многочисленным потомством и уже не думали о переменах.
Восемь книг, без которых не уйти с Non/fictio№17
Год литературы близится к концу, и последняя надежда на его неплохое завершение — Международная ярмарка Non/fictio№17, которая станет главным книжным событием очередного издательского года. «Прочтение» присмотрелось к программе ярмарки и выбрало книги, которые можно считать самыми значимыми.

Мишель Уэльбек «Покорность». Издательство Corpus
Французский романист Мишель Уэльбек, запомнившийся многим по бестселлеру «Элементарные частицы», провоцирует мировую общественность. Его новая книга «Покорность» — философская фантастика на злобу дня — рассказывает о Франции, которая выбрала ислам в качестве официальной и единственной религии. Несмотря на то что ярмарка обещает щедрую палитру новинок от других столь же известных (если не культовых) зарубежных авторов, Уэльбек выходит на первые позиции благодаря своей актуальности. Политические реалии в его романе переплетены с прогнозами на будущее — за тем, насколько пророческими они окажутся, можно будет наблюдать в реальном времени.

Эрнст фон Вальденфельс «Николай Рерих. Искусство, власть, оккультизм». Издательство «Новое литературное обозрение»
Журналист и биограф Эрнст фон Вальденфельс всю жизнь был очарован творчеством одного из самых мистических русских художников. Вальденфельс всматривается в загадочную русскую душу с немецкой скрупулезностью: то подтверждая, то разрушая мифы о жизни Николая Рериха, автор дает анализ его философии и обзор творческого пути художника. На страницах исследования появляются тибетские монахи и авантюристы, американские президенты и советские чиновники, духовидцы и адепты агни-йоги, разведчики и провокаторы — все те, кто сопровождал Рериха в его жизни и странствиях.

Уолтер Айзексон «Инноваторы». Издательство Corpus
Биография — самый модный жанр в современной литературе, равно как и байопик в кинематографе. Знаменитый биограф Стива Джобса в своей новой книге замахнулся на историю высоких технологий — от зари компьютерного программирования до мегакорпорации Apple, перевернувшей представления современного мира о технологиях. В списках киносеансов скоро появится очередная экранизация книги Айзексона, и неплохо бы подготовиться к ее просмотру, прочитав «Инноваторов». Книга идеально подходит для тех, кто желает разобраться, по каким законам существует среда первооткрывателей и как пройти путь от самоучки до компьютерного гения.

Людмила Улицкая «Лестница Якова». Издательство «АСТ», Редакция Елены Шубиной
Каждая книга Людмилы Улицкой становится событием — так повелось с давних пор. Но уделить внимание «Лестнице Якова» следует хотя бы потому, что в литературном сезоне 2016 года ее новый роман с вероятностью 90% окажется в коротких списках самых крупных российских литературных премий. Семейная сага, основанная на документах личного архива писательницы, содержит неподдельные интонации боли, обиды, но и редкого счастья взаимопонимания. Улицкая давно не бралась за романы, работая над сборниками рассказов и документальными книгами, а потому стоит оценить, по-прежнему ли уверенно автор чувствует себя в крупной литературной форме.

Андрей Аствацатуров «И не только Сэлинджер: десять опытов прочтения английской и американской прозы». Издательство «АСТ», Редакция Елены Шубиной
Филолог и писатель Андрей Аствацатуров известен своими смешными и грустными книгами о жизни интеллектуалов Санкт-Петербурга. Его новая работа — это подборка эссе, где Аствацатуров со свойственной ему иронией делится размышлениями по поводу прочитанных книг зарубежных авторов. Такое изящное литературоведение — редкий случай среди российских исследователей языка, да и всегда интересно сравнить свои ощущения от чтения книг с впечатлениями специалиста.

«Майя и другие». Издательство «АСТ» и журнал «Сноб»
Великой русской балерине Майе Плисецкой в этом году исполнилось бы 90 лет. Но она ушла, внезапно и тихо, совершенно неожиданно для всех. Памятный вечер в Большом театре, который она сама планировала и готовила, состоится без нее. АСТ и журнал «Сноб» выпустили сборник очерков, посвященных Плисецкой, написанной такими известными авторами, как Михаил Шишкин, Татьяна Толстая, Людмила Петрушевская, Александр Кабаков и Виктория Токарева. Прекрасно оформленная в строгом сдержанном стиле (таком, который наверняка одобрила бы и сама Плисецкая) книга — редкий случай не некролога-апологетики, а живых впечатлений от общения с удивительной женщиной-эпохой из уст лучших отечественных прозаиков.

Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери». Издательство « РИПОЛ классик»
К ярмарке в серии «Метаморфозы» выходит очередная книга классика с иллюстрациями модного современного художника. На этот раз трагическую историю о любви горбуна Квазимодо к прекрасной Эсмеральде «рассказал» известный французский художник Бенжамен Лакомб. Крупные планы, готическое настроение, детальная прорисовка персонажей и фона — его мрачноватые, но воздушные рисунки создают пронзительную атмосферу, созвучную роману Гюго.

Франсуаза Барб-Галль «Как говорить с детьми об искусстве XX века». Издательство «Арка»
В искусстве модернизма разбирается не каждый взрослый, а уж как непросто рассказать о художественных течениях того времени ребенку. Чтобы не мучиться в попытках перевести со взрослого языка на детский, можно воспользоваться подсказками французского искусствоведа и писательницы Франсуазы Барб-Галль, автора книги «Как говорить с детьми об искусстве». Они и родителям помогут разобраться в происходящем и восполнить существующие в этой сфере знаний пробелы.
Воздушные замки Афлатуни
- Сухбат Афлатуни. Поклонение волхвов. — М.: РИПОЛ классик, 2015. — 720 с.
Существует в литературе особый жанр под названием «Вы такого еще не читали». Его яркий образец — новый роман Сухбата Афлатуни «Поклонение волхвов». Автор энергично выполняет завет теоретиков постмодернизма: «Преодолевайте границы, засыпайте рвы!» Между чем и чем? Между массовой и высокой литературой, конечно.
Роман огромен — это трилогия. В нем, как в Греции из шутливого афоризма, есть все. Детектив, мелодрама, мистика, фантастика, ужастик, историческая и семейная хроники, морально-бытовая и сатирическая повести. А еще публицистика и стихотворные вставки.
Необходимая для масскульта тематика — в полном наборе. Роковые тайны, смертельная любовь, похищенная красавица, побег из монастыря, разбойники, прокаженные, подземелье на кладбище, жандармы и чекисты, секретарь обкома, украденные и подмененные дети, Пушкин и Достоевский, Николай I и Николай II, Ленин и Сталин, декабристы и петрашевцы, Гамлет и король Лир, гибель «Титаника», философский камень, звездные войны, пьянки в коммуналках, казни и убийства, архитекторы, композиторы и художники, секс и пытки, бессмертие и конец света. Есть даже кольцо всевластья, которое на этот раз называется звездой.
В интервью интернет-журналу «Лиterraтура» Сухбат Афлатуни говорит, что его трилогия — «вполне сознательная пародия. Скрытая. Первая книга — на исторический роман. Вторая — на детективный. Третья — на фантастический… Впрочем, даже там, где вроде есть исчерпанность и, кажется, все сказано… Не нужно бояться изобрести велосипед. Все равно твой „велосипед“ не будет похож на остальные. Главное, чтобы на нем можно было ездить».
Хочется ли ездить на «велосипеде» Сухбата Афлатуни — трудный вопрос. Это конструкция на любителя.Завязка первого романа такова: начинающий архитектор Николенька Триярский, участник кружка Петрашевского, арестован и брошен в Петропавловскую крепость. Ему грозит расстрел. Но его сестра, красавица Варвара, жена негодяя Маринелли и мать маленького Левушки, посылает государю письмо с просьбой помиловать брата. Царь согласен спасти приговоренного, требуя за это ночь любви. Прекрасную страдалицу привозят на маскарад, где ряженые несутся в «кадрили литературы» (кивок роману «Бесы») и где присутствует государь (не столь явственный кивок «Хаджи-Мурату»).
Варенька приносит себя в жертву, государь милует не только ее брата, но и всех петрашевцев. Однако на этом несчастья не заканчиваются: в ту же фатальную ночь Маринелли выкрадывает Левушку и спьяну проигрывает его в карты похитителям детей. Варенька бросается на поиски, потом исчезает, потом ее следы обнаруживаются в монастыре, где она родила сына Иону и откуда, оставив младенца, бежала с труппой бродячих актеров.
Тем временем спасенного брата везут на восток по бесконечной стылой дороге, и он предается мыслям о родине:
Россия, Россия, Россия, — бормотал Николенька, промерзая до языка, до головного мозга. — Великая Белая Скрижаль, никому не удалось заполнить тебя письменами! Как была ты бела и холодна от века, так и осталась. Что на тебе написано? Многоточия изб да кляксы уездных городов. Да разрозненные буквицы монастырей, словно выписанные сонливым семинаристом: рассыпаны по белому листу то ли для шарады, то ли для упражнения. Не выросло ничего из этих букв, не слепились из них слова, не окоротили пространства. Ни греческие буквицы церквей, ни немецкие вензеля государства не смогли заполнить, утеснить тебя, белая пустота, Россия, Россия…
Сухбат Афлатуни не только прозаик, но и поэт, и таких стихотворений в прозе, красивых и эффектных, в трилогии немало — с несомненной оглядкой на лирические отступления в «Мертвых душах». Рифмованных строчек тоже изрядно, но все они похожи на стихи капитана Лебядкина: «Ты — нашей славы монумент, овеян древностью легенд. Ты вечно юн, о мой Дуркент! И камень твой жемчужный, — звенели детские голоса, — стране советской нужный…» Это, впрочем, уже из третьей, «советской» части, главный герой которой — правнук Вареньки и внук таинственно отыскавшегося Левушки.
Со всеми похищениями, возвращениями и подменами не так легко понять и удержать в памяти, кто кому кем в романе приходится, но потомки Вареньки постоянно встречаются и узнают друг друга в особенные дни — трагические для них самих и для России. Автор намекает, надо полагать, на удивительные встречи героев в «Докторе Живаго».
Вряд ли пародию в романе можно называть скрытой. Совершенно безумные приключения и совпадения, которыми роман набит до отказа, оправданы именем Николая Зряхова, эталонного сочинителя патриотически-мелодраматической бульварщины.
Один из персонажей вещает:
Позвольте, господа, процитировать на память великого писателя земли русской Николая Зряхова, который есть также и великий философ — впрочем, русский писатель всегда еще и философ, только не немецкого, а живого направления: «Наши воины, пламенея истинною любовью к Царю и Отечеству, переходят бездонные пропасти, достигают вершин и, как бурный поток, свергаются долу. И, представ пред взоры смущенного врага, приведенного в ужасную робость, идут на штыках — провозглашая победу Царю Русскому! Бросают к его стопам лавры — и просят новых повелений, куда еще им парить для наказания врагов…». Грозный штык! Где, спрошу вас, этот светоносный штык? Где духовность?
Первые две части трилогии пишет в романной реальности художник и мистик Серафим Серый (намек на Гэндальфа Серого). В третьем томе книгу Серого будет читать Варенька Триярская, которая приходится Вареньке-первой — загибаем пальцы — праправнучкой. Кто пишет последнюю часть — не очень понятно. Может быть, сама Варенька-вторая. Ясно, однако, что сочинитель внимательно прочел трилогию Федора Сологуба «Творимая легенда», чтобы завершить свой текст точно так же, как знаменитый декадент.
У Сологуба в роковую минуту стеклянная оранжерея превратилась в летательный аппарат и торжественно поднялась в воздух. В трилогии Сухбата Афлатуни произошло то же самое, только еще торжественнее, потому что в воздух взмыли сакральные объекты, ставя точку в этой постмодернистской энциклопедии бульварной литературы девятнадцатого века и нынешнего масскульта.
Дайджест литературных событий на ноябрь: часть 2
Осень уже готовится уступить место зиме, но это не повод впадать в спячку. Во второй половине ноября главным событием, которое объединит литературный мир, станет крупнейшая ярмарка Non/fictio№17. В остальные дни петербуржцев ожидают презентации новинок Макса Фрая, Андрея Аствацатурова и других писателей, а также встречи с Дмитрием Быковым, Ольгой Седаковой, Валерием Поповым, Дмитрием Губиным. Москвичи увидят фильм о Льве Толстом, послушают лекцию о современных поэтах и познакомятся с недавно вышедшими книгами критиков Сергея Чупринина и Валерии Пустовой.
30 ноября

• Презентация книги Макса Фрая
Новая книга цикла «Сказки старого Вильнюса» сочетает короткую прозу и авторские фотографии. Четвертая часть цикла по-прежнему близка к фантастике и населяет старый район города Вильнюса волшебством и тайнами. Со Светланой Мартынчик, она же Макс Фрай, писательницей, долгое время творившей инкогнито, сотрудничавшей с крупнейшими издательствами, можно будет встретиться дважды — в ноябре и декабре.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, магазин «Буквоед», Лиговский пр., 10/118. Начало в 19.00. Вход только при предъявлении <«a href=http://bookvoed.ru/news?id=471»>книги с наклейкой.
25-29 ноября

• Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№
Одно из главных событий литературной жизни — ежегодная ярмарка Non/fiction — в 2015 году проходит в 17-й раз. Все главные российские издательства подводят итоги года и делают анонсы на следующий год, выводят фаворитов из кулуаров и, конечно, наравне с обычными читателями каждый день килограммами выносят книги из ЦДХ. В 2015 году специальным гостем ярмарки стала Испания: отдельное внимание будет уделено испанской литературе и ее переводам на русский.
Время и место встречи: Москва, Центральный дом художника, Крымский Вал, 10. Полная программа доступная по ссылке. Билеты от 300 руб.
26 ноября

• Презентация книги Андрея Аствацатурова «И не только Сэлинджер»
Андрей Аствацатуров решил сместить акценты в своей писательской деятельности, обратившись к ключевым фигурам американской и английской литературы — Сэлинджеру, Апдайку, Генри Миллеру, Фолкнеру, Голдингу. Лекции Аствацатурова, посвященные творчеству этих писателей, пользуются едва ли не большим успехом, чем его проза. Игровое литературоведение, занимательная филология или удобная инструкция, под руководством которой стоит перечитать произведения мировых классиков, — насколько весома репутация этой книги, предстоит установить читателям и самому Аствацатурову на предстоящей презентации.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Дом книги, Невский пр., 28. Начало в 19.00. Вход свободный.
25 ноября

• Лекция Дмитрия Быкова о Чехове
Дмитрий Быков прочитает благотворительную лекцию в пользу подопечных «АдВиты». Речь пойдет о Чехове и о механизме воздействия его прозы и драматургии на читателя. Проза Чехова не может развеселить, но может подарить спокойствие и освобождение от тягот жизни.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, отель Indigo, Чайковского, 17. Начало в 19.30. Стоимость билетов 1750 руб.

• Открытие нового сезона проекта «Разбор пилотов»
Цикл «Разбор пилотов» состоит из встреч, в рамках которых проходят обсуждения лучших сериалов мира. Каждый месяц в гостинице «Англетер» киноманы будут собираться для того, чтобы вместе с критиками разобрать первые части многосерийных фильмов. Новый сезон откроет показ драмы «Плоть и кости», созданной Мойрой Уолли-Бекетт, сценаристом сериала «Во все тяжкие». Кинокритик Андрей Смирнов расскажет о том, как построена история талантливой танцовщицы Клэр, которую сыграла балерина Сара Хэй.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Angleterre Cinema Lounge, Отель «Англетер», Малая Морская ул., 24. Начало в 19.00. Вход по билетам (250 руб., в стоимость входит двухнедельная подписка на бесплатный просмотр каталога в онлайн-сервисе «Амедиатека»).
24 ноября

• Встреча с Ольгой Седаковой
Ольга Седакова в первую очередь известна как поэт. Она выпустила уже 46 книг, начав печататься в Париже в 1986 году. В России первая книга вышла в 1990 году. Удивительной тонкости и чуткости полны ее стихи; говоря о высших силах, ей удается не впасть в пафос; говоря об обыденных вещах — не скатиться в бытописательство.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Новая сцена Александринского театра, наб. Фонтанки, 49А. Начало в 19.30. Вход свободный.

• Лекция «В поисках утраченного читателя»
Ирина Каспэ, культуролог, автор книги «Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы», прочтет лекцию об антропологии чтения. Речь пойдет о современном читателе: что такое амплуа «читателя-победителя», как устроен наш читательский опыт, кто его исследует, можно ли остаться наедине с книгой, почему мы погружаемся в воображаемые миры, как возвращаемся обратно — ответы на эти и другие вопросы станут доступны не только филологам и социологам, но и широкому кругу слушателей.
Время и место встречи: Москва, магазин «Додо», ул. Мясницкая, 7, корп. 2. Начало в 20.00. Вход по предварительной регистрации.
23 ноября

• Презентация критических книг Сергея Чупринина и Валерии Пустовой
«Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» главного редактора журнала «Знамя» Сергея Чупринина — книга в большей степени о жизни на поле двух культур: советской и российской. «Великая легкость. Очерки культурного движения» заведующей отделом критики журнала «Октябрь» Валерии Пустовой — это сборник критических заметок и эссе о литературе, посвященных поиску собственного пути, который проходит российская культура. Обе книги вышли в новой серии «Лидеры мнений» издательства «РИПОЛ классик».
Время и место встречи: Москва, Музей Серебряного века, пр. Мира, 30. Начало в 19.00. Вход свободный.

• «Современные поэты о современных поэтах»: встреча поэтического лектория ЗИЛ
Первая часть новой темы от поэтического лектория в культурном центре ЗИЛ, который устраивал встречи поэтов и читателей на протяжении всей осени. На этот раз молодые авторы расскажут о современниках: поэты Дана Сидерос и Елена Дудукина придут на встречу 23 ноября, а поэты Лев Оборин и Андрей Родионов будут ждать всех интересующихся 7 декабря. О том, повлияет ли гендерное разделение авторов на тематику разговора, можно будет узнать на встречах.
Время и место встречи: Москва, Культурный центр ЗИЛ, ул. Выставочная, 4. Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.
22 ноября

• «Урок литературы» с Сергеем Носовым и Вадимом Левенталем
В рамках цикла встреч с писателями «Уроки литературы» свои занятия проведут известные прозаики, лауреаты литературных премий Сергей Носов и Вадим Левенталь. Последний расскажет о творчестве самого Носова, а тот, в свою очередь, познакомит слушателей с произведениями поэта и драматурга Геннадия Григорьева. Урок состоит из лекции и беседы публики с писателями.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Библиотека Гоголя, Среднеохтинский пр., 8. Начало в 16.30. Вход свободный.
20 ноября

• Презентация книги Галины Козловской «Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание»
Мемуары жены композитора Алексея Козловского представят редактор Елена Шубина и историк, сотрудник музея Бориса Пастернака в Переделкино Наталья Громова. Козловская рассказывает в мемуарах о таких незаурядных личностях, как Анна Ахматова, Марина Цветаева, Дмитрий Шостакович. Комментарии Натальи Громовой, специалиста по литературному быту 1920–1930-х годов, исследовательницы мемуаров Ольги Бессарабовой, должны привлечь к этой встрече еще больше заинтересованных в культуре начала XX века.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный пр., 53. Начало в 18.00. Вход по билетам в музей от 40 руб.
19 ноября

• Презентация книги Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников — 2»
Сергей Носов представит продолжение сборника «Тайная жизнь петербургских памятников», а также роман «Фигурные скобки», взявший в 2015 году премию «Национальный бестселлер». Сергей Носов — знаковая фигура петербургской литературы: здесь его читают все, от мала до велика, и каждой книги ждут с нетерпением. Сиквел «Петербургских памятников» перейдет в рассказ о неизвестных большинству маленьких секретах города, а беседа о «Фигурных скобках» затронет фантасмагорическую историю об иллюзионистах.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Дом книги, Невский пр., 28. Начало в 19.00. Вход свободный.

• Презентация книги Дмитрия Жукова «Биология поведения богов и героев в Древней Греции»
Биолог, лауреат премии «Просветитель» 2013 года Дмитрий Жуков представит книгу, в которой проанализировано поведение древнегреческих богов. В мифах они ведут себя, как обычные люди, поэтому автор посчитал возможным сравнить их поведение и манеры современных людей. Подмеченными изменениями Дмитрий Жуков поделится на встрече с читателями.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, магазин «Мы», Невский пр., 20. Начало в 19.00. Вход свободный.
17 ноября

• Творческая встреча Валерия Попова;
Глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов умеет интересно рассказывать не только о своих книгах, но и о чужих — он автор биографий Сергея Довлатова, Дмитрия Лихачева и Михаила Зощенко для серии «Жизнь замечательных людей». Вопросы о творческой деятельности как профессиональном явлении, а также об отличии деятельности биографа от занятий писателя можно задать лично Валерию Попову на встрече.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, арт-клуб «Книги и кофе», ул. Гагаринская, 20. Начало в 18.30. Вход свободный.

• Дискуссия «Зачем мы читаем?»
В библиотеке им. Гоголя проходит «Неделя тепла» — акции от фонда «Ночлежка» в поддержку бездомных. Очередная «теплая» встреча пройдет на тему книг — планируется обсуждение того, как мы читаем, зачем и почему это действительно важно. Тема кажется незамысловатой, однако чрезвычайно полезной.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, библиотека им. Гоголя, Среднеохтинский пр., 8. Начало в 19.00. Вход за donation в виде теплой одежды (варежки, носки, шарфы, шапки).
16 ноября

• Лекция о современном non-fiction с Дмитрием Губиным
В рамках проекта «Благотворительный университет» пройдет лекция о литературе non-fiction. Современному читателю ориентироваться на этом поле может быть нелегко — для нехудожественной литературы существуют другие критерии оценки. О том, какие они и как применить их в жизни, расскажет журналист Дмитрий Губин. Все собранные средства будут перечислены на счет благотворительного центра «Антон тут рядом».
Время и место встречи: Санкт-Петербург, галерея KGallery, наб. р. Фонтанки, 24. Начало в 19.00. Вход за donation. Запись на лекцию по ссылке.

• Дискуссия и показ фильма о Льве Толстом
Участники встречи планируют обсуждать простой и понятный вопрос: Лев Толстой — великий писатель или в первую очередь живой человек? Дискуссию сопровождает показ фильма 2008 года «Полустанок» — об уходе Толстого из Ясной Поляны. Режиссер фильма Галина Евтушенко, писатель Павел Басинский и переводчик Чинция Кадаманьяни приведут аргументы, которые позволят разобраться с общественным и личным отношением к фигуре Толстого.
Время и место встречи: Москва, Дом Черткова, ул. Мясницкая, 7,корп. 2, зал «Сад Алисы». Начало в 19.30. Вход свободный.
Кирилл Бабаев, Александра Архангельская. Что такое Африка
- Кирилл Бабаев, Александра Архангельская. Что такое Африка. — М.: РИПОЛ классик, 2015. — 480 с.
Учёные-африканисты Кирилл Бабаев и Александра Архангельская написали книгу о самых интригующих загадках Чёрного континента. Удивительные обычаи народов Африки, малоизвестные страницы их истории, религии, культуры, искусства, архитектуры — уникальный авторский материал по своей стилистике и охвату информации не имеет аналогов в современной русскоязычной литературе.
ИНИЦИАЦИЯ, СВАДЬБА И ПОХОРОНЫ С рождения жизнь человека связана с семьёй — его самыми близкими
людьми являются родители. Но в Африке семейные узы противоречат
общинным, и уже с раннего детства их начинают ослаблять. Прежде
всего, человек должен чувствовать себя членом своего рода, «большой
семьи», где отцом для него является любой родич старшего поколения.
Во многих языках Африки нет даже терминов «дядя, дедушка», их называют папой так же, как и родного отца. До двух-трёх лет ребёнок проводит всё своё время в непосредственном контакте с мамой — как правило,
у неё на спине, сидя в специальном платке, сравнимом с модным ныне
слингом, обвязанном вокруг материнской груди, из которого его достают
только для того, чтобы покормить или помыть. Любой африканец знает страшные сказки о том, как мать оставила люльку с сыном на ветке
дерева и её утащил злой дух, гном или колдун, так что даже во время
тяжёлого физического труда матери боятся снять со спины свою драгоценную ношу. Проведя на маминой спине два года, ребёнок спускается на
землю и начинает ходить в тот же день. Но кормить его грудью мать будет
ещё несколько лет, чтобы тем самым сэкономить на покупке продуктов.
В некоторых культурах ребёнок кормится материнским молоком до шести-семи лет, причём к этому времени он уже имеет несколько младших
братьев и сестёр.Ребёнок довольно мало общается со своим отцом — в Африке дети целиком находятся на попечении матери, тем более что у многих народов
муж выстраивает себе отдельную хижину и с женой не сожительствует.
Он будет приходить к семье лишь изредка по вечерам, чтобы провести
ночь с супругой, в остальное же время будет спать отдельно — или же
с другими жёнами.Становясь старше, ребёнок начинает приобщаться к коллективному труду. Игры, в которые играют африканские дети, почти всегда имитируют
жизнь взрослых: мальчики изображают охоту или строительство хижин,
девочки стирают платочки в реке, «понарошку» сажают в поле маниок или
учатся носить на голове ведёрки воды. Скотоводы лепят для своих детей
глиняные фигурки быков, а охотники строгают маленькие ружья из дерева или щит из кокосового ореха. Сегодняшние игрушки небогатых африканцев, особенно в сельской местности, удивительно разнообразны — как
раз потому, что в их распоряжении нет фабричных продуктов. Здесь можно встретить машинки из ржавых консервных банок, кукол из полиэтиленовых пакетов и кусочков ткани, игрушечные домики из старых канистр
и футбольный мяч, связанный из тростника или вручную сделанный из
сока каучуковых деревьев. Хотя в последнее время наплыв китайских товаров вытесняет самобытность и в самых отдаленных частях континента.Детей стараются вовлечь в работу матери, отца и дяди, и постепенно они
усваивают навыки труда взрослых. Тогда же впитываются и представления о ценностях: например, у скотоводов Восточной Африки, буквально
обожествляющих свой скот, в возрасте пяти-шести лет каждый мальчик
получает в подарок молодого бычка, о котором он должен ежедневно заботиться. Бычок носит то же имя, что и ребёнок, и они воспринимаются
как родные братья. Этот бык на многие годы будет для подростка едва ли
не ближе, чем его настоящие братья.Именно в этот период, в возрасте пяти — семи лет, у некоторых народов происходит то, что в литературе именуется инициацией, — посвящение во взрослые члены общины. По всей Африке существуют сотни
разновидностей процедуры инициации, разнится и возраст, при котором дети проходят их (от года до 20 лет), но их роднит одно: стремление
общины прервать опеку родителей над подростками, обучив последних
социальным нормам жизни в рамках общины. Разрыв с миром детства
иногда бывает болезненным, хотя в сегодняшней Африке он проходит
обычно весьма формально. Чаще всего для перехода во взрослую жизнь
подростки проводят некоторое время в изоляции от родных, в специальном лагере в лесу или в саванне, где жрецы или старейшины преподают
им уроки поведения в общине, навыки религиозного поведения, семейной жизни, основы мифологии и истории племени. Внешний мир для
них как бы перестаёт существовать, они умирают, отделяются от своего
прошлого, чтобы переродиться вновь для будущего, где родными для
них будут все члены общины, не только родители. Они участвуют в специальных церемониях и таинствах, призванных оказать сильное впечатление на ребёнка до конца дней, беседуют со старейшинами и проходят
практику «взрослой жизни», куда нередко включается обучение и хозяйству, и войне, и религии, и сексу. После проведения всех обрядов ребёнок
прощается с семьёй и становится членом общины — для этого ему иногда
присваивается и новое имя.Однако никакая инициация не может обходиться без тяжёлых испытаний, которые придётся пройти подростку. Для начала это может быть длительный, до месяца, период воздержания от нормальной пищи, нередко
почти без сна, с изнурительными физическими упражнениями или ритуальными танцами. В некоторых племенах инициируемые вынуждены проводить целые дни в темноте или в молчании, испытывать физическую боль,
голод и изнеможение, символизирующие смерть и последующее воскрешение в ином мире. У догонов Мали мальчики бегают наперегонки, развивая немыслимую скорость, потому что верят, что прибежавшего послед-
ним ночью сожрёт питон. А хамар в Эфиопии обмазывают юношу навозом
и дают трижды пробежать по спинам девяти быков, ни разу не оступившись. У народов Западной Африки дети получают надрезы на щеках или
на лбу, которые навечно определяют их принадлежность к племени. В Восточной Африке девочкам подпиливают зубы, прокалывают уши или нижнюю губу, куда будет вставлено что-нибудь вроде знаменитого глиняного
диска, о котором мы уже рассказывали в главе «Народы и языки». Никакой анестезии, кроме затормаживания реакции с помощью монотонного
пения или ароматического дыма, не применяется. Но ещё чаще, чем операции на лице, инициация предполагает операции на половых органах.По всей Африке чрезвычайно распространено обрезание мальчиков,
которое засвидетельствовано уже в Древнем Египте. Сегодняшнее ритуальное обрезание иудеев и мусульман Ближнего Востока ещё в древности
было заимствовано именно у египтян. Оно продолжает практиковаться
в Африке и мусульманами, и христианами, и носителями традиционных
верований. Хотя некоторые учёные полагают, что обрезание призвано
спасать мужчину от инфекционных заболеваний жаркого климата, гигиенические истоки этого обряда так и не были вразумительно доказаны,
зато хорошо известно, что от инфекций, вызванных ржавыми ритуальными ножами и грязной «священной» водой, в Африке продолжают умирать
тысячи инициированных детей.По сей день врачи и учёные всего мира безуспешно борются с женским
обрезанием, применяемым в большинстве стран Африки к северу от экватора. Обычно оно заключается в том, что девушке удаляют клитор, рассматриваемый в африканской мифологии как ненужное «мужское начало» в женщине. Нередко обрезанию подвергаются и половые губы, в некоторых ритуальных случаях они и вовсе сшиваются между собой, что навсегда лишает
женщину возможности вести какую бы то ни было половую жизнь и иметь
детей. Особенно распространён этот древний обычай в Египте, Судане,
Эфиопии и Сомали, а в Западной Африке — в Мали, Гвинее и Сьерра-Лео-
не. Всего в Африке, по данным Всемирной организации здравоохранения,
остаётся не менее 100 млн женщин, подвергшихся операциям обрезания.Обычай этот, отвергаемый сегодня и исламом, и христианством, объясняют по-разному, в том числе и необходимостью лишить женщин либидо
и, следовательно, желания изменять мужу. В мусульманских странах его
объясняют религиозными предписаниями, и неграмотные женщины лишь
много лет спустя узнают, что в Коране нет ни слова про женское обрезание.Из рассказа эфиопской девушки: «Амхарцы [т. е. власти] пытаются заставить нас отказаться от древних традиций, но я сама просила бабку, чтобы мне сделали обрезание.
Если бы я не сделала этого, я бы на всю жизнь оставалась грязной, как животное, и все
вокруг дразнили бы меня, называли диким животным. А сейчас я стала настоящей
женщиной, как моя мать и моя бабка, как все мои подруги».Несмотря на то что обрезание клитора обрекает женщину на вечные физические мучения при взаимодействии с мужчиной и начисто лишает всякого удовольствия при этом, несмотря на целый букет смертельных заболеваний и резкий рост угрозы бесплодия, многие африканки добровольно
идут на обрезание и даже активно противодействуют усилиям правительства отучить их от этого. Необрезанные девушки считаются развратными,
нечистыми, в сельских общинах у них не будет шанса ни выйти замуж, ни
сохранить уважение соплеменников. Женщина с клитором, полагают в Судане, неминуемо станет проституткой, хотя по статистике из 100 суданских
проституток 85 как раз обрезаны. А женщины в Сьерра-Леоне, отправляясь под нож местного целителя, уверены, что из клитора со временем вырастет огромный мужской член, если его вовремя не обрезать. В тех районах континента, где половые органы девушек зашивают, чтобы сохранить
их девственность до брака, мужьям приходится нередко резать собственную жену ножом, потому что идти с этим к врачу считается позором.Инициация, свадьба и похороны — три главных события в жизни общины, и каждое из них жёстко регулируется традициями. Даже и сегодня,
проживая в крупных городах, африканец не отрывается
от корней и должен отправиться в деревню своих предков,
если получит известие о предстоящем празднике. Ритуалы прописаны до мелочей, и за их соблюдением ревностно следят старейшины деревни.Существенно то, что и свадьба, и похороны требуют
от семьи громадных имущественных жертв. Например,
похороны отца семейства должны сопровождаться таким количеством угощений, жертвоприношений и церемоний, что могут разорить даже зажиточного человека. Сотни людей — социальные родственники — должны в течение нескольких дней кормиться буквально на
убой, богатые жертвы будут принесены духу умершего
и его коллегам — духам предков. Нередко хозяину торжества приходится брать банковский кредит под залог
недвижимости, резать или распродавать весь свой скот,
только чтобы обеспечить пышные похороны по неписаным законам своего народа. С помощью таких обычаев
добровольно-принудительной раздачи накопленного
община искусственно поддерживает своеобразное равенство между своими членами. Да, соседи всегда помогут и не допустят разорения семьи
покойного, но когда-нибудь потребуют помощи взамен. Отказаться же от
расточительных похорон при этом совершенно невозможно — это будет
равносильно оскорблению всей деревни, обычаев отцов и дедов, и уж, конечно, это сильно не понравится духам.В некоторых культурах культ похорон принимает своеобразные формы. На юге Ганы
существует обычай изготовлять «говорящие гробы», которым придаётся особая форма
в соответствии с профессией усопшего. Если он был рыбак, его положат в гроб в виде
улыбающейся рыбы, а бармен упокоится в деревянной пивной бутылке. Весьма распространены гробы в виде автомобиля, плода маниока или папайи.Свадьба тоже не может остаться кулуарным событием, «только для
близких» — на неё созываются вся деревня, родственники из города, из
соседних общин. Её подготовка, помимо приготовления угощения на сотни гостей, включает сбор средств для выкупа невесты, который может достигать немыслимой для рядового африканца суммы в несколько тысяч
долларов. Впрочем, семье невесты не придётся воспользоваться этими
деньгами для повышения благосостояния — часть средств сразу же уйдёт
на церемонии в честь духов, а часть будет отложена на ближайшие похороны или сватовство собственного сына.В современной Африке большинство молодых людей, живущих в городах, выбирают себе невесту и жениха самостоятельно. Однако и здесь
существуют свои ограничения, так как родители и родственники могут
с неодобрением воспринять жениха, принадлежащего к иной религии или,
ещё хуже, к иной народности, ведь многие этнические группы в Африке
находятся в глухой вражде во много раз дольше, чем Монтекки и Капулетти. В сельской местности решение по-прежнему принимает община: родители жениха и невесты заключают между собой договор, освящённый
согласием деревенской верхушки. Иногда такая договорённость существует, пока жених и невеста ещё не научились даже ходить, и со временем
их ставят перед фактом. Пренебрежение мнением соплеменников может
повлечь за собой утрату общинной взаимопомощи, которой африканец
очень дорожит, ведь она означает помощь не только живых, но и духов.
Разумеется, в таких условиях брак по собственному выбору является привилегией лишь обеспеченного человека, не обременённого к тому же чересчур серьёзным отношением к традициям, а это
весьма сложно даже при наличии хорошего западного образования.В то же время глобализация и взаимопроникновение культур играют не последнюю роль, и количество межрасовых браков продолжает расти.
Собственно, в Африке они никогда не были редки: в Древнем Египте жили люди белой и чёрной
расы, а цивилизацию суахили, зародившуюся ещё
два тысячелетия назад, можно назвать результатом смешанных браков между арабами, иранцами,
индийцами и коренными африканцами. Смешение
рас происходило веками на Мадагаскаре и в зоне
Сахеля. В эпоху колониализма активная метисация
населения происходила в португальских колониях —
Анголе и Мозамбике, а большинство населения Кабо-Верде сегодня — потомки именно смешанных браков. Большое количество одиноких белых
женщин, преимущественно француженок, продолжает прибывать в Африку в поисках молодого мужа, а русские и украинские невесты с готовностью пополняют гаремы по всей Северной Африке. Метисы попадаются
и среди глав африканских государств: нынешний президент Ботсваны Ян
Кхама — сын белой женщины.Ранние браки, несмотря на борьбу с ними государства и международных организаций, остаются общепринятыми в ряде регионов. Народы
манден в Западной Африке цитируют пословицу о том, что «ранний брак
убивает распутство», и считают, что, если молодую девушку своевременно не выдать замуж, она неизбежно вскоре забеременеет. В результате,
например, средний (!) возраст невесты в Нигере пятнадцать—шестнадцать лет, ничуть не лучше ситуация в соседнем Мали. Ещё в середине
XX в. для эфиопов нормальным считалось выдать девочку замуж в двенадцать—тринадцать лет. Для родителей это способ сбыть с рук лишнего
едока, а если подворачивается случай, сделать это ещё и за хороший выкуп, да в богатую семью… Но и бедняк может рассчитывать на молодую
супругу: крестьянин, например, заключает брачный договор с родителями четырёхлетней девочки и до момента её созревания должен работать
на них по хозяйству. Первая же менструация дочери означает неминуемую свадьбу. Таковы традиции, и борьба с ними требует времени, но
постепенно изменения происходят, и брачный возраст в Африке растёт.
В Намибии, например, даже в традиционных общинах средний возраст
замужества превышает двадцать шесть лет, так что проблема ранних браков здесь не возникает.Добрачные половые связи в Африке не являются строгим табу — в некоторых обществах они даже поощрялись. Среди исповедующих ислам туарегов такая практика описывалась ещё пару десятилетий назад. Однако
нет ничего хуже, чем добрачный ребёнок, родившийся прежде, чем родители получили общественное согласие на брак. Это наибольший позор для
девушки, и за подобный проступок ещё недавно можно было с лёгкостью
лишиться жизни. В Уганде безвременно родивших девушек отправляли
в одиночестве на микроскопический островок посреди озера Буньони, где
оставляли на голодную смерть. Ребёнок отходил её родителям, а мужчина — виновник трагедии — отделывался лёгким порицанием. Когда мы
слышим призывы некоторых африканских и западных учёных о «возвращении Африки к традиционной культуре», нам хочется верить, что речь
идёт не об этой изуверской практике.
Иван Зорин. Зачем жить, если завтра умирать
- Иван Зорин. Зачем жить, если завтра умирать. Три измерения. Ясновидец. — М. : РИПОЛ классик, 2015. — 448 с.
В новую книгу Ивана Зорина вошли три произведения: роман «Зачем жить, если завтра умирать» об одиночестве, изоляционизме и обществе, которое настигает при всех попытках его избежать, роман «Три измерения», в котором герой находит свое продолжение в персонажах виртуальной 3D игры, и повесть «Ясновидец», отсылающая к событиям начала прошлого века, увлечениям экстрасенсорикой и развитием своего интеллекта.
ЗАЧЕМ ЖИТЬ, ЕСЛИ ЗАВТРА УМИРАТЬ
ВОЙНА Его зовут Антон Лецке. Месяц назад он взял меня за локоть и предложил его убить.
— Зачем? — удивился я.
— Со скуки.
Это произошло после психологического тренинга, который я провожу, и мне подумалось, что он предлагает ролевую игру.
— Скука не самое страшное. С ней можно бороться и по-другому.
— Как?
Его вопрос поставил меня в тупик. Но я опытный преподаватель, и мне платят за рецепты на все случаи жизни. Он слушал внимательно, глядя мне в переносицу. Когда я дал пару советов, как бороться со скукой, он меня перебил:
— Вы не поняли, речь не обо мне. — Беззвучно пошевелив губами, он вынашивал какую-то мысль, а потом ошарашил: — Тогда, может, убить вас?
Психолог во мне мгновенно умер.
— С какой стати?
Он оскалился.
— Да вам же всё надоело!
— Что всё?
— Ну, всё это!
Он обвел вокруг рукой. На курсы приходят разные, бывает и сумасшедшие. Я выдавил улыбку.
— У меня до этого ещё не дошло. Впрочем, я подумаю.
Мы расстались, как воспитанные люди, понимающие юмор. Нет, он не сумасшедший. Я вспомнил, что Лецке — мой давний слушатель, который садится обычно на заднем ряду и всё занятие прячется за чужими спинами. До этого он был совершенно незаметен. К чему его странное предложение? Из головы не выходил насмешливый взгляд, которым он проводил меня. Дома, однако, я совершенно успокоился. А на другой день все забыл.
Занятия проводятся два раза в неделю. На следующем он бесцеремонно взял меня за лацкан пиджака.
— Надумали?
Я замялся.
— Пока ещё нет, такое со мной происходит впервые.
— Так в жизни все происходит впервые. И смерть.
Опять тот же насмешливый взгляд. Этим он меня доконал, теперь я не мог отступать. К тому же во мне проснулся бес.
— А, валяйте! Только давайте в обе стороны: вы убиваете меня, я — вас.
Он ухмыльнулся, словно и не сомневался в моём согласии. Зачем я так поступил? В глубине я не сомневался, что это розыгрыш. И всё же зачем? Чтобы пощекотать нервы? Или правда со скуки?
— А не боитесь, что вас загребет полиция?
Он опять ухмыльнулся:
— Сделаю всё по-тихому. И глазом не моргнёте.
В нём было что-то пугающее, и я уже пожалел, что согласился. Сроки мы не оговаривали, но, глядя на удалявшуюся спину, я почувствовал холодок на своей.
Дома, однако, я расхохотался. Это наверняка блеф. Я вспомнил сутулую фигуру, мятый пиджак. Ну, какой из него убийца? Заварив кофе, я взял с полки книгу. Но, прочитав страницу, поймал себя на мысли, что не помню прочитанное. А вдруг он всерьёз? Но не всё ли равно? Мне пятьдесят, и я одинок, как собственное надгробие. Лецке прав, мне всё осточертело. Но откуда он знает? «Жизнь одна, а у каждого своя», — пробормотал я бессмысленную фразу. Мне стало страшно. Отложив книгу, я зашагал из угла в угол. Потом заварил ещё кофе. А вдруг это не блеф? Опасность вспыхнула красным огоньком на краю сознания, не давая расслабиться. Остаток вечера я думал, какие принять меры.
Прошла неделя. На занятиях Лецке не появлялся, и я уже выбросил наш договор из головы.
День был не для смерти, ранняя весна, на сосульках играло солнце. Я спускался в метро и думал, что москвичи не успели переодеться по сезону. Лецке вырос сбоку на последней ступеньке и, коротко замахнувшись, пырнул меня ножом. Но я был начеку.
— Грубая работа! — схватил я его за руку, отстёгивая под рубашкой широкий металлический пояс. Он выдернул руку и, что-то буркнув, растворился в толпе.
Теперь я понимаю, Лецке не остановится. В пятьдесят уже неприлично цепляться за жизнь, но я хочу, чтобы полиция знала, что произошло, если найдёт мое тело.
Меня зовут Владислав Мезряков. Я живу в Сокольниках.
Помолчав несколько секунд, Владислав Мезряков назвал адрес, потом, щёлкнув мышью, выключил веб-камеру. Переписав своё признание на флэшку, сунул её в карман.
Антон Лецке, худощавый, с высоким лбом, на котором уже наметились залысины, жил с женой и несколько раз лечился от депрессии. «Зачем жизнь, если есть смерть?» — задавал он врачам один и тот же вопрос. Вместо ответа те прописывали ему антидепрессанты. После их лошадиных доз Лецке возвращался излеченным, но жена снова вгоняла его в депрессию.
— Ты хочешь, чтобы я ходила голая? — пудрясь у зеркала, спрашивала она.
— Но у тебя же полный гардероб, — оправдывался Лецке, понимая куда она клонит.
— Лучше голой, чем в старье! — фыркала жена. И, хлопнув дверью, оставляла мужа в который раз пересчитывать в уме пособие по безработице.
Черты лица у Лецке были мягкие, женственные. Он слегка сутулился, а когда волновался, по горлу у него елозил кадык. Но он был упрям. И, вместо того чтобы устроиться на работу, записался на психологический тренинг. Ведущего он сразу возненавидел. Как игральные кости, тот перетряхивал интеллектуальные словечки, и в группе радовались, если с грехом пополам узнавали хотя бы одно из них. Лецке казалось, что Владислав Мезряков откровенно красуется, что это его рецепт выживания, способ избежать одиночества. «Позёр, — морщился Лецке за спинами на заднем ряду. — Мы ему нужны больше, чем он нам». Но слушали Мезрякова, который за это ещё и деньги получал, что было для Лецке очередным проявлением вселенской несправедливости.
— Строит из себя бог знает кого, — хмыкнул он раз после окончания занятий. Но понимания не встретил. На него покосились, предлагая продолжить беседу со спинами.
Лецке все больше злился, однако курсы не бросал. Наоборот, он получал от них какое-то мазохистское удовольствие и, возвращаясь домой, криво усмехался.
Вечерами жена Лецке смотрела телевизор. Известные любовными похождениями киноактеры рассуждали о семейной жизни, политики привычно раздавали советы, которым не следовали сами.
— Какие умницы! — восторгалась жена.
А Лецке в каждом мерещился Мезряков. «Вы лжёте! — хотелось закричать ему. — Все устроено не так, всё мерзко и глупо!» Но он только ерзал на диване:
— Да, светлые головы.
Измерив его взглядом, жена вздыхала, давая понять, что он не выдерживает сравнения. А потом вздыхала ещё раз, глубже, жалея себя, связавшуюся с неудачником, который сгубил ей жизнь.
И Лецке опять соглашался.
Москва — город победившего матриархата. Мужчины в ней умирают рано состарившимися, но так и не повзрослевшими. Матери передают их жёнам, которые, не спрашивая, делают их отцами, превращая в рабочих лошадок.
На курсах обучали поведению в коллективе. Но Мезряков, не ограничиваясь этим, позволял себе вольности. Рассказывая о психологии, он делал отступления в смежные области, и они оживляли набор правил, необходимых для успеха. Слушателям они нравились, а руководство закрывало на это глаза. Раз Мезряков говорил о беседе как бытовой форме исповеди. Соседом Лецке был лохматый угрюмый толстяк, непроизвольно напиравший плечом, сдвигая его на край стола.
— О чём он? — не выдержав, громко зашептал Лецке. — Какая, к чёрту, беседа!
Он хотел добавить, что человек для другого — река, у которой можно выговориться, а потом в неё же и помочиться. Но толстяк повернулся, будто впервые его увидел.
— Не щекочи мне ухо, выйди, скажи это всем.
Лецке смутился. Он был застенчив. Но гордость заставила его подняться.
— Что вам? — прервался Мезряков.
— Можно выйти?
Лецке не ожидал от себя такого. Ему хотелось обличать, спорить. Но вместо этого он смотрел на Мерзякова, как школьник.
— Конечно, в следующий раз не спрашивайте.
Пробираясь к двери, Лецке чувствовал на себе насмешливый взгляд толстяка. С этого мгновенья ему захотелось отомстить. Он несомненно выше интеллектуального хлыща, к которому приникли полсотни болванов! Но как это доказать? На занятиях Лецке пропускал теперь всё мимо ушей и, кусая заусенцы, думал, как унизить Мезрякова.
И вскоре его осенило.
Темой очередного занятия было всесилие современного рынка, которое, не оставляя выбора, вынуждает к себе приспосабливаться. О чём тут говорить? Но лекция Мезрякова носила бунтарский характер.
— Ницше считал, что человек стерпит любое «как», если знает «зачем». Но ему вряд ли приходило в голову, что для потомков «как» станет «зачем». — Уперев руки в бока, Мезряков расхаживал возле кафедры, производя впечатление человека, бывшего с Ницше на короткой ноге. — Прагматическая философия, породившая физику, которая как раз и отвечает на вопрос «как», отменила метафизику, веками бившуюся над вопросом «зачем». Как лучше, как удобнее, как прибыльнее. Эти задачи вытеснили цели, не оставляя ни сил, ни времени спрашивать «во имя чего?». В философском плане человечество упало в объятия (или в паутину) вульгарного эпикурейства. Сегодня философствовать не любят. Это занятие пугает. Житейские истины, повседневные заботы, обыденные слова… Забыться под их скрипучее колесо — вот рецепт счастья! Главное не сойти с оси, не допустить мыслей о смерти, не дать проникнуть внутрь вселенскому ужасу.
Лецке пристально смотрел на Мезрякова, и ему казалось, что тот упивается своей особенностью, тем, что может бесстрашно смотреть в бездну.
— Миллионы статей рассказывают нам о вещах совершенно ненужных, посвящая в тайны людей «с именем», не давая затухнуть нашему интересу к ним, актёры рассуждают о политике, футболе, религии, бизнесмены высказываются об искусстве и науке. Нашу эпоху Гессе остроумно называет «фельетонной». Главное — забыться! Согласны?
Мезряков обвёл аудиторию вопрошающим взглядом. В ответ закивали.
«И чего умничает? — подумал Лецке, уткнувшись в стол, исчерченный чернильными рисунками, которые оставляли поколения слушателей. — Мы пришли за откровенностью, а он глушит нас цитатами».
Но Мезряков блистал эрудицией, слагая попурри из избитых истин.
— Мы всецело полагаемся на разум, инструмент крайне ненадёжный и несовершенный. С его помощью мы складируем в копилке памяти знания, но в результате они, как Земля, повисают в пустоте. У них нет опоры, нет трех китов, несмотря на всю строгую аксиоматику и проверку опытом, — отсюда масса математических и физических парадоксов. В сущности, мы имеем дело с суммой наблюдений, не более того. Они мало чем отличаются от примет, мы бредём на ощупь, блуждая в хаосе разрозненных фактов, правдоподобных теорий и предположений, с которыми, свыкаясь, проводим жизнь, не отличия их от истины. Но что мы действительно знаем из того, что знаем? — Мезряков выдержал паузу. — А что нам делать с историей? Со своим временем? Мы не можем быть уверены, что кажущиеся нам усовершенствования не приведут к губительным последствиям, мы можем лишь пробовать, накапливая опыт, который для нас и есть жизнь. Но что годилось раньше, не спасает сейчас. В конце концов, устав от бесконечных метаний, мы приходим к испытанному рецепту забытья, выдумав чистый, не имеющий пределов разум, Бога, которому доступно сразу всё и которому переадресуем заботу о себе. Или выбираем другой, сопутствующий рецепт забытья — замкнувшись в супермаркете, ограничив желания потреблением, а мысли добыванием средств.
«Короче, как осознаешь, куда попал, — лучше и не жить! — переводил про себя Лецке. — Пойди и повесься!» Он обхватил пальцами шею, высунув набок язык, как удавленник. Его сосед, угрюмый толстяк, как всегда напиравший на Лецке плечом, заметив это, мгновенно отстранился.
— Наша цивилизация достигла огромных успехов. И особенно в оболванивании, — пел свою песню Мезряков. — Она не оставляет наедине с собой, она предлагает ценности как товар, не позволяя их выстрадать. Религии, путешествия, музыкальные группы — всё для тебя, только выбирай! А навязанная гонка за миллионом? К чему она? Размеры потребляемого ограничиваются телом, больше желудка всё равно не съесть. Так стоит ли охотиться за тем, что не нужно? Стоит ли принимать участие в тараканьих бегах, чтобы в качестве приза получить явные излишества?
И т.д. и т.п.
«Тоже мне, Диоген нашёлся, — думал Лецке. — Не стремиться к благополучию… А чем тогда жить?» Но против обыкновения он слушал внимательно. Ему казалось, что, в отличие от остальных в аудитории, он видит изнанку этих речей, которая сводилась к тому, что Мезряков упивается своей ролью. И Лецке решил поймать его. Он даже вздрогнул, как складно всё получалось! «Фигляр! — подумал он. — Болтать горазд, а действовать кишка тонка!» Остаток занятия Лецке решал как лучше подать своё предложение. Так, чтобы Мезряков не открутился, ведь он скользкий, этот Мезряков. Предложить сразу поохотиться друг за другом? Или предложить для начала убить себя? Лучше второе. Мезряков трус, однако гордость заставит его принять вызов.
— Счастье — это когда веришь в своё предназначение, — между тем распинался Мезряков. — Убеждённость, что надо воспитать ребенка, занять престижную должность или купить дорогую машину. И не задаешься вопросом, зачем это нужно. Или отвечаешь на него — так живут все.
Сделав паузу, Мезряков разгладил шевелюру.
«Боже, как он надоел! — снова подумал Лецке. — Все позирует, будто знает, зачем живёт».
Неожиданно для себя он с грохотом отодвинул стул и, поднявшись, демонстративно вышел. В коридоре он сел на подоконник, ожидая окончания лекции. Лецке улыбался. Да, он рассчитал всё правильно. Когда они остались наедине, взял Мезрякова за локоть, уличив его в опустошённости, в том, что и сам он не видит для себя никакой цели. Для обычного человека это, конечно, не преступление, но Мезряков претендовал на роль гуру. А тогда это выглядит лицемерием. Сцена была разыграна превосходно, Мезряков заглотил крючок. Правда, обещал подумать, но в его согласии Лецке не сомневался.
Вечером, когда жена собиралась уходить, он уже не выл от одиночества. Ему надо было многое обдумать.
— В гости? — механически спросил он, не ожидая ответа.
Каждый давно жил своей жизнью, и Лецке пожалел, что заставил жену врать.
— В театр с подругой.
Глядя, как она орудует фиолетовой помадой, слегка раскрыв рот и растягивая губы, как подводит тушью ресницы, стараясь скрыть под макияжем возраст, Лецке подумал, что у мужчин, в отличие от женщин, всё по-честному — и старость, и оргазм, и половая несостоятельность. А Мезряков больше женщина, потому что притворяется, лжёт. Но он заставит его быть мужчиной! Война, та городская война, в которую он его втянет, будет настоящей. И пусть армии противников насчитывают по одному человеку, это не помешает ей быть кровавой.
Патрик Несс. Больше, чем это
- Патрик Несс. Больше, чем это. — М.: РИПОЛ классик, 2015.
Шестнадцатилетний подросток по имени Сет, устав от непонимания и нелюбви, сводит счеты с жизнью. Но после смерти он оказывается в непонятном постапокалиптическом мире, где нет людей, изредка попадаются животные, все поросло сорняками, покрыто пылью и заброшено. Кроме того, из Америки, куда его семья переехала восемь лет назад после трагического происшествия с младшим братом Сета, Сет попадает обратно в Англию, в дом своего детства, где и произошел этот трагический случай. Постепенно он налаживает немудреный быт, но его беспокоят мучительные сны, в которых он переживает заново отдельные эпизоды из своего прошлого.
5
Сет открывает глаза.
Под ним по-прежнему бетонная дорожка, на которой он свернулся клубком, и все тело ломит от лежания на твердом.
Несколько секунд он не может стряхнуть оцепенение.
«Сет. Меня зовут Сет».
Так странно. Он будто не помнил собственного имени до этого сна — или воспоминания — или что вообще это было? Такое отчетливое, такое резкое, что даже больно. И захлестывающий поток информации тоже причиняет боль. Не только имя. Нет, не только.
Он был там на самом деле, так живо не может ощущаться ни воспоминание, ни сон. Он был там, с ними, по-настоящему. С Эйчем и Моникой. С Гудмундом, который всегда за рулем, потому что машина его. С друзьями. В тот вечер, когда они стащили Младенца Христа с газона Каллена Флетчера.
Меньше двух месяцев назад.
«Сет. — Имя ускользает, словно песок сквозь растопыренные пальцы. — Меня зовут Сет Уэринг».
Меня звали Сет Уэринг.
Он делает глубокий вдох, и в нос бьет из кустов тошнотворный запах его собственной рвоты. Он садится. Солнце поднялось еще выше. Сколько он здесь уже торчит, а еще, кажется, даже за полдень не перевалило.
Если здесь вообще бывает полдень. Если здесь существует время.
Голова трещит и раскалывается, но сквозь сумятицу ощущений, погребающих его под собой, пробивается какое-то новое и мощное, которое, оказывается, все это время никуда не девалось, но только теперь для него нашлось определение, слово. Только теперь, когда в мыслях чуть прояснилось и он вспомнил свое имя.
Жажда. Ему хочется пить. Страшно хочется, как никогда в жизни не хотелось. Жажда подбрасывает его на ноги. Колени трясутся, но он удерживается и не падает. Вот, значит, какая неодолимая безымянная сила тянула его в дом.
Теперь, когда у нее есть название, с ней еще труднее бороться.
Сет снова окидывает взглядом безмолвный, пустой квартал, укрытый саваном грязи и пыли. Узнавание, прежде едва уловимое, становится ярче, увереннее.
Да, это его улица, здесь он жил в детстве, здесь был его дом. Налево она ведет к Хай-стрит со всякими-разными магазинами, а справа — теперь он точно помнит — ходят пригородные поезда. Он даже помнит, как считал их. Перед самым переездом из этого крошечного английского пригорода на другой край света, на холоднющее побережье тихоокеанского Северо-Запада, он часто, лежа без сна в предрассветной темноте, считал поезда, будто от этого могло стать легче.
Когда кровать младшего брата у противоположной стены стояла пустая.
Вздрогнув при воспоминании о том лете, Сет гонит его прочь.
Потому что сейчас ведь тоже лето…
Он снова оглядывается на дом.
Свой прежний дом.
Это его прежний дом, совершенно точно.
Выглядит обшарпанным и заброшенным, краска на оконных рамах облупилась, на стенах пятна от прохудившихся водосточных труб, как и у всех остальных домов по соседству. Дымовая труба просела и частично обвалилась, причем уже в отсутствие хозяев, судя по кучке обломков и кирпичной крошки на карнизе.
«Как? — Сет силится собраться с мыслями, которые глушит жажда. — Как такое вообще может быть?»
Жажда ворочается внутри, как живая. Он никогда ничего подобного не испытывал — распухший язык едва помещается во рту, сухие потрескавшиеся губы кровоточат, когда он их облизывает.
Дом словно поджидает. Возвращаться внутрь не хочется, вот ни настолечко, но делать нечего. Нужно добыть воды. Попить. Входная дверь так и стоит нараспашку, как он ее оставил, выскочив в панике. Он вспоминает потрясение от увиденного над каминной полкой — как удар под дых, от которого раскрываются глаза, и ты понимаешь, в каком аду очнулся…
Но кроме камина, там еще есть столовая, а за ней кухня.
Кухня.
С кранами.
Сет медленно бредет к двери и поднимается на крыльцо — теперь он узнает трещину на нижней ступеньке, ту самую, которую так и не заделали, потому что «пустяки, успеется».
Он заглядывает в дом, и воспоминания вновь оживают. Длинный, тонущий в полумраке коридор, оказывается, тот самый, по которому он бессчетное число раз пробегал туда-сюда в детстве, скатываясь с лестницы, что едва различается в глубине. Лестница (теперь он знает) ведет к спальням на верхнем этаже, а оттуда еще выше, в мансарду.
В этой мансарде он когда-то жил. Вместе с Оуэном. Это была их с Оуэном комната до того, как…
Он снова обрывает мысль. От жажды его сгибает почти пополам.
Нужно попить.
Сет хочет пить.
Он повторяет свое имя про себя: «Сет. Меня зовут Сет».
«И сейчас я заговорю».
— Эй? — пробует он. Горло дерет от жажды, там настоящая пустыня. — Эй? — повторяет он, на этот раз громче. — Есть кто-нибудь?»
Молчание. Ни звука вокруг, только по собственному дыханию и догадываешься, что не оглох.
Он стоит в дверях, не решаясь двинуться дальше. Во второй раз войти труднее, гораздо труднее: страх такой плотный, что его, кажется, можно пощупать, — страх перед тем, что еще может ждать внутри, перед тем, почему он здесь и что это означает.
Или что будет означать. Отныне и вовеки.
Однако жажда тоже почти осязаема, и Сет заставляет себя переступить порог, снова взметая облачка пыли. Бинты-обмотки на нем уже давно не белые, на руках и ногах грязные отметины. Прошаркав по коридору, он останавливается у подножия лестницы. Щелкает выключателем — результата ноль, кнопка без толку ходит вверх-вниз. Не решаясь подниматься в темноте, не решаясь даже смотреть на эту лестницу, Сет поворачивается в другую сторону, набираясь храбрости перед тем, как войти в гостиную.
Он делает глубокий вдох — и тут же закашливается от пыли.
Но в комнату шагает.
6
Все по-прежнему, ничего не изменилось. Единственный источник света — разбежавшиеся по комнате солнечные лучи, выключатель здесь тоже не работает. Но теперь Сет отчетливо видит, что комната обставлена мебелью из его детства.
Заляпанные красные кушетки, одна побольше, другая поменьше, которые отец не хотел обновлять, пока мальчишки не подрастут и не перестанут проливать на них все подряд.
Кушетки с собой в Америку не взяли, оставили тут. В этом доме.
Но что тогда здесь делает журнальный столик, который переехал вместе с ними и должен быть за много тысяч миль отсюда?
«Не понимаю. Ничего не понимаю».
Вот мамина ваза, которая пережила переезд. А вот уродливая тумбочка, которую бросили здесь. А там, над камином…
Его опять будто бьют под дых.
Эту картину нарисовал дядя, и ее увезли в Америку вместе с частью мебели. На ней изображена истошно ржущая перекошенная лошадь с ужасом в глазах и жуткой пикой вместо языка. Дядя рисовал ее в подражание «Гернике» Пикассо, поместив лошадь на фоне разодранного в клочья неба и таких же разодранных тел.
Про настоящую «Гернику» Сету давным-давно рассказал отец, и он давным-давно все понял, но дядина бледная копия все равно оставалась самой первой картиной в Сетовой жизни — первым образцом живописи, который попытался осмыслить пятилетний разум. И поэтому она внушала куда больший ужас, чем оригинал Пикассо.
Что-то кошмарное, жуткое, истерическое, глухое к голосу разума и не имеющее представления о жалости.
И эту самую картину он видел только вчера, если «вчера» здесь еще что-то значит. Если в аду не выключается время. В общем, эту картину он видел на выходе из собственного дома на другом краю света — в последнюю секунду перед тем, как закрыть за собой дверь.
Свою дверь. Не эту. Не из кошмарного прошлого, о котором он старался не вспоминать.
Он смотрит на картину сколько хватает сил, сколько удается выдержать, чтобы превратить ее в обычный рисунок, но стоит отвернуться — и сердце часто колотится в груди, глаза отказываются смотреть на обеденный стол, который он тоже узнал, и на стеллажи, заполненные книгами, часть которых он читал в другой стране. Со всей скоростью, на которую способны ослабевшие ноги, он спешит на кухню, стараясь думать только о жажде. Прямо к мойке, без оглядки, чуть не плача от предвкушаемого облегчения.
Сет вертит краны, но оттуда ничего не течет, и он невольно стонет от досады. Еще попытка. Один вентиль не поддается совсем, другой, наоборот, прокручивается вхолостую, снова и снова, и ничего не льется.
В глазах опять закипают слезы, жгучие и едкие, слишком соленые от обезвоживания. Он так ослаб, его так шатает, что приходится наклониться, упираясь лбом в столешницу, чувствуя ее пыльную прохладу и надеясь не потерять сознание.
«Конечно, таким и должен быть ад. Само собой. Чтобы тебя мучила жажда, а воды не было. Ясное дело».
Наверное, это наказание за Младенца Иисуса. Моника так и сказала. Под ложечкой сосет при воспоминании о том вечере, о друзьях, о том, как легко и без напряга ему с ними жилось — им нравилась его молчаливость, и ничего, что из-за разницы в английской и американской школьных системах он оказался почти на год младше одноклассников, все они — но Гудмунд особенно, — как и положено друзьям, охотно брали его с собой. Даже на «богохульство».
Они украли Младенца, все прошло до отвращения гладко, выдать их мог только собственный смех, который они с трудом сдерживали. Вытащили фигурку из яслей, поражаясь ее легкости, и поволокли, едва не лопаясь от истерического хохота, к машине Гудмунда. Их так колбасило, что в доме Флетчера даже свет зажегся, когда они неслись прочь по дороге.
Но у них получилось! А потом, как и планировалось, они подъехали к дому капитанши чирлидеров и, шикая друг на друга, вытянули Младенца Иисуса с заднего сиденья.
И Эйч его уронил.
Как оказалось, Младенец все-таки был сделан не из венецианского мрамора, а из какой-то дешевой глины, разлетевшейся вдребезги от падения на тротуар. Оцепенев от ужаса, они застыли над черепками.
«Ну, все, гореть вам теперь в аду!» — заявила тогда Моника, и непохоже было, что она шутит.
В груди Сета зреет какой-то звук — он понимает с удивлением, что это смех. Он открывает рот, и смех вырывается наружу саднящим жутким хрипом, но остановить его Сет не в силах. Он сотрясается от смеха — и ничего, что его сразу мутит, а голову по-прежнему невозможно оторвать от столешницы.
Ад. Точно. Похоже, это он и есть.
Но прежде чем расплакаться снова — в каждой секунде этого смеха таятся подступающие слезы, — он вдруг осознает, что все это время до него доносится еще какой-то звук. Стоны и рев, словно где-то в доме мычит заблудившаяся корова.
Он поднимает голову.
Рев идет из труб. Из крана начинает капать грязная, ржавая вода.
Сет отчаянным рывком кидается к мойке — пить, пить, пить!
7
Вода удивительно мерзкая, металлическая и глинистая на вкус, но Сет не может остановиться. Он жадно пьет все быстрее льющуюся из крана жидкость. После десятого — двенадцатого глотка в животе начинает бурлить, и Сет, отвернувшись, извергает все выпитое обратно в раковину шумным ржавым водопадом.
Потом стоит и тяжело дышит.
Вода уже слегка посветлела, но все равно выглядит малопригодной для питья. Он ждет, сколько удается выдержать, пока стечет ржавчина, и пьет снова, уже медленнее, с паузами, чтобы отдышаться.
На этот раз вода не просится наружу. Сет чувствует прохладу, разливающуюся от живота. Это приятно, и он снова замечает, как тепло вокруг, особенно здесь, в доме. А еще душно и пахнет пылью, которой покрыто все, куда ни глянь. Руки грязные по локоть, хотя он всего лишь опирался на столешницу.
Однако ему уже чуть лучше, сил чуть прибавилось. Он пьет еще, потом еще, пока жажда не отступает. И когда он наконец распрямляется, головокружения больше нет.
Солнце ярко и горячо светит в дальнее окно. Сет окидывает взглядом кухню. Да, это она, та самая, которая вечно казалась маме слишком тесной, особенно после переезда в Америку, где на любой кухне можно стадо слонов усадить. С другой стороны, в маминых глазах все английское заведомо проигрывало американскому, и неудивительно.
Если учесть, как Англия с ними обошлась.
Он не думал об этом, уже много лет не думал. Незачем было. Кому охота бередить худшее свое воспоминание? Тем более что жизнь продолжается, ты в совершенно новом, неизведанном месте, где так много нужно освоить и столько знакомых завести…
Да, случилось ужасное, но ведь брат не погиб. Да, остались проблемы, да они своими глазами видели по мере его взросления, насколько серьезны могут быть неврологические последствия, но все же брат не умер, и сейчас он вполне стабильный, радостный, прикольный пацан, несмотря на все сложности.
Было, конечно, жуткое время, когда все опасались худшего и, оглядываясь на Сета, снова и снова повторяли, что он ни в чем не виноват, но сами-то думали…
Он выпихивает мысль прочь из головы, сглатывая комок в саднящем горле. А потом смотрит на полутемную гостиную, терзаясь догадками, зачем он все-таки здесь.
С какой-то целью? Чтобы что-то исправить?
Или просто чтобы торчать тут до скончания веков?
Потому что так устроен ад? Ты просто заперт навеки в самом страшном своем кошмаре?
Похоже на то.
Только непонятно, при чем тут эти бинты-обмотки, перепачканные в пыли, но плотно облегающие самые нелогичные части тела. Или вот вода, уже почти прозрачная, с ней тоже непонятки. Если жажда — часть наказания, почему ее можно утолить?
Вокруг по-прежнему ничего не слышно. Ни машин, ни голосов, ни шуршания, ни грохота, ни лязга — ничего. Только шум бегущей воды, который настолько успокаивает, что Сет не в силах заставить себя завернуть кран.
В желудке вдруг начинает урчать. Еще бы, его ведь уже два раза вывернули наизнанку, там совсем пусто. Не успев толком запаниковать — где, спрашивается, в аду найти пропитание? — Сет почти машинально распахивает ближайшую дверцу.
Полки заставлены тарелками и чашками, не такими пыльными, поскольку все же стояли закрытыми, но все равно чувствуется, что к ним давно не прикасались. В соседнем шкафчике бокалы и фарфор, который Сет узнает, — большая часть добралась до Америки в целости и сохранности. Он поспешно открывает следующий. Вот тут наконец-то продукты. Пакеты с крошащимися макаронами; заплесневелые коробки риса, рассыпающиеся под рукой; банка сахара, слипшегося в большой ком, который даже пальцем не ковырнешь. В ходе дальнейших поисков обнаруживаются консервы — одни проржавели, другие подозрительно вздулись, но все же есть несколько приличных на вид. Сет вытаскивает банку куриной лапши.
Знакомая марка. Эту лапшу они с Оуэном могли есть бесконечно, каждый раз в магазине прося маму купить побольше…
Нет, стоп. Опасное воспоминание. Сета снова шатает, под ногами словно разверзается пропасть смятения и отчаяния, грозя проглотить, если он посмотрит туда хотя бы краем глаза.
«Это на потом, — говорит он себе. — Ты голодный. Все остальное подождет».
Сам не веря собственным уговорам, Сет заставляет себя перечитать этикетку на банке.
— Суп, — произносит он вслух. Голос по-прежнему сиплый, но все же чуть смягчился после воды. — Суп, — уже тверже повторяет он.
Так, теперь ящики. В первом же он находит открывалку — ржавую и тугую, но рабочую — и не может удержаться от победного «Ха!».
Пробить крышку удается только с семнадцатой попытки.
— Пошли вы все! — кричит он в сердцах и давится собственным криком, застрявшим в измученном горле.
Наконец крышка поддается. Руки болят даже от такой пустяковой работы, и в какой-то момент он пугается, что просто не хватит сил докрутить открывалку до конца. Но злость не позволяет сдаться, и в результате, ценой неимоверных усилий, отверстие в крышке расширяется настолько, что уже можно пить.
Сет запрокидывает голову и подносит банку ко рту. Суп загустел и сильно отдает на вкус металлом, но куриная лапша в нем еще чувствуется. От радости Сет заходится смехом, прихлебывая вязкую жидкость.
Потом щеки становятся мокрыми, и к супу добавляется соленый привкус слез.
Допив суп, он бухает банку обратно на стол.
«Прекрати. Соберись. Что тебе нужно сделать? Что дальше? — Он слегка выпрямляется. — Как бы поступил Гудмунд?»И тут, впервые за все время, на лице Сета мелькает улыбка — робкая, едва заметная, но улыбка.
— Гудмунд пошел бы отлить, — сипит он.
Потому что именно этого организм и требует.
Юлия Качалкина. Источник солнца
- Юлия Качалкина. Источник солнца. — М.: РИПОЛ классик, 2015. — 272 с.
Роман журналиста и редактора Юлии Качалкиной об отцах и детях в современных декорациях увлекательно и иронично рассказывает о семье некогда известного советского драматурга Евграфа Дектора. Не находя понимания со своими сыновьями, герой считает, что Артем и Валя отбились от рук, а когда к ним домой на Красноармейскую привозят маленькую племянницу Евграфа — Сашку, ситуация становится вовсе патовой.
ИСТОЧНИК СОЛНЦА
СЕМЕЙНЫЙ РОМАН
Посвящается моим родителям.
…ты же, малое, неразумное дитя,
что видишь в отце своем
достойную и серьезную особу,
прочитай историю приключений…
и задумайся над тем,
что один папа не слишком отличается
от другого.Туве Янссон
Глава 1
Пренеприятное известие омрачило утро Евграфа Дектора:
за завтраком он узнал, что в Тарусу первого июня они не
поедут, а когда поедут и поедут ли вообще — неизвестно.
Пристройка к дачному дому, о которой давно мечтала его
семья, еще не была завершена, и конца этому строительному произволу, казалось, не предвиделось.— С моим мнением в этом доме вообще никто не считается! Впрочем, я это знал давно.
Скомкав салфетку и бросив ее в тарелку, он встал из-за
кухонного стола, окинул жену усталым взглядом поверх старомодных квадратных очков и, ссутулившись, ушел к себе в
кабинет, чтобы никого не видеть. Кабинет был ласков и
привычен: его стены, державшие на себе массивные железные стеллажи с книгами — с пола до потолка одни книги, —
ореховое кресло-качалка, (подарок отца), просторный
письменный стол с двумя тумбами — все это несказанно радовало глаз хозяина. И еще больше нравился ему вид из высокого окна: с седьмого этажа деревья и соседние дома казались маленькими, а небо — огромным. И ничто не мешало причудливым облакам переползать всегда в одну
сторону — на восток. Облака изо дня в день неукоснительно
двигались на восток — когда он впервые заметил это, он
уже и не помнил. Помнил только, что случилось все давно,
в те далекие времена его молодости, когда облакам он придавал гораздо большее значение, ибо был поэтом. А кто,
впрочем, им тогда не был?!На этом воспоминании Евграф Соломонович глубоко
вздохнул. А что теперь? Взгляд привлекла толстая пачка
писчей бумаги на подоконнике. В этих исписанных мелким
почерком листах, как город в руинах, лежала его последняя
пьеса, над которой он работал вот уже больше года. Не спал
ночей, договорился с издательством о выпуске сборника —
и вот, пожалуйста, срывал все сроки.Он бился с рукописью, как родитель с капризным ребенком, и не знал, как подступиться. Пробовал бросить
писать — и бросал действительно месяца на два, но потом
возвращался, пристыженный собственным поступком, и с
сизифовым упорством продолжал катить этот камень. Теперь — именно теперь, когда в Тарусе начиналось короткое северное лето, когда в его любимой Тарусе отогревался песок на тропинках и старые яблони в саду зеленели
пуще молодых… Теперь, думая об этом, он понемногу впадал в творческое беспокойство: об отдыхе не могло быть и
речи.Но забыть о комнатке на втором этаже, крохотной уютной шестиметровке окнами на озеро, где потертый гобелен на стене и письменный стол врастает в стенной проем
год от года прочнее, — это было слишком. Со злостью
вспомнив подрядчиков, которые безбожно тянули время
(и деньги), он ужаснулся своей же собственной злости.
И это — тонкий творческий человек, интеллигент в третьем поколении! А ведь злость такое категоричное и грубое
чувство. Как тут писать! Он подошел к окну, погладил рукопись морщинистой ладонью. Господи, накажи всех подрядчиков по делам их!
Евграф Соломонович Дектор был драматург. И, надо
сказать, драматург талантливый, но, увы, не слишком востребованный. Нет, он когда-то был и талантливым и востребованным одновременно: его ставили в Театре Содружества, по его сценариям снимали фильмы, его имя значилось в городских афишах… а сегодня? Сегодня он состоял
членом Московского союза писателей… а сценарии не продавались даже на ярмарке, устроенной в Интернете. Он отдал бы их и даром какому-нибудь вгиковскому пареньку с
идеей, бедному старшекурснику или выпускнику — такому,
с голодными глазами художника, — чтобы только тот взял и
наконец пустил их в дело. И именно сейчас, в эти дни. Потому что пьеса…Евграф Соломонович махнул рукой, словно какой-то случайный наблюдатель мог его пристыдить, и
отошел от окна к креслу.Он всегда знал, что будет драматургом, будет составлять
список действующих лиц, а потом играть в забавную, никогда не надоедающую игру — разговаривать. На разные голоса и знать, что кто-то его уже слушает, словно у только
рождавшейся пьесы был такой же только что рождавшийся
зритель. Он знал и поэтому рискнул поступить на режиссерское отделение ВГИКа, где по истечении пяти лет узнал
еще кое-что полезное, а именно: никаких организаторских способностей у него нет, никем он руководить не сможет (никто ему и не даст). И он, как человек, однажды
узнавший последнюю правду о себе, обрел нежданное спокойствие. Из этого спокойствия незаметно появилась
семья — точнее, Евграф Соломонович «оброс» ей.Долгое время для Евграфа Соломоновича главным чувством семейного человека было удивление: он удивлялся,
что они с Настей ежедневно приходят в один дом, вместе
едят, читают, смотрят телевизор — напоминало жизнь с
очень хорошим другом, которого, помимо всего прочего,
можно было любить.Настя родила двойню. При гомозиготном скрещивании
по седьмой хромосоме получается… в общем получилось
два маленьких почти одинаковых мальчика, одного из которых назвали Артемом, а другого — Валентином. И в этот момент Евграф Соломонович понял еще одну вещь: его теперь
стало втрое больше на этом свете. И теперь год от года будет еще и еще больше, пока однажды не произойдет увеличение в геометрической прогрессии.
— Грань, Грань, извини за беспокойство, пожалуйста,
ты яичницу будешь?Дверь в кабинет жалобно скрипнула, приоткрылась, и
в нее наполовину протиснулась Настя — теперь Анастасия
Леонидовна, врач-гомеопат со степенью кандидата медицинских наук. Она, его жена, была невысока. На ее игривой расцветки халате, доходившем до пят, умопомрачительные кролики плотоядно обнимали не менее умопомрачительных котят. Евграф Соломонович посмотрел на
всю эту живность, и в голову ему пришла мысль о непредсказуемости человеческого существования.— Насть, я не голоден. — Привычно пожевал ус, обдумывая конец фразы. — Если можно, оставь меня одного, я хочу
немного поработать. И скажи Артему, чтобы не шумел.— Артем сейчас уходит, его не будет какое-то время…
скажи, мы тебя чем-нибудь обидели?— Ой, Настя, — Евграф Соломонович начинал повизгивать, когда раздражался, — не анализируй, пожалуйста!..
Я совершенно устал от ваших сострадающих глаз! Точно у
меня что-то случилось, в самом деле!..— …но что-то случилось, наверное…
— Что могло случиться? Все случилось уже давно, когда ты нашла этих, язык не поворачивается сказать, строителей!.. Где, объясни мне, ты их нашла? Нет, не объясняй! Я сам знаю: тебе их порекомендовала Галя. Я знал,
знал!.. И что теперь?! Они станут там хозяйничать до конца лета? Да?! А мы все будем сидеть здесь, словно на привязи?! — Он пробежался по комнате. — И куда это ушел
Артем? Сегодня же воскресенье, ему завтра в институт
рано. Нет, это невозможно!…невозможно!… — Он присел
на край письменного стола и отвернулся к окну.
Настя продолжала выглядывать из-за двери, не входя
в комнату целиком. Было слышно, как тикают большие
настенные часы.— Он вернется через пару часов, Грань.
— Да, Валя тоже когда-то «возвращался», — последнее
слово он протянул намеренно, — а потом решил, что хватит. И теперь он смеется над нами, надо мной и тобой смеется…ох, Настя!..— Никто над тобой не смеется. И надо мной тоже.
Грань, они растут.— А мы стареем. Знаю я, знаю!.. почему ты все время
мне говоришь об этом?!— Все-все…ухожу-ухожу… — Настя почти скрылась за дверью, но тут же вернулась: — Грань, Галя уезжает в летний лагерь, она просила взять пока Сашу к себе.
— Сашу?
— Да, а что ты так удивляешься?
— А она не может взять ее с собой, в этот трудовой лагерь?
— Не будь занудой, Грань! Саша все-таки тебе племянница.
— Нет, она тебе племянница…
— А я тебе жена. Все, пока.
Настя затворила дверь, и звук ее шагов постепенно
стих в прихожей. Евграф Соломонович остался один.
«Безобразие! — подумал он, продолжая смотреть на
дверь, словно там еще стояла Настя. — Все-таки тишина и
одиночество не так уж вредят творчеству. Когда последний
раз я был один и мог в свое удовольствие помолчать? Наверное, очень давно. Саша ведь маленькая девочка. Ей — десять, и ей будет хотеться в парк, мороженого и не ложиться
до полуночи. И много чего еще — например, поговорить.
А о чем нам с ней говорить? Ох, дети-дети…и мои дети тоже. Валя ведь не станет с ней проводить дни напролет, у него есть, с кем напролет. Разве только Артем…»Евграф Соломонович взял со стола фотографию в деревянной, пестро покрашенной рамке и поднес к глазам: там,
на фоне сиреневого куста, обдуваемые ветром, который
всем волосы сбивает вправо, стоят они — Артем, Валя, между ними — Настя, еще совсем не седая, с короткой-короткой
стрижкой студентки-первокурсницы, она и в сорок носила
такую, и он сам, высокий, худой, в невероятной какой-то
рубашке… стоят и смеются. И все отражаются друг в друге,
и Артем с Валей все еще носят одинаковые куртки и джинсы…только вот стригутся уже по-разному. Один уже видно — либерал, другой — консерватор. Хотя глупо это все…
при чем тут политика? Он ведь вовсе не о политике думал…
Почему, собственно? Евграф Соломонович пробежался по
кабинету.«Потому что надо ехать в Тарусу». И очевиднее этого
ничего быть не могло. Он поставил фотографию обратно
на стол и посмотрел на нее с расстояния: фигурки стали маленькими, а лиц и подавно было не различить. Вот, посмотришь, бывало, как ветка жасмина гнется на ветру, как ящерица бежит по некрашеным ступеням крыльца, как дышит,
вздымаясь и опадая, занавеска в окне второго этажа, и
сразу ясно становится, почему герой подстрижен на французский манер, почему у него в кармане пусто и жена травит его мышьяком: в день по чайной ложке.Может быть, оставить к чертям драматический жанр?
Написать поэму. Детскую поэму для постановки на сцене.
Или рассказ? Нет, после успеха «Гарри Поттера» дети меня обсмеют. И Саша в первую очередь, потому что я этого
«Гарри Поттера»… не читал. Еще не читал. Коллега обещал подкинуть при встрече. А то как-то триста рублей на
книжку тратить не хочется. Перечитать «Чайку»? Перечитать и наконец разобраться с размером постановки. Положи перед собой «Чайку» и пиши — не ошибешься.
Помню-помню твой совет, папа. Только я ее уже знаю
наизусть. И хочется мне, чтобы шла она на сцене МХАТа,
а я — обычный зритель — сидел и смотрел где-нибудь в
партере, а не ежился написать размер в размер… напоминаю себе Золушкиных сестер, силившихся втиснуть ногу в
ее миниатюрную туфельку. Что ж мы все так лукавим, боже ты мой?Или «забить» на это все, как выражается Артемов друг, и
пойти преподавать в родные вгиковские стены? И кто меня там ждет? Нет… невозможно. Совершенно невозможно.* * * Тут Евграф Соломонович вспомнил, что дома нет хлеба. Значит, есть повод выбраться на улицу и дойти до магазина дворами. Длиннее пути он не знал, но в том, что ищет
именно тот, что длиннее, никогда бы себе не признался.
Он переменил брюки, надел поверх рубашки шерстяную
жилетку, взял кошелек, никем не встреченный попал на
кухню, нашел сумку и, вложив худые ступни в саламандровские ботинки, закрыл дверь снаружи своим ключом.У каждого был свой ключ, и звонком не пользовались
никогда. Спускаться на лифте — слуга покорный! Застрянешь между этажами, и тебя будут кормить сквозь щелку сосисками. Эта картина всегда столь живо представлялась ему,
что Евграф Соломонович вздрагивал при одном виде лифта
и спешил скорее спуститься по лестнице. Тем более что
спускаться было близко. Как-то один знакомый очень метко
выразил сущность здешнего подъезда. Он сказал: «Даже
плюнуть не хочется — так чисто». Но главным тут, наверное,
было не «плюнуть», а «не хочется». И в подъезде «не хочется», и уж в квартире тем более — давно перестало хотеться.
Вообще чего бы то ни было. А не только самого романтического. Хотя и его — тоже. А хлеба все-таки хотелось.Евграф Соломонович жил на «писательской» Красноармейской улице. Где-то по левую руку высилось за слегка
пооблезшими топольками здание МАДИ с неизменным памятником Эрнсту Тельману, похожим на памятник Ленину
на питерской площади трех вокзалов, у которого такие же
неизменные студенты так же неизменно — изо дня в день —
пьют пиво. Евграф Соломонович их не видел, но ему и не
нужно было: он и так знал, что они там. И он шел, негодуя
на тунеядцев: как же так? Поступить и ничему не учиться?
Не испытывать никаких интересов, кроме самых что ни
есть плотских? И ведь учатся и сессии сдают. И вот Валя
тоже как-то сдает. Но зачетку не показывает. И совсем ничего не рассказывает — даже не знаешь, дома он, нет его и
будет ли он ночевать. Поедет ли куда-нибудь?.. Сидишь и ничего не знаешь о своей семье. Можно узнать, только застав
врасплох.Евграф Соломонович привычно повернул налево, в переулок, и пошел мимо двухэтажной школы из красного кирпича. В ней три года назад танцевали на выпускном его Артем и Валя. Валя бессовестно напился. Артем тоже выпил,
но до дома дошел сам и брата довел. Валя не сопротивлялся. И после этого год в рот не брал, пока уже на втором курсе не запил вдруг по-страшному. Так, что Настя, сидя ночами на кухне, плакала. Долго и некрасиво, как плачут, когда
никто не видит и когда действительно плохо. Он возвращался пьяным в течение двух или трех месяцев подряд, а
потом так же внезапно, как начал травиться, кончил. И теперь пить не может в принципе. И иногда — есть зефир, салат с майонезом, жареную картошку, тещин лимонный пирог… ибо печень. Ибо надо было думать головой.Мимо Евграфа Соломоновича проплыла витрина местного книжного магазина с яркими бутафорскими книгами
невиданных размеров. Сколько бумаги ушло бы на такие
книги, будь они настоящими! Сколько времени нужно писать одну такую книгу! Не то что пьесу…Проехала машина, поблескивая тонированными стеклами, девочка тянула за поводок толстого щенка, который
никак не хотел переходить улицу, немолодая, но сохранившая следы былой красоты восточная женщина на углу торговала нарциссами, ветер пах теплым хлебом…Евграф Соломонович сглотнул слюну и открыл стеклянную дверь булочной. Хлеба какого угодно и сколько хочешь!
Бородинский… школьником едал с аппетитом, как же; ароматный — с вареньем, в Тарусе…о больном не будем; нарезной — с розовым ломтиком докторской поверх мягкого
желтого масла, чтоб с чмоком… и — с кофе. Крепким, черным…А теперь лишь черственький, на второй-третий день,
потому что — язва. Потому что… правильно. Думать нужно
было головой.
— Девушка, доброго вам утра. А нарезной свежий? Да?
А столичный? Тоже? Ну, что ж, три нарезных и два столичных. И еще штучек шесть булочек сдобных. Нет сдобных?
А какие есть? Давайте с корицей. И с повидлом давайте.
Тогда не шесть, а восемь. И две с маком. Все.Лента чека, капризно вереща, поползла из кассового
аппарата. Чеков Евграф Соломонович не брал никогда.— Сколько? Вот, пожалуйста. — Он отсчитал деньги, взял
сдачу, собрал покупки в пакет и пошел к выходу. Придержал дверь какой-то неведомой старушке в кримпленовом
платье — от нее приятно пахло «Красной Москвой» — и сам
вышел следом. До самого входа смотрел только под ноги.
Шаги не считал. И когда уснуть не мог — никогда никого не
считал. Ни скамейки, ни овец, ни маргаритки под их копытами. В подъезде поздоровался с одним знакомым писателем, именем которого была названа соседняя улица, но это
писателя, казалось, совсем не вдохновляло. Он выглядел
угрюмым, впрочем, на дела не жаловался. Как и сам Евграф
Соломонович. Поднялся на свой этаж, открыл дверь, закрыл и снова был дома. Хлеб унес на кухню и попутно включил телевизор. Показывали футбол. Его теперь, в сезон
чемпионата, показывали всем и везде. Даже таким, как он,
которые его ни в жизнь не смотрели. Белые и красные человечки бегали по зеленому полю, гоняя мяч. На секунду
Евграф Соломонович замер с батоном в руках в дверном
проеме: белым забили гол.