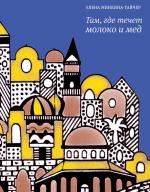- Захар Прилепин. Семь жизней. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016. – 256 с.
В Редакции Елены Шубиной выходит новый сборник малой прозы Захара Прилепина — разговор состоявшегося Писателя со своим alter ego, читателем и персонажами произведений о самом важном и трепетном.
«„Семь жизней“ — как тот сад расходящихся тропок, когда человек встаёт на одну тропку, а мог бы сделать шаг влево или шаг вправо и прийти… куда-то в совсем другую жизнь? Или другую смерть? Или туда же? Эта книжка — попытка сходить во все стороны, вернуться и пересказать, чем всё закончится», — говорит автор.
СПИЧКИ И ТАБАК, И ВСЁ ТАКОЕ
Б.Р.
У перил стоял мальчик, следил за пустотой и ненастьем.
Жека Павленко нашёл меня возле памятника Чкалову.
Здесь, на возвышении, возле кремлёвской башни, с видом на слияние Волги
и Оки, даже в июльскую жару бывало прохладно, а в начале мая… В начале мая знобящий ветер дул отовсюду
и будто ликовал от своей вседозволенности. Девушки
в свободных платьях сюда даже не подходили. Шляпы
с полями невозвратно улетали на тот берег. Вид самой
воды вызывал предчувствие простуды, гриппа, ОРЗ.Но Павленко — как только его не забрали в участок, — был в нелепой и слишком свободной накидке;
я попытался, пока он подходил, разобрать, чтó это на
нём, и первое, самое нелепое предположение оказалось верным: Жека напялил на себя плотную, не очень
длинную штору, сделав каким-то относительно острым
предметом отверстие для головы.Хорошо ещё, штора была одноцветная: зелёная.
Он ловко перепоясался не разбери чем, но, тем не
менее, руки его были голы до плеч, и мало того, с обоих боков просматривалось тонкое, сильное, с несколькими наколками и с несколькими шрамами белое тело.Ему было не холодно и, кажется, весело.
Я сморгнул и закрыл, наконец, рот.
— Жека, это что? — спросил я негромко и озираясь:
жандармерия уже должна была лететь к нему наперегонки.— Чтó это, чтó это, — передразнил с деланным неудовольствием Павленко. — Тó это, — и он больно
ткнул меня пальцем в грудь. — Тепло тебе? На тебе
мой свитер!Павленко приехал вчера в Нижний из своего Питера, домой к себе я его не мог позвать: мы жили с женой,
маленьким сыном и тёщей в крайне ограниченном
пространстве — спать товарищ смог бы у нас только
стоя в углу; поэтому я снял ему номер в самом дешёвом
отеле, конечно же, на свои деньги — у Павленко их не
было; и, кстати, оформил ночёвку на своё имя — паспорт у него тоже отсутствовал.Вечером мы естественным образом напились —
разложив в его номере на кровати несколько яблок
и кусок сыра. В комнате было душно, курили не переставая — так что под вторую бутылку водки мы оба,
по-братски, разделись до пояса, и, в общем, когда за
полночь пришло время расставания — я случайно натянул свитер Павленко: у меня был такой же, военного
образца, чёрный, с горлом, поношенный, но дома.Очнувшись утром, приехавший в одном свитере на
голое тело и не имевший никаких сменных вещей вовсе, Павленко понял, что ситуация хоть и не трагична,
но и не проста: моего телефона у него не было, потому
что никто из нас телефонов в те времена не имел,
и даже адреса моего он не знал.К тому же, номер надо было оставлять: отчего-то
я думал, что снял комнату в отеле до 12, но оказалось —
до 9 утра.— Давай раздевайся, — велел мне Павленко у памятника Чкалову.
Поделиться одеждой, к тому же не своей, было
в моих возможностях: я пришёл в куртке, а под свитером у меня была чёрная безрукавка.Мы отошли поближе к стенам нижегородского
кремля.На нас косились, но мы быстро совершили задуманное. Я остался в майке и в куртке, Павленко обрядился
в свитер, который ему очень шёл. Штору свою он выбрасывать не стал, но накинул её на плечи.— Пончо, — сказал он. — Полезная вещь.
Я, наконец, засмеялся. Это было смешно.
— Как ты меня нашёл? — спросил я сквозь смех.
— Кто тебе сказал, что я тебя искал? — сказал Павленко в своей необидной, вполне дружеской, смешливой манере.
Голос у него был самоуверенный, пацанский, высокий, чуть скрипучий, лицо казалось бы интеллигентным — тонкие губы, тонкий, прямой нос, удлинённый
череп, — когда б не наглые его повадки, и дерзкий
взгляд, и бритая наголо голова.— Тебя там эта тётка на ресепшен — не заметила? —
поинтересовался я.— Заметила, — сказал Павленко серьёзно, глядя на
меня своими светло-голубыми глазами. — Но, думаешь,
было бы лучше, если б я отправился на улицу голый?— Так она поняла, что ты штору надел? — допытывался я.
— Откуда я знаю, — отмахнулся Павленко. — Она,
знаешь, откинулась на спинку стула и смотрела на
меня, вся… очарованная. Я поздоровался, а она нет.
Провинция, словом.Мы ещё немножко посмеялись.
— И что ты здесь делаешь? — спросил Павленко, щурясь на воду, порт и храм Александра Невского. — В такую рань?
Чуть растерявшись, я пожал плечами:
— Шёл к тебе.
— Ты же не шёл, ты стоял, — заметил Павленко.
— Я тут с ребёнком гуляю, — ответил я несколько,
как сам сразу понял, невпопад.— И где ребёнок? — спросил, продолжая потешаться,
Павленко, то оглядывая меня со всех сторон, то озираясь по сторонам. — «Ой, дома забыл»? Или в автобусе?— Что ты пристал, Павленко, — в шутку рассердился
я, — мало ли что делаю. Смотрю… Стихи читаю. Я часто сюда прихожу.Павленко вскинул умные глаза и совершенно серьёзно кивнул головой: ответ его неожиданно удовлетворил.
— Есть курить? — спросил он.
Из протянутой пачки Павленко извлёк сразу две
штуки и одну засунул за ухо.— А спички?
Я дал коробок.
Павленко потряс его: проверил на слух, есть ли там
что.— Что за книжка у тебя в кармане? — поинтересовался он.
— Так стихи ж, говорю, — ответил я и добавил речитативом: — «…А в походной сумке спички и табак, Тихонов, Сельвинский, Пастернак».
— Что, правда?
— Ну… Не совсем. А в походной сумке план такой —
Гумилёв, Есенин, Лу-го-вской.Павленко ещё раз кивнул. Видимо, компания убитого, самоубившегося и серьёзно обломавшегося на
своём жизненном пути русского поэта его удовлетворила.— Как жить без курева и денег, в одном лишь пончо
на ветру, — процитировал он неведомо кого, и без перерыва поставил строгий вопрос: — Кормить будешь
меня?*** — Значит, нет? — спросил Жека в кафе, помешивая
пельмени в горшочке и не глядя на то, как я разливаю
беленькую.Пончо висело на стуле. Конь здесь оказался бы вполне уместен.
Павленко был питерский нацбол со стажем, фигурант как минимум восьми уголовных дел по разнообразному злостному оппозиционному хулиганству,
яростный «левак», безусловный русский империалист,
и посему в государственных понятиях того времени —
гулёбщик, негодяй.Читатель русской поэзии, Юнгера, Селина, «Путешествие на край ночи» было любимой его книжкой,
я знал.Он был воцерковлён, соблюдал все посты, когда-то
успел выучить французский язык и зарабатывал на
жизнь, обучая французов, зачем-то приехавших в Питер, русскому.Мы расположились в одной из кремлёвских башен,
двухэтажное кафе так и называлось — «Башня», место
нам нашлось на втором.Кафе изнутри было каменным, стены — красный
булыжник, и оттого здесь всегда царила подвальная
прохлада: летом в такой обстановке хорошо, весной не
очень. Но мёрз из нас двоих только я. Жеке было привычно жарко.— Нет, Жек. Я год назад снял форму и больше не
стреляю. И оружия у меня нет. Поэтому оружия я не
дам, и заниматься его поисками тоже не стану.Жека кивнул безо всякой обиды.
— А мы думали, ты привёз с чеченской, — просто
сказал он.Я промолчал. Я уже говорил ему, что не привёз.
— Где будет новая война? — спросил я, чтоб не обсуждать всё это позже в нетрезвом виде.
— Везде будет, — сказал Павленко, улыбаясь. —
В Казахстане, на Украине, в Прибалтике. Здесь.— Это понятно. Но всё это когда-нибудь после. А в ближайший раз?
Павленко пожал плечами, как будто не знал. На самом деле, конечно, знал.
Подняв рюмку, он по слогам повторил первый из
предложенных им вариантов.Впервые я обратил внимание, что слово «Казахстан», произнесённое без звука, напоминает три вздоха рыбы. Или три вздоха пловца, который собирается
нырнуть очень глубоко.Жека и наши сотоварищи нацболы готовились повоевать на севере соседней азиатской республики.
Они находили, что там их ждут многочисленные, потерявшие в правах, русские люди, и поддержат.Затея казалась мне замечательной — вроде прыжка
со скалы; но прыгать на этот раз я не хотел, и даже не
собирался этого скрывать.В 25 лет для меня потеряла привлекательность перспектива ранней смерти. Ощущение это, ещё совсем
недавно мне не слишком свойственное, пришло неожиданно, словно у меня заработала какая-то новая
часть сознания, до тех пор не игравшая никакой роли
и спящая.Жеке, похоже, было безразлично происходящее со
мной: возможно, он считал, что я имею право не заниматься тем, чем он хочет заняться, раз я достаточно долго занимался этим совсем недавно, а он ещё никогда.— «…А в походной сумке… спички и табак…» Как
там? — переспросил Павленко, протягивая руку с зажатой меж большим, указательным и средним рюмкой.
Лицо его лучилось. Зубы у него были хоть и не очень
мелкие, но частые. Рот — наверное, из-за впалых каторжанских щёк, — казался крупным.— А в походной сумке… где-то там… Маяковский,
Хлебников, Мандельштам… — закончил я.Мы чокнулись, синхронно закинули головы и забыли обо всём этом.
Я, когда проглотил водку, зажмурился. Павленко,
наоборот, раскрыл глаза.Глаза его были в красных прожилках: много алкоголя, мало сна.
Я подумал, что у меня то же самое с глазами. И чёрт
бы с ним, пройдёт — жизнь огромна; по крайней мере,
моя.Я быстро и с удовольствием ел пельмени.
Мы выпили по второй, и сразу же по третьей, словно догоняя кого-то. Тем более что рюмки были непривычно маленькие.
— Зачем тебе так много стихов? — спросил Павленко, медленно пережёвывая чёрный хлеб.
На кухне кто-то уронил пустой поднос.
— Я знаю, зачем они мнé, и вот спрашиваю у тебя, —
повторил Павленко, потому что мы оба забыли, что
я ответил.— А что ещё… — неопределённо говорил я. — А чем
ещё…Отодвинув нелепые рюмки и разлив в гранёные,
предоставленные под воду, стаканы, — мы нырнули —
и вынырнули с той стороны радуги.— …всякий новый поэт растёт изнутри поэзии, он
где-то там, в глубине, насыщается, наполняется, а потом — если хочешь на него взглянуть — его можно выловить, — объяснял я Жеке. — Одна строчка Державина, одна строчка Анненского, одна строчка Блока —
это как вытаскивать сеть, — ещё строчку Слуцкого,
и вот он уже — показался, этот новый, долгожданный
стихослагатель: торчит на поверхности своей беспутной головой. Бьёт хвостом. Ты найдёшь его по следу на
воде… России обязательно нужен один поэт. Один святой, один вождь. Нужен.Павленко соглашался.
— И ещё оружие, — говорил он. — Ещё нужно много
оружия. Десять стволов как минимум.Под воздействием алкоголя он покрывался даже не
пятнами, а красными полосами — как будто, к примеру, спал на досках; или злая женщина несколько раз
ударила его перчаткой, а он при этом смеялся.Покинув «Башню», оставив по бедности на чай
только медь, мы вышли к автобусной остановке и сели
на первый попавшийся автобус: я решил показать
Жеке набережную, воду, вид на нижегородский кремль
снизу.Вместе с нами в автобус забралась примерно в той
же степени, что и мы, поддатая мужицкая компания:
трое парней, расхристанно одетых — какие-то куртки
из кожезаменителя, дешёвые свитера, грязная обувь.Я обратил внимание на одного из них: моего возраста или чуть старше меня, чуть ниже ростом; со шрамом, дугой — от носа и вниз, на левой щеке. Глаза его
имели необычный — сиреневый — цвет. Кепку он
сдвинул на затылок, из-под кепки выбивались рыжеватые мягкие волосы. Куртка на нём была расстёгнута.
В руке он держал початую бутылку пива.Тип был улыбчив и, наверное, при определённых
обстоятельствах опасен.Мы с Жекой встали в конец салона.
Двое из компании, в том числе и этот, со шрамом,
рыжий, уселись на ближайшие сиденья. Третий стоял
к нам спиной и что-то, нескладно жестикулируя, рассказывал. Иногда его вело в сторону, и тогда парень
с рыжиной, не глядя, ловил товарища за куртку и выравнивал.— Подлянка какая… Правда?! — переспрашивал он,
улыбаясь, рассказчика, и время от времени быстро поглядывал на нас.Я решил для себя, что он ищет повод поссориться.
Ещё до того, как мне пришло в голову похлопать по
левому карману, проверяя, на месте ли кастет, я вспомнил, что выложил его дома: может, за Павленко уже
ходят спецслужбы — зачем же мне ловиться с этой
штукой. В кармане у меня лежала только книжка со
стихами. Из кармана виднелась часть корешка.Когда рыжий улыбался — его, через щёку, шрам
создавал странное ощущение: словно улыбка змеилась и двигалась по лицу. Или это сказывалось моё
опьянение.Иногда он отрывисто, очень уверенно, но, пожалуй,
не вызывающе смеялся в голос: не столько, казалось,
рассказам собеседника, сколько своему алкогольному
возбуждению.Я поймал себя на том, что всякий раз отворачиваюсь, боясь убедиться, что он смеётся надо мной или
над нами, хотя это было не так.Но вообще ситуация не слишком тревожила меня:
спутники парня со шрамом — тот, что шатался, пытаясь устоять на ногах, и тот, что, устав слушать стоящего, положил голову на стекло, безуспешно пробуя
впасть в дремоту, — оба показались мне не столь годными к противостоянию, как этот, рыжий.Павленко вообще на них не смотрел, а красочно,
чуть громче, чем следовало в автобусе, рассказывал
очередную историю своих злоключений: все его уголовные дела оказывались на удивление весёлыми —
во-первых, оттого, что он их крайне остроумно преподносил, во-вторых, потому, что его никак не могли
посадить за решётку, хотя давно должны были.К примеру, Павленко потешно, с применением всяких нелепых подручных средств, вроде пластиковых
бутылок и ящиков из-под пива, дрался с милицией,
а потом, убегая, забрался так высоко на дерево, что его
не смогли оттуда снять: служивые прождали три часа
и в итоге ушли, поленившись вызывать пожарную машину; он писал на стенах администраций антиправительственные лозунги — краской, огромными, разлапистыми буквами, всегда в рифму, причём не глагольную, а составную; он закидывал помидорами крупного
натовского чиновника, заехавшего в Россию, и снова
убегал — и хотя следствие располагало парой сотен
его фотографий, попавших во все мировые СМИ, его
всё равно так и не повязали; он, на какой-то сумбурной встрече, подошёл к первому президенту страны,
белёсому, гундосому чудищу, и сказал ему, прямо
в лицо, негромко, словно соседу в подъезде: «Я тебя,
сука, урою — поэтому заройся сам побыстрее, понял?»На остановке мы с Жекой не то, чтоб вышли, а будто выкатились, позвякивая крепкими железными костями.
Трое из автобуса выпрыгнули вослед нам.
Здесь, возле набережной, было ветренее, чем внутри кремлёвских стен, и Павленко изящно расправил
своё пончо, закутываясь.— Ха! Смотри, парняга какую модную скатерть принарядил! — крикнул кто-то из троих, вроде бы тот, что
всю дорогу стоял к нам спиною.Жека резко развернулся — те находились метрах
в десяти от нас: отстали, потому что прикуривали, а то
бы сразу кто-нибудь из них поймал в лоб, скорей всего,
самый ближний.— Кто сказал? — спросил Павленко громко, и сразу
шагнул к этой тройке.Мы стояли возле проезжей части; я наскоро вообразил, как сейчас пять человек, и я один из них, начнут
прыгать туда-сюда, топтать по лужам, мешать проезду
всех и вся. Нас будут неприязненно разглядывать пассажиры общественного транспорта, нам будут раздражённо сигналить водители личных автомашин. Всё это
представлялось мне вполне задорным, но несколько
неопрятным.Выбора, впрочем, не было, или, вернее, мы себе его
не предлагали.Нахамил — хоть и вполне умеренно — действительно тот, кто выступал в автобусе рассказчиком, сейчас
он отчего-то смотрел на рыжеватого, а тот смотрел на
нас. Шрам его стал ярким, бордовым — при сиреневых
глазах, рыжая башка его выглядела как опасная ёлочная игрушка в кепарике.В глазах рыжего не были ни удивления, ни страха,
ни зла — пожалуй, только интерес. Он не собирался
сдавать ни на шаг, но странным образом не стремился
обострить происходящее.Кулаки он не сжимал — но обманчивая расслабленность его рук выдавала как раз стремительную готовность разом сбить пальцы в подобие свинчатки и со
змеиной скоростью выбить кому-то голубой, мальчишеский глаз.«Нос-то у него боксёрский, вдавленный», — слишком поздно заметил я.
Сейчас Павленко ударит самого говорливого, понял
я, а потом рыжий ударит Павленко.Мне надо было метиться в рыжего, но скорый пересчёт шансов, произведённый на этот раз мною, складывался уже не в нашу пользу.
Рыжий нисколько не был похож на человека, которого я собью с ног.
Вмешались непреодолимые обстоятельства — возле нас с неприятным звуком затормозил милицейский
ГАЗик: намётанным взглядом служивые определили
стремительные перспективы едва начавшегося между
молодыми людьми разговора.Я поймал Павленко за свитер и поволок назад: сначала он с явным неудовольствием попытался вырваться, но потом увидел стражей правопорядка, и сразу разулыбался, и устремился куда-то во дворы едва ли не
скорей меня.— Нахрен все разбежались! — скомандовал милиционер с переднего сиденья.
Оглянувшись, я увидел его усатое лицо, и обвисшие
щёки, и погон с тремя куцыми звёздочками старшего
прапорщика.«Толстый, к тому же старший прапорщик — служит
не просто давно, а очень давно: значит, не просто борзый, но и очень ленивый, и за нами точно не побежит,
тем более что и причины нас догонять нет», — мельком подумал я, видя, как рыжий в ответ на слова милиционера нагло отдал ему честь, поднеся два пальца
к виску.Когда милицейская машина тронулась, рыжий вытянул руку и, с тех же двух пальцев, изобразил выстрел
вслед:— Пам! Пам!
Он был понторез, конечно, но крайне симпатичный.
Мне пришлось это признать.
Николай Коваленко. Пишу только правду…
- Николай Коваленко. Пишу только правду… — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 200 с.
Николай Андреевич Коваленко (1920–2004) замечает в предисловии к своим воспоминаниям: «Пишу только правду. Пишу о том, как жил и что пережил, что видел
и запомнил с тех пор, как начал сознательно понимать…» Крестьянин по происхождению, автор учился в Таллинском военном пехотном училище, во время Великой Отечественной войны служил офицером в разведке, позднее — подполковник в отставке. В книге он рассказывает о драматических судьбах родственников, пострадавших в ходе коллективизации, о фронтовых и мирных буднях, о многолетнем наблюдении за ним и провокациях сотрудников ОГПУ…
ВСТУПЛЕНИЕ
Я давно хочу, хотя бы кратко, написать небольшое воспоминание о прожитой жизни на память детям и также внукам, которых уже имею и которые, может
быть, еще будут. Я хочу написать не только о своей жизни, но и о жизни
своего деда Миная Марковича, о своем отце Андрее Минаевиче и о жизни
и судьбе некоторых родных, о которых в моей памяти что-то сохранилось.В нашем роду велась родословная книга, начатая моим прадедом Марком,
жившим в прошлом веке, продолженная дедом и оконченная моим отцом.В этой книге велись записи о времени рождения всех по нашей фамильной линии, какими ремеслами они занимались, когда умирали и где
похоронены. Последняя запись была сделана моим отцом в июне 1933 года
о смерти его отца, а моего деда, от голода и о захоронении его на кладбище
в городе Новохоперске Воронежской области. В 1933 году был страшный
голод. Он случился в результате ликвидации путем раскулачивания и высылки в отдаленные районы Крайнего Севера и Сибири целыми семьями
самых трудолюбивых крестьян, так называемых кулаков и середняков, а также насильственного сгона в колхозы всех остальных крестьян с изъятием
на организацию колхозов всего имевшегося у них скота — коров, волов,
бычков, лошадей и жеребят, овец, коз, свиней; всего сельхозинвентаря —
плугов, молотилок, жнеек, веялок, конных граблей, борон и запасов зерна.
По существу, крестьяне стали крепостными. Затем начались годы сталинских репрессий — массового уничтожения старых большевиков, командиров
Красной Армии и ВМФ, cоветской интеллигенции — ученых, писателей,
поэтов, артистов. Много было уничтожено рабочих и крестьян-колхозников.
Беда не обошла и нашу семью: арестовали и уничтожили старшего брата
отца Василия, его жену сослали в карагандинские лагеря, а их детей Майю
и Нелю отправили в спецдетдом. ОГПУ хотело арестовать и моего отца,
но он сбежал в Таджикистан. Горе постигло и нас. Отец создал там новую
семью. А нас у матери осталось пятеро: я, старший, 18 лет, сёстры 16, 15,
8 лет и брат 12 лет.Записи в родословной книге больше не велись.
Сегодня на дворе ноябрь, глубокая осень. Я нахожусь в больнице с вос-
палением легких и под тяжелые вздохи больных своей палаты, под шум
осенних дождей и вой ветров пишу эти строки. Никакого плана нет. Пишу
по просыпающимся и вспыхивающим в памяти воспоминаниям. Пишу
только правду. Пишу о том, как жил и что пережил, что видел и запомнил
с тех пор, как начал сознательно понимать, может и не всегда верно, пережитое и увиденное своими глазами и услышанное ушами.Ноябрь 1989 года
ДЕД
Шел 1931 год. Наш поселок Константиноградский с географической карты района исчез. В этом году исчезли и другие хутора и поселки, жителей
которых — крестьян — или раскулачили и изгнали из поселков, или вывезли
в отдаленные края. Так, в километрах десяти от нашего поселка находился
поселок Дубовое. Он имел такое название, видимо, потому, что рядом с ним
стояла красивая дубовая роща. В поселке жило около десятка крестьянских
семей, переехавших сюда с Украины в 1902–1906 годах.Крестьяне имели добротные дома с резными украшениями, крытые железом, а не соломой, как у моего деда. Они имели прекрасные сады, держали
пчел, сеяли ячмень, овес и откармливали скот для себя и для сдачи государству. Они держали овец, коз и много разной птицы. Некоторые, в том числе
и мой дед по материнской линии — Иван Никитович Коваль, вырабатывали
голландский и швейцарский сыр. Всех жителей поселка Дубовое в 1930 году
раскулачили. У них отобрали дома, скот, все недвижимое имущество, а их,
всех крестьян, из поселка просто изгнали. Ни одну семью в Сибирь или
на Север не выслали. Мой дед по матери уехал на станцию Таловая нашей
Воронежской области. Там он делал из дерева ложки, разные кухонные поделки, а также стулья и кресла из лозы. И этим кормился. В 1937 году он
с бабушкой уехал в город Никополь Днепропетровской области, где и умер
в 1943 году, находясь в немецкой оккупации. Там же годом раньше умерла
и бабушка.В пустующие дома изгнанных из поселка Дубовое крестьян поселили
насильно какой-то цыганский табор, назвав его колхозом. Цыганам отдали
отобранный у крестьян скот, сельхозинвентарь и другое имущество. К лету
1931 года цыгане часть лошадей распродали, скот съели, сельхозинвентарь
привели в негодность, надворные постройки разобрали на дрова и сожгли.
Весною 1932 года снялись и табором куда-то ушли. Опыт насильно заставить
цыган вести коллективный оседлый образ жизни и работать на земле не
удался. Впоследствии все дома этого поселка были разобраны и вывезены
в другие поселки, а земля распахана. Цветущий недавно поселок исчез.
А с ним вместе и дубовая красавица роща, вырубленная цыганами на дрова.Так проводилась в жизнь сталинская политика приобщения крестьянства к коллективному труду, ликвидация кулачества как класса. А фактически это было уничтожение самой грамотной, самой производительной
части крестьянства, которое было главным, основным производителем
сельхозпродукции в стране, кормило, одевало и обувало ее.Но вернемся к делам семейным. Шел 1932 год. Мы продолжали жить
в поселке Рыбкин. Отец работал по вольному найму счетоводом колхоза
«Новый Октябрь» в этом же поселке. Районное начальство требовало, чтобы
он вступил в колхоз, и хотело назначить его председателем колхоза. Он, не
имевший ни дома, ни земли, ни какого-либо хозяйства, живший со своим
отцом, от вступления в колхоз категорически отказался.Между тем дед все чаще стал поговаривать о поездке на родину — на
Полтавщину. Своей возможной поездкой он предусматривал две цели.
Первая — посмотреть, что делается на Украине, и решить вопрос о возвращении всей семьи туда, откуда он приехал в 1902 году в Воронежскую
губернию, — на Полтавщину. И вторая цель — навестить родственников
и увидеть двух внучек от первого брака старшего сына Василия, которые
жили там с матерью.Перед отъездом, в один из майских дней, он сказал: «Пойдем, внук, на
конюшенный двор, я попрощаюсь со своими лошадками». Он взял краюху
хлеба, и мы пошли. Гнедко и Ласточка были привязаны у коновязи в разных
местах. Гнедко, увидев деда, начал радостно ржать и мотать головою, приветствуя его приход. Услышав ржание Гнедко, ему стала вторить ржанием
Ласточка. Дед, успокоив Гнедко, пошел за Ласточкой. Он привел ее и поставил рядом с Гнедко, привязав к коновязи. Потом стал гладить их по голове,
давая им хлеба и что-то приговаривая. Лошади успокоились. Дед принес из
конюшни щетку и стал чистить лошадей. Они уже не такими стали, какими
были сданы в колхоз. Грязные и истощенные, они потеряли былую резвость
и красоту. Почистив лошадей, дед погладил их головы и сказал: «Прощайте, дорогие мои!» Гнедко и Ласточка, опустив головы, понуро и обиженно
смотрели на деда. Мы стали уходить. Гнедко и Ласточка жалобно заржали
и затопали копытами, как будто бы требуя нашего возвращения к ним
или предчувствуя разлуку навсегда со своим заботливым хозяином — дедом. Дед повернулся в их сторону и заплакал. Мы пошли домой. По пути
зашли на хозяйственный двор. Дед хотел посмотреть на свой, а точнее на
бывший свой, а теперь колхозный сельскохозяйственный инвентарь. На
веялках, сеялках, жнейках, молотилке краска облезла, и они стояли грязные.
У сноповязалки было снято какое-то колесо, а вязальный агрегат — сердце
машины — валялся в грязи. Помню, дед сказал: «Хозяина нет, не свое есть
не свое, оно чужое. И к нему такое отношение. Эх, Ёська, посмотрел бы,
что ты натворил».Вскоре дед перевез нас в город Новохоперск и уехал на Полтавщину.
Вернулся он домой осенью 1932 года.Дед рассказал: «Там, на Полтавщине, страшный голод. Много скота подохло, а часть люди съели. Хлеба нет. Вымирают целые деревни. Я хотел
забрать с собою внучек, а вы написали, что тут тоже начинается голод. Зачем
я их сюда повезу, ведь вас, внуков, здесь пятеро. А что делать с семерыми,
как жить, чем кормить? Нет, пусть уж они умирают на своей родине вместе
со своими родителями, а мы будем умирать здесь, на чужбине, в России.
Там совсем плохо, а здесь, может быть, еще кто-нибудь из вас и выживет.
Я скоро умру, я уже старый. Совсем плохо, если первыми умрут ваши
родители. Что тогда будет с вами? Мне никогда не было так страшно, как
теперь. Я уже чувствую смерть. Хороните меня без попа. Я в Бога не верил,
не верю, и неверующим отдайте меня земле. В Бога не верьте, Бога нет. Если
бы он был, то такого голода не допустил бы, он не дал бы Ёське разорить
крестьян и заморить их голодом. Попа на похороны не надо, но крест на
могиле поставьте, не обижайте тех, кто уже на том свете, и еще пока живых.
Так делали наши предки, так сделайте и вы».Летом 1933 года дед умер от голода. Он, чтобы чем-то набить желудок,
наелся какой-то травы, росшей на задворках, и вишен с косточками. Трава
была, конечно, съедобной. Он знал толк в травах. Но съел очень много,
перегрузив желудок и кишечник. Ему стало плохо. Положили в больницу.
У него случился заворот кишок. Во время операции сердце не выдержало.
Дед умер. Ушел из жизни трудолюбивый крестьянин, еще три года назад
растивший хлеб, производивший различную сельхозпродукцию, кормивший
свою многочисленную семью и горожан. И умер он от голода.Я хорошо помню то страшное время. На улицах города валялись тела
умерших от голода. Почему-то больше всего среди них было калмыков. Они
приезжали на верблюдах, которые после смерти своих хозяев бродили по
улицам города.Вскоре после смерти деда нас чуть не постигло новое горе. Десятилетняя
сестра Нина, утоляя жажду голода, наелась калачиков с травы, росшей во
дворе. Получила сильное отравление. Спасли ее в больнице.Пишу эти строки — и у меня содрогается душа и накатываются слезы,
в сердце боли и не хватает воздуха. Давит грудная жаба. Врачи запрещают
писать. Но я должен, я обязан написать правду для детей, внуков и будущих
поколений своего фамильного рода о тех, теперь уже далеких, но жестоких,
варварских временах сталинского господства. Пусть они в будущем узнают
правду не из книг, а от своего предка, который сам перенес эти страшные
времена.
«Национальный бестселлер» опубликовал длинный список 2016 года
Оргкомитет «Национального бестселлера» опубликовал лонг-лист и состав Большого жюри премии. На приз в 750 тыс. рублей претендуют 44 романа.
Три книги из длинного списка номинировали дважды — это романы Петра Алешковского «Крепость», Александра Иличевского «Справа налево» и Эльдара Саттарова «Транзит. Сайгон — Алматы». Приз делят между собой номинант и номинатор в пропорции 9:1. Каждый финалист получает по 60 тыс. рублей.
— Елена Котова. Период полураспада;
— Ольга Погодина-Кузмина. Герой;
— Михаил Ардов. Проводы: хроника одной ночи;
— Евгений Анташкевич. 1916 год. Хроника одного полка;
— Евдокия Шереметьева. Здесь люди;
— Игорь Сахновский. Свобода по умолчанию;
— Петр Алешковский. Крепость;
— Наринэ Абгарян. С неба упали три яблока;
— Анатолий Ким. Гений;
— Андрей Аствацатуров. Осень в карманах;
— Дмитрий Данилов. Есть вещи поважнее футбола;
— Валерий Бочков. Коронация зверя;
— Мария Галина. Автохтоны;
— Михаил Однобибл. Очередь;
— Сергей Кузнецов. Калейдоскоп;
— Кирилл Кобрин. Шерлок Холмс и рождение современности;
— Светлана Дорошева. Книга, найденная в кувшинке;
— Евгений Стаховский. 43;
— Михаил Харитонов. Золотой ключ, или Похождения Буратины;
— Сухбат Афлатуни. Муравьиный царь;
— Владимир Козлов. Пассажир;
— Аглая Топорова. Украина трех революций;
— Феликс Сандалов. Формейшн. История одной сцены;
— Василий Аксенов. Десять посещений моей возлюбленной;
— Михаил Зыгарь. Вся кремлевская рать;
— Ильдар Абузяров. О нелюбви;
— Валентина Назарова. Девушка с плеером;
— Леонид Юзефович. Зимняя дорога;
— Александр Снегирев. Как же ее звали?..;
— Александр Иличевский. Справа налево;
— Андрей Хомченко. Птица;
— Михаил Тарковский. Тойота-Креста;
— Александр Кабаков. Камера хранения;
— Эльдар Саттаров. Транзит Сайгон-Алматы;
— Владимир Шпаков. Песни китов;
— Елена Крюкова. Солдат и Царь;
— Анна Матвеева. Завидное чувство Веры Стениной;
— Герман Стерлигов. Учебник истории. От Грозного до Путина;
— Илья Штемлер. Одиночество в раю;
— Кирилл Рябов. Клей;
— Николай Кононов. Парад;
— Олег Зайончковский. Тимошина проза;
— Дмитрий Глуховский. Метро-2035;
— Сергей Дигол. Диагноз Веспуччи;
Со списком номинаторов можно ознакомиться на сайте. При этом в длинный список не вошли лауреаты других литературных премий — такие ограничения подразумевают правила премии.
Комментируя длинный список премии, отвественный секретарь «Нацбеста» Вадим Левенталь заметил, что «около десяти номинаторов признались, что не вспомнили ни одной книги, которую они могли бы с чистой совестью рекомендовать на премию». В новом списке есть книги известных и неизвестных писателей, фикшн и нон-фикшн, традиционная и экспериментальная проза, но «в каждом сегменте температура как будто бы на пару градусов упала».
В Большое жюри премии вошли писатели Павел Крусанов и Наталья Курчатова, журналисты Аглая Топорова, Максим Семеляк и Артем Рондарев, создатель книжного магазина «Все свободны» Любовь Беляцкая, а также редактор нашего журнала Анастасия Бутина. Всего в Большом жюри 20 человек. Ответственный секретарь премии Вадим Левенталь отметил, что в 2016 году в жюри вошли как «проверенные» судьи премии, так и совсем новые лица, но объединять их должны принципы открытого рецензирования и независимого суждения о книгах.
Напомним, Большое жюри вынесет свое решение к 28 апреля. В тот же день «Нацбест» обнародует состав Малого жюри. В 2016 году премия получила новых спонсоров — Союз психического здоровья и издательский дом «Городец». В 2015 году «Нацбест» оказался под угрозой закрытия. Незадолго до церемонии от участия в проекте отказался спонсор, телеканал «2×2».
В прошлом году премию взял роман Сергея Носова «Фигурные скобки». Также в шорт-лист вошли будущий букеровский лауреат Александр Снегирёв с романом «Вера», Анна Матвеева со сборником рассказов «9/90», Олег Кашин и роман «Горби-дрим», биороман Татьяны Москвиной «Жизнь советской девушки» и книга дальневосточного писателя Василия Авченко «Кристалл в прозрачной оправе».
Премия «Национальный бестселлер» существует уже 16 лет. За это время ее обладателями становились Леонид Юзефович, Александр Гаррос, Захар Прилепин, Фитгль-Мигль, Александр Проханов, Дмитрий Быков, Виктор Пелевин, Михаил Шишкин, Илья Бояшов, Эдуард Кочергин, Ксения Букша, Александр Терехов, Андрей Геласимов.
Умберто Эко. Нулевой номер. Коллекция рецензий
Роман Умберто Эко «Нулевой номер», изданный в 2015 году, стал последним художественным произведением писателя. Культовый итальянский автор, имя которого известно каждому, кто занимается гуманитарными науками, ушел из жизни 19 февраля. Публика ждала от Эко новые произведения и отказывалась верить его обещаниям писать исключительно в жанре нон-фикшн.
«Нулевой номер» — сатира, направленная против современных СМИ, пренебрегающих фактами и датами. Сюжет романа разворачивается в 1990-е годы и рассказывает о работе миланской газеты «Завтра», которую основал не чистый на руку медиамагнат. Ее редакция состоит из журналистов-неудачников, собирающих компромат на конкурентов и противников своего хозяина. Одержимые теорией большого заговора, они находят информацию о том, что Бенито Муссолини вовсе не был расстрелян в 1945 году, а продолжал управлять политической жизнью Европы после войны.
После публикации романа мнение критиков о нем разделилось. Однако все признали, что в этом тексте Умберто Эко остался верен привычным для него темам и художественным приемам. Он умело разоблачил современное общество и себя самого как писателя.
Галина Юзефович / Meduza
Первое и главное, что нужно знать про новый роман Умберто Эко «Нулевой номер», — читать его, в общем, не обязательно. Единственное исключение составляют люди, которые либо не читали «Маятник Фуко» и не готовы впрягаться в это многодневное предприятие, либо читали, но им не понравился объем и отсутствие хэппи-энда. Иными словами, «Нулевой номер» — это такой «Маятник Фуко», но на другом историческом материале, в три раза короче и с хорошим (относительно хорошим) концом.
<…> Поверьте, все будет именно так, как вы ожидаете — разве что не умрет никто из симпатичных автору героев. 240 страниц, несколько по-настоящему остроумных пассажей, средней руки конспирологическая теория, в конце практически свадьба — в сущности, бывает и хуже. Но по большей части у других авторов.
Варвара Бабицкая / Афиша
Не надо быть маститым писателем, чтобы понимать: если уж героям приходится друг друга подбадривать — мол, продолжай, я еще не заснул, — это верный признак, что монолог пора сворачивать. А Эко к тому же профессор. Его проза с каждым разом сконструирована все более схоластично и громоздко: она уже не работает на занимательность, не создает художественной иллюзии, так у нее и задача другая.
Лиза Биргер / Коммерсант.ru
Самая безумная, бестолковая мысль в романе оказывается истинной — кругом действительно заговоры, в любой пиццерии тебя действительно подслушивают шпионы тайной полиции. И тут, конечно, мы не услышали от Эко ничего нового, ведь во всех своих книгах он утверждал, что мир — это только иллюзия. Но на развалинах наших уютных представлений о мире сидит парочка влюбленных и пытается понять, куда им от всего этого бежать. Решение, которое они в итоге принимают, оказывается вполне знакомым бывшим советским внутренним эмигрантам. Переводы и гороскопы, старые фильмы по вечерам, выходные в дачном домике у острова, тихая счастливая жизнь, залогом успеха которой может стать только неучастие во всякой другой жизни. Это интеллектуальное сопротивление впервые у Эко становится не только рецептом, но и призывом, поэтому и роман его впервые можно читать не столько как остроумный фельетон, сколько как вполне пламенный и искренний манифест.
Игорь Левин / ГодЛитературы.РФ
Роман Умберто Эко об Италии 1992 года, с прыжками в знаковые для Италии 45, 68, 70, 78, 81-й годы, не мог не трансформироваться в своеобразный giallo — специфически итальянский интеллектуальный детектив, где нет и не может быть одного виновного: виновны все, все в деле и в доле, а значит — по логике нашей жизни — ответственности в конечном счете не понесет никто. И для подтверждения этого печального тезиса Эко прибег к одному из своих самых любимых средств — разнузданной сатире, гротеску, находкам многовековой итальянской смеховой культуры, сдобренной доброй порцией чисто пьемонтской иронии.
Татьяна Сохарева / Новая газета
Эко в очередной раз вернулся, пожалуй, к самому важному для него вневременному явлению — сокрушительному влиянию вымысла на реальность и дилетантизму в обращении с историей (в том числе и с современной). Всё это он описал в своих предыдущих романах. «Нулевым номером» он обнажил процесс превращения горстки непроверенных фактов в цельную гипотезу. В его мире — будь то средневековая Европа или Италия в начале 1990-х — самым ценным ресурсом была и остается дезинформация.
<…> Это не один из тех романов-тяжеловесов, к которым Эко приучил своего читателя. В каком-то смысле он сдержал обещание не писать больше романов после появившегося в 2010 году «Пражского кладбища».
Михаил Визель / The Village
Принято считать, что произведения Эко уместны для прочтения в определённом возрасте по разным причинам: образованность, степень заинтересованности в предмете и так далее. Я бы говорил не столько о «возрастной категории», сколько о «социовозрастной группе». Во-первых, это обязательное чтение для начинающих журналистов и желающих ими стать. Войны компроматов, сливы, телекиллерство — вот это всё описано жёлчно и предельно наглядно. Италия снова, как во времена Джотто и Боккаччо, оказалась в авангарде прогресса, но не в изящных искусствах и инженерном деле, а в политтехнологиях и искусстве топить ближнего. Обязательное чтение, чтобы задуматься: оно тебе надо?
Вторая группа — люди, которые помнят российские лихие девяностые и не менее лихие нулевые не только по сериалу «Бандитский Петербург», но и войнам компроматов à la russe — Лужков/Доренко. Они должны быть готовы последовать совету, подаваемому Эко в конце романа: выключить телевизор в своей голове и возделывать свой сад. Можно сказать, что давать душеспасительные советы не дело романиста, но 83-летний Эко с высоты написанных и прочитанных книг может себе это позволить.
Андрей Иванов. Аргонавт
- Андрей Иванов. Аргонавт. — Таллин.: Авенариус, 2016. — 333 с.
Роман «Аргонавт» — это вереница видений человека, который находится под воздействием мистического вина аяхуаска. В сознании героя возникают не только близкие, но и внутренняя жизнь едва знакомых людей. Это роман о путешествии вглубь себя.
В 2016 году Андрей Иванов получил государственную премию Эстонии в области культуры. Его роман «Харбинские мотыльки» в 2013 году получил премию «НОС» и вошел в короткий список «Русского Букера».
В детстве я терпеть не мог электрички и поезда. Вспомнил об этом в рождественском поезде на Брюгге. Салон озаряла совершенно праздничная иллюминация. Станции были аккуратно убранными и украшенными. То и дело в кадр окна вплывала огнями переливающаяся елочка. Заходили ряженые, пели грустную фламандскую песенку, изображали нищих, потряхивали металлическими кружками, просили конфет, в стихах, заунывно, но трогательно мелодично (видимо, так, с кружечкой для подаяния, и добралась со дна времен до наших дней поэзия — иначе было не выжить в истории кровожадного человечества, посреди болезней и голода). Я с удовольствием опустил несколько монет, будто в уплату за спектакль. Меня посетило странное чувство, точно я совершил некий обряд, прикоснулся к магии, причастился к искусству, тогда же я подумал, что эти слова надо бы писать с маленькой буквы, ничего великого, каждое слово мелким шрифтом: обряд, магия, причастие, искусство.
(Были еще кое-какие соображения, которые развиваю теперь.)
Эпос, как он мог сохраниться? А роман? На мой взгляд, роман — это излишество, придуманное хитрыми поэтами, чтобы доить людей, у которых завелись деньжата (перенесли театральное представление на бумагу; самый очевидный образец — Достоевский, комедиант со страшилками в мешке). Но как быть с теми, кто ради своего шедевра шел на страдания, писал безумное, заведомо зная, что не разживется? С детства в людях презираю жертвенность. На этом стоял Союз — на самоотречении: «я — ничто», — ожидалось, чтоб так думал каждый, готовясь закрыть своей грудью вражескую амбразуру или покалечиться во время разгрузки каких-нибудь труб. Они — зомби «великой эпохи» — до сих пор среди нас. Калеки, идеологические уродцы, последыши политических и социальных аварий… А где другие люди? Нетронутые Баалом, цельные, здоровые. Те, кто не знал двусмысленно прерванных фраз и грома среди ясного неба; чьи уши не заливал клекот перерезанной глотки; чьи сердца не терзал надрывный родительский плач. Они, должно быть, живут легко и чисто. Возможно, они знают, что такое agape и epimeleia. Да, где-то они есть, с любовью ко всему страстно вгрызаются в мир, который я ненавижу. Где? В каких измерениях? Скорей всего, они едут в этом же поезде, но — ввиду мною впитанных эмоций, которые страшным балластом тянут меня вниз, в мое подполье, — мне с ними не суждено пересечься. В ту ночь было много мыслей. На станции в Генте стояли дольше обычного, зашло много людей, вышло еще больше, наблюдая из моего кресла за карнавальной сутолокой, подумал следующее: я всегда считал, что проза должна повествовать сухим энциклопедическим языком о бедности, о болезнях, о муках плоти, о невзгодах, о бренности всего живого, только об этом, — но, может быть, я ошибался? Ошибался: потому что вокруг меня такая серость, потому что я не видел разноцветной жизни, не знал гармонии? Я тогда, в вагоне, воспрянул от этих мыслей. А вдруг это предвестие чего-то нового? Разве могло меня посетить такое откровение в Эстонии? Нет, конечно! Дело не в самой стране, — люди, с которыми я связан, они виноваты. Такого рождества, такой скоропалительной трансформации, такого праздничного настроения у меня еще не случалось.
Поезд весело летел мимо идеально расчесанных полей (кое-где вспыхивали глаза зверей), за окном перелистывались просеки, хутора, уютные городки с часовенками, одиноко тлеющий фонарь на миниатюрной баскетбольной площадке, — во все глаза я всматривался в зимнюю фламандскую ночь и думал, что в детстве ненавидел поезда, а теперь люблю, потому что в детстве меня в обмане держали, все вокруг меня было лживым, поддельным, и вот только теперь я прорвался к подлинной жизни. Раньше поезд для меня был пыткой, потому что приходилось ехать с родителями на проклятую дачу или еще хуже — с матерью в Кейла, где был какой-то волшебный Kaubamaja, в котором якобы можно было купить то, чего было нигде не достать: например, ткани. О, да! Ткани… из-за них было много беготни, мать их тщательно заворачивала, свертки были тяжелые, я — кто ж еще? — помогал нести сумки в ателье, мать записывалась в очередь к знакомой портнихе, мы ее караулили в проходном дворе, где был кинотеатр Oktoober, и все затем, чтобы нам с сестрой сшили одежду, которая, как мне казалось, ничем не отличалась от той, что носили другие. Когда ездили на дачу, отец выходил курить в тамбур, ему не сиделось, на лице всегдашняя сонная улыбка, рот приоткрыт, желтые зубы, жиденькие усы (один не желал расти вверх, и отец его подкручивал); битком набитый вагон, всегда укачивало. Летом бывало невыносимо душно. Небо липло к стеклу. Целый час сидишь и смотришь, как вздрагивает паутинка с уютно сморщенным паучком. Обязательно вляпаешься в жвачку.
Я так не хотел ездить туда, мне не нравилось Нымме (с этой станции было удобней; бабка говорила «Немме», была тогда еще жива, но с нами не ездила, с ней меня не оставляли, ей перестали доверять после того, как она дала мне поиграть с градусником и я его разбил: капельки ртути разбежались по полу, — это было прекрасно!), там была ужасная будка, в которой отирались хулиганы, они смотрели на меня как на ничтожество, сверлили хищными взглядами. Однажды я убежал с платформы, юркнул в раскидистый куст и не выбирался. Отец тянул клешни, мать заглядывала, раздвигая ветки, смеялась и говорила, чтоб не шалил и вылезал, махала рукой, которую протиснула совсем близко, хотела ухватить за рубашку, но я вжимал голову в плечи, стиснув губы, молчал, отодвигался от нее, с другой стороны подкрадывался отец, ногой прокладывая себе дорогу: «Павлик, поезд, сейчас подойдет поезд!» Куст шуршал, я молча сидел, поджав ноги, скрючившись, куст колебался, как пламя; я плакал, загибаясь, как сгорающая спичка. В конце концов, они меня выудили. Было бессмысленно сопротивляться. В те дни на дачке даже телевизора не было.
* * * У нашего марокканца есть теплица, в которой он круглый год выращивает пейот, Banisteriopsis caapi, кактусы Сан-Педро, салвию и разновидности Morning glory. Над теплицей есть пристройка, совершенно стеклянная комнатка, в которой почти ничего нет, кроме старых хрустящих циновок на полу, керосиновой лампы и нескольких пончо на крючках; ничего больше и не нужно, так как это комнатка для путешествий и медитаций. Марокканец — опытный практик с многолетним стажем. Его зовут Седрик, его отец перебрался в Швецию в начале семидесятых, женился на шведке, тогда он и родился; его отец играл и играет в блюз-бэнде, мать увлекается нью эйджем, оба смолят марихуану, само собой; с раннего детства, насколько Седрик помнит себя, они много переезжали из одной хиппанской деревушки в другую, никак не удавалось прижиться, всегда случались какие-нибудь скандалы, а теперь его родители поселились в общежитии Дундербакена и вполне там счастливы, а он решил во что бы то ни стало жить отдельно тут. Мы с ним долго говорили о lucid dreaming, Стивене Лаберже, Кийте Херне, и, наконец, Седрик предложил нам с Эдвином провести небольшую митоту. Улеглись на циновки, укрылись пончо, он выдал нам листья салвии, сказал зажать в зубах и ждать, чтоб сок медленно наполнял рот и гортань. На всякий случай рядом с нами он поставил посудины. Объяснил тем, что сок салвии очень противный. У меня почти сразу свело рот, минут через пять я перестал чувствовать гортань, будто мне сделали заморозку. Скоро в груди у меня началось «холодное горение», а затем в солнечном сплетении пробился ледяной горный родничок. Я знал, что Седрик наблюдает за нами, и он перевернет нас набок, если начнет рвать. Дальше все произошло очень быстро. Мне показалось, что в комнату кто-то вошел. Я встал, рядом никого не было, ни Эдвина, ни Седрика, и это меня ничуть не удивило. Я как-то объяснил это себе, меня заинтересовали окна теплицы, они были застеклены зеркалами без отражений, я распахнул одно, чтобы вдохнуть свежего ночного воздуха, и ты не поверишь: стекло выпало из рамы и полетело вниз… оно летело так долго, что, когда оно разбилось, мне показалось, будто прошло несколько лет; разбилось оно великолепно, звук был похож на фейерверк… я тут же вспомнил песню Die Explosion im Festspielhaus… и она зазвучала во мне — не в голове, а вокруг и внутри меня, я был в песне, будто песня была какой-то сферой… а потом разбилась сама ночь, распалась на миллиарды громких осколков, и каждый осколок, как алмазное зерно, мгновенно пустил корни, ветви, пророс и расцвел отдельным миром, и в каждом из этих миров стояла ночь, полная звезд и в бесконечность струящихся световых потоков, был я, выглядывающий из теплицы с листьями салвии в сжатых зубах, в голове моей летел и проворачивался зеркальный параллелепипед, летел, проворачивался, но не разбивался, и все это длилось бесконечно. Я так много успел увидеть и вспомнить там, точно я действительно существовал и мыслил независимо в каждом кусочке разбившегося стекла! Это было невероятно и невообразимо, и эта песня звучала и не кончалась. Я потом несколько дней ее слушал, напевал, бродя по острову, и островок этот мне казался бесконечным лабиринтом: новые лица, за каждым поворотом всегда новые лица… Несколько дней мне казалось, что я находился в центре вселенной, в самой завязи нашей планеты. Подумать только, ну что такое остров? Обыкновенный камень, мимо которого каждый день плывут корабли, летят самолеты — натовские истребители, пассажирские лайнеры. Этот остров как сито: сквозь него текут нескончаемые потоки туристов. У нас под окном каждый день, каждый час — одна и та же сцена: идут люди, достают фотоаппараты или мобильные телефоны, останавливаются перед собором, щелкают, стоят, смотрят, выстраиваются, позируют, фотографируют друг друга. И уходят… За ними другие… Недавно проходил какой-то конгресс, на который Ильвес приезжал. В тот день мы с Эдвином пили вино на побережье, сидя на скамейке, по променаду мимо прошел какой-то известный российский политик (имени не помню, знаю, что оппозиционер), был он в окружении дебелой свиты, все в модных европейских пальто и щеголеватых кашне, самодовольные, важные, шагали с такой значимостью, будто по карте мира, а не по асфальту. А там дальше были бомжи на лужайках, они всегда за крепостной стеной тусуются, пьют вино из пакетов и слушают Чака Берри и Бадди Холли на кассетной мыльнице, их смех и речь уже не отличимы от карканья ворон, криков галок и собачьего лая, впрочем, как и самих их тоже трудно разглядеть среди травы, кустов и камней. Группа политиков чинно прошагала мимо, окинули нас брезгливыми взглядами и пошли… Пусть идут! Пусть всегда проходят мимо! Пусть так и будет! Весь мир с удовольствием катится к черту, так почему я должен его хватать за масленые бока? Пусть себе катится!
Слушай, моя взвинченность, возможно, связаны с этой конференцией в Гетеборге, я себя там чувствовал довольно неуютно. Все время цитировали каких-то философов, я даже решил записывать, чтобы спросить тебя, не слыхал о таких: Northrop Frye, Frederic Jameson, Gadamer — немногие, кого успел записать. Один пожилой норвежский философ (я бы сказал, он походил на безумного изобретателя, которого насильно вынули из лаборатории, откуда он не вылезал лет тридцать, такой он был потертый и в себя углубленный),ссылаясь на выше перечисленные имена и многих других, кого не успел записать, на простеньком английском рассуждал, ни на кого не глядя (казалось, что говорил с самим собой и только собой), о том, что в большинстве случаев люди ничего не познают, а всего-то манипулируют знаками, не вдаваясь в подлинное значение слов и понятий, не говоря о самом означаемом, что ведет к бесчисленным дивиациям интерпретаций, уводящих человеческое сознание от самого познания, которое ничто иное как процесс: познать и знать окончательно, как утверждает этот норвежец, нельзя, можно только стремиться осуществлять процесс, который окончательным быть не может, т. е. нет незыблемых истин и каких-либо знаний, которые можно было бы передавать, о которых можно было бы писать, как и письмо само — фикция, условность. Очень интересно, и очень безумно. Как и сам старик. Одним словом, развлек. Выступил очень интересный американский культуролог, который — что примечательно — лет тридцать живет на маленьком скандинавском острове (название выскочило из головы), он говорил об апокалиптических тенденциях социального сознания, которые все чаще находят выражение в массовом и высоком искусстве — кинематографе, живописи, литературе, что, по его мнению, говорит о смерти государства в подсознании людей(апокалипсис не как конец света, а конец государства как системы), т. к. в большинстве им рассмотренных примеров одерживает победу индивидуум или маленькая община, а государство исчезает. Больше всех меня смутил выступавший вчера шведский журналист, который немного знает русский — достаточно, чтобы понимать людей и писать свои статьи; он много говорил о спирали Вико, в связи с нынешней ситуации в РФ, он туда ездил для общения с молодыми российскими активистами. За полгода там перебрал всех: от «Наших» до какой-то «Сети». Подробно читал о выступлениях новых молодых активистов в каком-то модном кафе — «Дети гламурного рая». Был на какой-то штаб-квартире молодых поэтов-писателей, там целый цех, кропотливо пишут один большой эпос, создают новую культуру, новое время, в котором, как они говорят, Путин — отец народов, отец наций. Неужели такое возможно? В наши дни?! Самым неприятным оказалось то, что ко мне обращались с этим вопросом, просили прокомментировать, а я был поражен больше них, и не знал, что ответить, мычал: не знаю… я из Эстонии… в России почти не бывал…
Умопомррачительный мистер Блэксэд
- Хуан Диас Каналес, Хуанхо Гуарнидо. Блэксэд / Пер. М. Хачатурова. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 116 с.
Нашу планету населяют очень разные люди: смелые — как львы, злые — как собаки, хитрые — как лисы, изворотливые — как ящерицы, невоспитанные — как свиньи и невежественные — как медведи. Влюбленные воркуют, как голуби, обиженные молчат, как рыбы, а болтуны трещат, как сороки. Мир, созданный испанскими писателем Хуаном Диазом Каналесом и художником Хуанхо Гуарнидо в графическом романе «Блэксэд», населен человекоподобными животными, изображенными настолько достоверно, что сомнений в том, что на самом деле речь идет о нас, людях, не возникает.
Главный герой — частный детектив черный кот Блэксэд — в первой части графического романа «Где-то среди теней» берется за раскрытие убийства своей бывшей возлюбленной, знаменитой актрисы, а во второй — «Полярная нация» — вместе с напарником хорьком-журналистом Уикли пытается найти пропавшую девочку-подростка Кайли.
Действие происходит в Америке середины XX века, раздираемой социальными и политическими противоречиями: деление на белых и черных, мафиозные группировки, псевдоборцы за свободу, преступность и коррупция.
«Я люблю представлять себе другой мир, справедливый, где все, даже сильные, сполна платят по счетам», — заключает овчаркообразный комиссар полиции Смирнов, покровительствующий Блэксэду.
Качественно отрисованная и выписанная история в жанре нуар придется по вкусу киноманам, поклонникам детективов 1940-1950-х годов, создавших образ идеального сыщика — честного и смелого, в развивающемся длинном плаще и с сигаретой во рту, разочарованного в жизни, ведущего монологи о мироустройстве и сражающегося за идеал. Одиночку, который живет в неспокойное время:
Отныне я был приговорен к этому миру, к этим каменным джунглям, где сильный пожирает слабого, а люди предпочитают вести себя словно звери. На карте жизни я выбрал самую темную, самую извилистую дорогу.
Отсылки к «Криминальному чтиву» и фильмам Хичкока, «Кладбищенский блюз» Бесси Смит — авторы с большим удовольствием подмигивают поклонникам классики. Аллюзии же на политические и социальные события откроются лишь тем, кто увлекается историей Америки и для кого очевидно, в образе какого животного предстанет перед читателями президент Соединенных штатов.
Невероятная графика заставляет перелистывать книгу вновь и вновь, задерживая внимание на деталях. Особенно впечатляют вид сверху комнаты Блэксэда — в первой серии, эпизод повешения служителя закона белого медведя Карупа на фоне горящего креста — во второй; и конечно, изображения большого города: его ночных огней, потока людей и машин. Детективный сюжет не уступает иллюстрациям — события продуманы, концы сходятся с концами, драматизм происходящего — на пределе.

На обложке комикса вовсе не просто так стоит маркер «18+». Внутри есть откровенные сцены и сцены насилия на фоне пасторальных картин падающих хлопьев снега. Это история для умных взрослых, взрослых, способных почувствовать эстетику жанра.
Графический роман, впервые опубликованный издательством «Дарго» и предназначенный для французской аудитории, очень быстро стал популярен по всему миру. Авторы получили заслуженную и особенно ценную в мире комиксов премию имени Уилла Айснера. На русский язык переведено только две серии «Блэксэда», а это значит, что об умопомррачительном коте-сыщике мы еще услышим.
Зак Ибрагим. Сын террориста
- Зак Ибрагим. Сын террориста. История одного выбора / Пер. с англ. Д. Сонькиной. — М.: АСТ: Corpus, 2016. — 144 с.
Автору этой книги было всего семь лет, когда его отец, террорист Эль-Саид Нуссар, совершил свое первое преступление, застрелив в Нью-Йорке раввина Меира Кахане — основателя Лиги защиты евреев. Уже находясь в тюрьме, Нуссар помог спланировать и осуществить первый теракт во Всемирном торговом центре в 1993 году. Сегодня он отбывает пожизненное заключение, но остается примером и героем для мусульманских фанатиков во всем мире.
Зак Ибрагим с детства воспитывался в атмосфере фанатизма и ненависти. И все же отец-экстремист не смог заставить сына пойти по пути насилия и террора. История Зака доказывает, что никакое промывание мозгов не способно сделать из человека убийцу, если он сам того не захочет.2
Из сегодняшнего дня
Легко объяснить, почему убийственная ненависть — это навык, которому приходится учить. И не просто учить, а насаждать его принудительно. Дело в том, что это явление не встречается в природе. Это продукт лжи. Лжи, которую повторяют снова и снова — и, как правило, повторяют тем, у кого нет иных источников информации, доступа к альтернативному взгляду на мир. Это ложь, в которую однажды поверил мой отец и которую он надеялся передать и мне.
• • • То, что сотворил мой отец 5 ноября 1990 года, уничтожило нашу семью. Нам угрожали смертью, нас поносили в СМИ, мы были вынуждены скитаться и жили в постоянной нищете, тысячу раз пытаясь начать с нуля, и каждый раз эти попытки приводили к тому, что ситуация становилась только хуже. Имя отца было покрыто несмываемым позором, а мы оказались как бы побочным ущербом в этом позоре. Мой отец стал первым, насколько сейчас известно, исламским террористом, который совершил убийство на территории США. При этом он действовал при поддержке международной террористической сети, которая в конце концов назовет себя «Аль-Каида».
И его карьера террориста еще не закончилась.
В начале 1993 года мой отец прямо из своей камеры в тюрьме «Аттика» помог спланировать первый взрыв во Всемирном торговом центре. План привели в исполнение его старые единомышленники из мечети в Джерси-Сити, в том числе Омар Абдель Рахман — человек в феске и темных очках, которого пресса окрестила Слепым Шейхом. 23 февраля уроженец Кувейта по имени Рамзи Юсеф и иорданец Исмаил Айяд загнали взятый напрокат желтый фургон, набитый взрывчаткой, на подземную парковку под Всемирным торговым центром. Их жуткий план (в составлении которого принял участие и мой отец) заключался в том, что одна из башен ВТЦ рухнет на другую, и погибших будет не счесть. Но им пришлось удовольствоваться взрывом, который пробил тридцатиметровую дыру в четырех бетонных перекрытиях, ранив при этом более тысячи ни в чем не повинных граждан и убив шестерых, в том числе женщину на седьмом месяце беременности.
Моя мать всячески пыталась оградить своих детей от того, чтобы они узнали, какие ужасные поступки совершил их отец; и я сам не хотел ничего знать, — так что прошло много лет, прежде чем я до конца понял, насколько ужасны были эти преступления — и убийство, и взрыв. Почти столько же времени пройдет, пока я не осознаю, как я был зол на отца за то, что он так обошелся именно с нами — с моей матерью, моей сестрой, моим братом, со мной. В то время, когда происходили эти события, понять и вместить их было слишком сложно для меня. Страх, гнев и отвращение к самому себе въелись в самое существо моей души, но я даже не пытался как-то справиться с этим. Во время взрыва во Всемирном торговом центре мне было почти десять. Уже в то время я эмоционально был как компьютер, который отрубили от сети. К моменту, когда мне исполнилось двенадцать, меня до такой степени затравили в школе, что я подумывал о самоубийстве. И все это продолжалось лет примерно до двадцати пяти, пока я не встретил женщину по имени Шэрон, которая помогла мне осознать, что я чего-то стою — как и история моей жизни. История мальчика, которого учили ненавидеть, история мужчины, который выбрал другой путь.
• • • • Всю свою жизнь я пытался понять, как мой отец пришел к террору, и мне было очень тяжело осознавать, что в моих жилах течет его кровь. Я рассказываю историю моей жизни, чтобы дать читателям надежду и руководство к действию: я рисую портрет молодого человека, воспитанного в пламени религиозного фанатизма, но не принявшего путь насилия. Не то чтобы я считал себя каким-то особенным, но в жизни каждого из нас есть основная идея. И главная идея моей жизни пока что такова: «Выбор есть у каждого. Даже если тебя учили ненавидеть, ты все равно можешь выбрать путь толерантности. Ты можешь выбрать путь эмпатии».
Тот факт, что, когда мне было семь, мой отец оказался в тюрьме за неслыханное преступление, чуть не разрушил мою жизнь. Но этот же факт сделал мою жизнь возможной. Из-за решетки мой отец не мог наполнять меня ненавистью. И, что еще важнее, он не мог помешать мне общаться с людьми, которых он демонизировал, и узнать, что эти люди — обычные человеческие существа, о которых я мог заботиться и которые могли заботиться обо мне. Фанатизм несовместим с личным опытом. И все мое существо отвергло его.
Вера моей матери-мусульманки ни разу не была поколеблена во время наших семейных испытаний, но она, как и подавляющее большинство мусульман, кто угодно, только не ярый фанатик. Когда мне было восемнадцать и я наконец немного повидал мир, я сказал маме, что я больше не могу судить о людях по ярлыкам, которые на них наклеены: мусульманин, иудей, христианин, гей, гетеросексуал, — и что отныне я буду судить о человеке лишь на основании того, каков он на самом деле. Она выслушала, кивнула, и ей хватило мудрости произнести четыре самых вдохновляющих слова, которые я когда-либо слышал: «Я так устала ненавидеть».
У этой усталости была веская причина. Наши скитания дались ей тяжелее, чем нам, ее детям. Какое-то время она носила не только хиджаб, который покрывал ее волосы, но еще и никаб — головной убор, скрывавший все, кроме ее глаз: она была истой мусульманкой, а кроме того, она боялась, что ее узнают.
Недавно я спросил мать, понимала ли она, какие испытания ждут нашу семью, когда они с дядей Ибрагимом выходили из больницы «Бельвю» 6 ноября 1990 года. «Нет, — ответила она без малейших колебаний. — Я была обычной матерью, и жила обычной жизнью, и вдруг оказалась в круговороте безумия, моя жизнь была выставлена напоказ, мне пришлось прятаться от журналистов, общаться с властями, с ФБР, с полицией, адвокатами, мусульманскими активистами. Я словно переступила какую-то черту и перешла из одной жизни в другую. Я и понятия не имела, как это будет сложно».
Сейчас мой отец сидит в федеральной тюрьме в Марионе, штат Иллинойс, его приговорили к пожизненному заключению плюс пятнадцать лет без права условно-досрочного освобождения, и обвинения включают, помимо прочего, сговор о призыве к мятежу, убийство в целях вымогательства, покушение на убийство сотрудника Почтовой службы США, убийство с использованием огнестрельного оружия, покушение на убийство с использованием огнестрельного оружия и незаконное владение огнестрельным оружием. Честно говоря, у меня все еще остались по отношению к отцу какие-то чувства, нечто, что я не смог полностью изгладить из души, — нечто вроде жалости и чувства вины, — хотя ниточка этих чувств и тонка, словно паутинка. Трудно осознавать, что человек, которого я когда-то звал Баба, теперь живет в клетке, а нам всем пришлось сменить имена от ужаса и стыда.
Я не навещал своего отца 20 лет. И вот почему.
Елена Минкина-Тайчер. Там, где течет молоко и мед
- Елена Минкина-Тайчер. Там, где течет молоко и мед. — М.: Время, 2016. — 288 с.
Что есть любовь? Преданность Родине, тоска по дому, обаяние ребенка, страсть женщины? Роман «Там, где течет молоко и мед» об обетованной Любви, музыкальная притча о четырех поколениях большой еврейской семьи, ветвистом дереве, срубленном под корень и возродившемся вновь. В книгу вошли также три повести — три истории в монологах, словно три пьесы, продиктованные жизнью — о страсти и усталости, надежде и вечном непонимании друг друга, смерти, предательстве, отчаянии.
Полания
И это называется выходной день! Суп, стирка, ковры надо пропылесосить. Да еще все время боюсь прозевать телефон. Можно, конечно, перенести его из салона и поставить здесь, но вдруг он соскользнет с кухонного стола? И как это люди обходились совсем без телефона?
Раньше ковры — это была обязанность Авива, но сейчас, когда он возвращается на выходные со своим ужасным рюкзаком и с автоматом и прямо на пороге начинает засыпать, просто сил нет просить его о чем-нибудь.
А погода какая хорошая. Не то что летом. Опять все зазеленело, солнышко такое мягкое. Можно, конечно, и не возиться с этим супом, не жарить лук, кто сейчас готовит клецки! Да, сегодня и супы уже почти не варят, в крайнем случае намешают из пакетика. Бр-р-р! Пока я жива, в моем доме не будет этих синтетических супов!
Я — полания*. Может быть, это все объясняет. Мой муж любит шутить, что полания не происхождение, а диагноз. Такие вот у него шутки. Его любимый анекдот: «Зачем
полания встает в пять утра и варит мужу кофе? — Чтобы, когда муж встанет в шесть, кофе уже был холодным».Хотя я родилась совсем не в Польше, а здесь, в Хайфе, на верхнем Адаре. А уже потом родители купили квартиру на Кармеле. Тогда он еще не был престижным районом, цены вполне умеренные, и много воздуха. На горе буквально другой климат, вы можете месяцами не включать кондиционер. Впрочем, кто этого не знает! Так что теперь я обладательница огромной квартиры в фешенебельном месте. Целое состояние! При желании можно спокойно купить две квартиры на Адаре, только поменьше, конечно. Или в Рамат Ицхаке. Новый район, тоже на горе. Но там окна смотрят прямо на заводские трубы в промзоне. Бр-р-р! Отвратительное зрелище!
Мои родители познакомились в молодежном движении. Мы все участвовали в молодежном движении, в левом, разумеется, хотя моя дочь Таль и посмеивается сейчас над нашими идеалами. Недавно я встретила бывшего товарища по нашему движению, Эли Айзенберга. Толстый солидный доктор-анестезиолог в большой черной бороде и почти лысый.
Лысый, представляете! Но все в тех же мятых штанах и футболке без ворота. Милый прежний Айзенберг!
— Ты знаешь, — возмущенно запыхтел Эли, размахивая руками, — мой сын на бар-мицву потребовал купить ему костюм! И галстук! Нет, ты скажи, кто его растил?! Ты можешь представить меня в галстуке?
Мы не признавали галстуки. Мы не признавали костюмы, платья и всю эту ерунду, принятую у религиозных. Еще не хватало, чтобы нас с ними путали! Мы хотели равноправия, мирного созидания, дружбы с соседями, транспорта
по субботам. Нельзя стоять два тысячелетия, упершись носом в Стену! По вечерам мы бродили по улицам и пели песни о свободной родине. Но кашрут соблюдали почти все. Даже кибуцники, хотя мы старались про это не говорить. Я и сейчас не люблю смешивать молочное с мясным, в конце концов, это же просто вредно для желудка!— Представляешь, сказал Айзенберг, — заведующий хотел влепить мне дежурство на Песах! Прямо на вечер! Видите ли, я не религиозный! Знаешь, что я ему ответил? «Я тысячу раз мог переехать в Америку, причем на совершенно другую зарплату, о чем ты прекрасно знаешь. Но я живу в нашей нелепой и нескладной стране именно потому, что только здесь у меня есть все права сидеть за столом в Пасхальный седер, спокойно сидеть в собственном доме, с собственными детьми и читать Пасхальную агаду так, как ее читали мой отец и мой дед и, я надеюсь, будут читать мои сыновья! И ты можешь переставлять кого угодно, христиан или мусульман, меня это совершенно не интересует. Я отработаю за них в Рамадан, или на Рождество, если хотите!»
Милый прежний Айзенберг! Наверное, мы все выглядим нелогичными, но как хорошо, что друг другу ничего не надо объяснять.
Я живу в квартире моих родителей. Так мы решили после развода. Мой муж выплатил мне половину за нашу прежнюю квартиру, а я отдала эту половину брату, правда, еще немного добавила, конечно. Хотя, брат мог бы и уступить. Ему этот дом совершенно не нужен. Большую часть времени он вообще проводит в Америке. У него там бизнес. По крайней мере, ему так кажется. Почему я так говорю? Потому что этот бизнес, если он существует в реальности, должен
иногда приносить доход. А моему брату он приносит одни убытки. А ведь ему уже почти пятьдесят. В прошлом году от него ушла жена, не вынесла скандалов и долгов. Пока он жил здесь, я еще ухитрялась их мирить, в принципе, у него доброе сердце, хотя, честно говоря, мало кому пожелаешь такого мужа. Может быть, мы отвечаем за грехи каких-то предков? Хотя, по-моему, это не очень справедливо, мы ведь даже не знаем своих ближайших родственников за исключением родителей. Покойных родителей, я хотела сказать.Нет, в Польше я была. Нас возили со школой. Все знают эту программу — памяти Катастрофы. По местам лагерей уничтожения. Так странно было ходить по городу и понимать речь на улицах. И надписи. В совершенно чужой стране! Нет, я плохо говорю по-польски, но понимаю свободно. Это от родителей. И идиш. Все мои приятели понимают идиш, хотя для нас это лишнее знание, конечно.
Мы говорили только на иврите, и в школе, и в нашем движении. Я запрещала маме даже обращаться ко мне попольски в присутствии других детей. С какой стати я должна была терпеть эти насмешки и издевательства! Тем более я была настоящей коренной саброй.
С тех пор многое изменилось. Посмотрите, русские вообще не хотят учить иврит. Вы можете это понять? Впрочем, Израиль для них просто кормушка. Возможность получить пособие и льготную машину! У нас другой родины не было. Если только Польша с ее лагерями уничтожения. Впрочем, не стоит об этом. Ненавижу политику!
А если поставить телефон на табуретку у стола? Так и он не упадет, и я не буду привязана к салону. Ведь надо же, наконец, закончить обед! Через час Таль вернется с занятий, привезут из школы Лею. Слава богу, что организовали наконец такую хорошую подвозку. А то приходилось все бросать и мчаться за ней в самый час пик. Но могли бы сделать и бесплатную. Мало того что у тебя ребенок аутист, так ты еще должен за все отдельно платить!
Нет, конечно, я и сама могу позвонить, что здесь особенного! Для того и придумали мобильные телефоны, чтобы можно было узнать, где твой ребенок. Но я обещала. Даже поклялась. Какой смешной мальчик, он так и сказал: «Мама, поклянись, что ты не будешь мне звонить! Не будешь делать из меня посмешище». И все потому, что первый месяц я приезжала к нему через день. Я старалась приходить незаметно, стояла в тени за палатками, но эти паршивцы, конечно, замечали! «Авив, твоя польская мамаша уже здесь!»
И зачем, спрашивается, кричать? Я просто хотела убедиться, что там нормальные условия. Если у вашего ребенка до десяти лет была беспрерывная астма, а потом начались такие же беспрерывные синуситы, разве вы не будете беспокоиться, как он дышит в этой ужасной пустыне?
Стиральная машина опять грохочет, всегда так при отжиме, чини не чини. Давно пора новую купить. С моей-то зарплатой! Но Меира это, конечно, не интересует, он алименты на детей платит, что еще! Все, отстучала, отжимает она все-таки неплохо, нечего говорить. Конечно, развешивать я сейчас не буду. Тут время нужно, все телефоны прозеваешь. Нет, детям я не поручаю, им лишь бы побыстрее, а ведь главное — растянуть хорошо, особенно на швах. Тогда можно вообще не гладить.
Слышала бы моя мама, что я стелю неглаженое белье! Вы не представляете, она же всю постель крахмалила! И только домашним крахмалом. Сама заваривала в кастрюльке
какую-то гадость, похожую на клей. Все простыни у нее были абсолютно белые, с ручной вышивкой по краям. С ума можно сойти! Она их откопала через десять лет после войны. Да, да, откопала из-под земли в их бывшем огороде. Ее родители закопали ночью перед уходом в гетто, у них там что-то вроде погреба было. Вот они и решили на время спрятать, завернули в клеенку и ложки, и простыни, и скатерти. Тоже с вышивкой! Кажется, это называется макраме. Все сохранилось! Еще место очень удачное оказалось, прямо под яблоней, легко запомнить. Мама сразу нашла, хотя перед войной ей было десять лет. Ни родителей, ни братьев, ни соседей, никого не осталось, а скатерти и простыни целехоньки!Нет, мама не рассказывала, как она спаслась. Мама никогда ничего не рассказывала и не спрашивала, она констатировала факты:
«Это платье тебе не идет, оно подчеркивает бедра, а они и так у тебя слишком широкие, а грудь, наоборот, плоская, лучше надень блузку с рюшами».
«Девочка из приличной семьи не должна так громко хохотать и петь, к тому же у тебя нет слуха, лучше сядь в сторонке и помолчи».
«Нет ничего отвратительнее нестриженых ногтей, к тому же у тебя короткие пальцы, незачем обращать на них чужое внимание».
Моя подружка Яэль отращивала ногти неимоверной длины, и носила обтягивающие платья, и хохотала на переменках так, что казалось, стекла вылетят из рам. В доме у них гремела музыка, на спинке стула запросто мог висеть лифчик, в прихожей вразнобой стояли туфли, а в раковине
мокла вчерашняя посуда. И при этом Яэль была счастливой. Даже имя у нее было счастливое, звонкое, без всякой связи с нудными праведниками из Торы. Да, я же не сказала, что меня зовут Хавой. В честь маминой погибшей матери. Попробуйте что-то возразить! По этой же причине моему брату досталось не менее удачное имя Мордехай.А Яэль прежде звали Ольгой. Прямо как дочку Ротшильда. Нарочно не придумаешь! Но ее мама не упиралась в имена предков и прочие глупости. Новая страна, новое имя, чего лучше!
Ну да, Яэль была русская. Они приехали втроем из какойто прибалтийской республики. Оказывается, этих республик несколько, две или три, а может, и все четыре! Вернее, они приехали вдвоем — Яэль и ее мама на седьмом месяце беременности. Авиталь уже здесь родилась. Вы думаете, ее маму смущало, что она — одиночка, да еще дети неизвестно от каких пап? Вы думаете, она принялась прибирать соседские виллы, горестно вздыхать и одевать детей в старые платья, подаренные хозяйками этих вилл? Как бы не так! Двух лет не прошло, как она уже работала в прес тижной электронной фирме. Никто и не заметил, когда она успела выучить иврит и окончить курсы! А по вечерам она гуляла в парке со своими прекрасными дочерьми, в прекрасных платьях, с прекрасными белокурыми волосами и прекрасными современными именами. Можете не сом неваться, еще через полгода у нее появился поклонник, или, как теперь говорят, друг — разведенный адвокат в серебристом «форде» последней модели. Другая женщина может всю жизнь прожить в Израиле и не найти такого друга! На выходные друг увозил маму Яэль в своем «форде» в какие-то роскошные поездки, а я шла ночевать в эту веселую суматошную квартиру, где мы чуть не до утра шептались, жевали корнфлекс, любовались спящей белокурой Авиталь, рассказывали друг другу страшные, как нам тогда казалось, секреты. И вот однажды глухой дождливой ночью Яэль рассказала мне, как она жила с мамой и папой в чудесном городе с большими старинными домами, город назывался Рига, я до сих пор помню это странное слово. Папа был пожилой добрый и очень тихий, а мама наоборот — ужасно молодая и веселая хохотушка. И каждый день ее провожали с работы студенты, потому что она преподавала физику в университете. И вот однажды Яэль увидела как один студент, высокий и прекрасный, как молодой король, стал перед мамой на колени и принялся обнимать ее ноги. А мама вдруг заплакала. А потом папа ушел из дома, а на его месте стал жить этот студент, и ночевал в папиной постели, и брился в их ванной, вкусно поскрипывая блестящей бритвой, и пел по утрам на кухне, мешая кофе и откидывая назад длинные светлые волосы. А потом мама забеременела, ее все время тошнило, она совсем не могла есть, но держалась, пока не потеряла сознание прямо на лекции. Маму отвезли в больницу, а Яэль, которой уже исполнилось 14 лет, осталась одна в квартире с прекрасным студентом, и однажды ночью он встал на колени у ее постели, как когда-то стоял перед мамой, и принялся целовать ее голые ноги, и живот, и груди, и она понимала, что происходит что-то ужасное, но не могла его оттолкнуть, а наоборот, обняла дрожащими немеющими руками. А потом студент еще несколько раз приходил к ней, и обнимал, и качал на руках как маленькую, и только просил ничего не рассказывать маме. И когда мама вернулась наконец из больницы, она не могла смотреть на нее от стыда и ужаса, и молчала, и ревела в подушку, а потом
все-таки рассказала, трясясь и задыхаясь от слез. А мама только гладила ее по голове, целовала и гладила по голове, а сама раскачивалась из стороны в сторону, как заводная кукла. А потом они очень быстро собрались и уехали в Израиль. Вот и всё.
* В Израиле принято называть евреев, выходцев из разных стран, по стране исхода: русские, англичане, румыны. Полания — еврейка из Польши.
Майя Кучерская, Татьяна Ойзерская. «Сглотнула рыба их…»: Беседы о счастье
- Майя Кучерская, Татьяна Ойзерская. «Сглотнула рыба их…»: Беседы о счастье. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016. — 448 с.
Кому беседовать о счастье, если не психологу — почти эксперту по счастью — и прозаику, который ищет его для всех своих героев? Потому и книгу «Сглотнула рыба их…» Майя Кучерская и Татьяна Ойзерская написали вместе. Каждый делает то, в чем мастер: Майя рассказывает истории и задает вопросы, Татьяна Борисовна отвечает, комментирует и приводит примеры из практики. Истории, рассказанные Майей Кучерской, складываются в отдельный, новый цикл. Формула книги — «Ключи от счастья женского… Пропали! думать надобно, Сглотнула рыба их…»
Глава седьмая
Просвещение чувств
1. Языки любвиМ.К. Мы остановились на том, как важно говорить
с любимыми людьми на языке, который им близок, понятен. Означает ли это, что у любви есть
свои собственные, не побоюсь этого слова, любовные языки?Т. Б. Да, именно. Психологи выделили несколько таких языков, и первый из них — слова поддержки.
Одобрение необходимо всем людям и в любом
возрасте. Неодобрение возвращает нас в детство,
когда мы страдали от слов родителей: «Посмотри на себя! На кого ты похож?!» Осуждающие
слова причиняют нам привычную с детства боль,
за которой по пятам следует злость. А злость, которую не выпускают наружу, становится ненавистью.Любовь — добра. И одобрение — лучший способ ее передать. Важно не просто говорить добрые слова, но говорить их так, чтобы им верили. А верим словам мы тогда, когда их смысл не
расходится с тоном, каким их произносят.
Проявлением любви является также качественное время — когда наше внимание безраздельно
отдано другому. Именно оно дает нам ощущение близости.Вы никогда не замечали, что в ресторане можно сразу определить, где за столиками семейные
пары, а где — нет? Те, которые пришли на свидание, смотрят друг на друга и разговаривают. Семейные пары смотрят по сторонам. Они рядом,
но не вместе.Когда отец сидит на полу с двухлетней дочуркой
и катает с нею мячик, его внимание сконцентрировано не на мячике, а на его дочери. Если же,
катая мячик, он разговаривает по телефону, его
внимание рассеянно — он вовсе не с дочерью.
Ключевым аспектом качественного времени является сфокусированное на человеке внимание.
Некоторые мужья и жены думают, что проводят
время вместе, в то время как в действительности
они просто живут по соседству друг с другом.М.К. Потому что любовь — это отданность другому.
Собственному ребенку, игре с ним и полной погруженностью в построение, например, дворца
из лего. Мужу. Определенные отношения названы словом «отдаваться». Но в семье мы не отдаемся, а отдаем. Хочется сказать — служим.Т. Б. И хочется правильно, потому что еще одним —
очень важным для некоторых — языком любви
является служение. Да-да, то самое, о котором вы
говорили, начиная разговор о супружестве.М.К. Опять выдохну, как и с кротостью: наконец-то!
Т. Б. Но служить-то тоже надо уметь! К сожалению, чаще служение выглядит так: «Я служила
ему двадцать лет. Я прислуживала ему во всем.
Я была его ковриком для ног, а он не обращал
на меня никакого внимания, унижал меня перед
своими друзьями».М.К. Понятно, рано я выдохнула.
Т. Б. Эта женщина «служила» мужу в течение двадцати
лет, но ее действия не были выражением любви.
Именно против такого «служения» я и протестую.
Или другая жена — выросшая в семье, где служение также было основным языком любви. Она
часами стоит на кухне, готовит изощренные
блюда, а ее муж любит макароны с сыром. Он
говорит, что не хочет, чтобы она тратила столько
времени на готовку, тогда у них было бы больше
времени друг для друга, а она обижается и считает, что муж ее не ценит.Или наоборот, муж приходит с работы первым,
готовит еду, моет посуду и делает много чего
еще в доме ради жены, стараясь взять на себя
груз домашних дел, а жена чувствует себя обделенной. Ей хочется, чтобы он просто посидел
с ней, обнявшись, на диване, выслушал бы ее.
Потому что она чувствует, что любима, когда ей
уделяют качественное время.Для многих людей прикосновение является основным языком любви. Прикосновения необходимы не только ребенку, эмоциональное здоровье и развитие которого зависят от того, есть ли
у него физический контакт с матерью. Оно совершенно необходимо и взрослым. Некоторые
психологи даже утверждают, что для эмоционального здоровья нам необходимо не менее
семи объятий в день.Без тактильного контакта трудно почувствовать
себя любимым. Однако физическое прикосновение может и улучшить, и разрушить отношения. Оно может вызвать и любовь и ненависть,
если тот, кто нас касается, не чувствует, как его
прикосновения действуют, и вынуждает нас переносить неприятные нам ощущения.Понятно, что для мужчин язык прикосновений
необычайно важен — попробуйте убедить мужчину, что вы его любите, если отказываете ему
в физической близости. И эта тема одна из самых трудных для обсуждения между супругами.
Еще одним, последним по значению, языком
любви являются подарки. Вспомните, как приятно, когда кто-то своим подарком нам угодил.
Угодил потому, что знает, что мы любим, чем
можно нас порадовать. А значит, он внимателен к нам, и именно это мы и ценим. Иногда
подарок — некое баловство, и это важно тоже,
потому что мы чувствуем, что дать сверх необходимого можно только по любви.Чтобы вернуть теплоту в отношения, восстановить контакт, необходимо, прежде всего, научиться общаться на том языке, который понятен
другому. Конечно, хорошо, если это стремление
обоюдное, но даже усилия, принятые в одностороннем порядке, могут изменить ситуацию
к лучшему.И людей этому надо учить.
Искусство слушать
Игорь Чепуров работал инженером в банке. Он должен
был следить за системами видеонаблюдения, сигнализацией, но на самом деле исполнял все, что нужно по
технической части: чинил, паял, подключал, отвечал
и за электричество, и за телефонную связь. Был Игорь
мастер на все руки, оттого и числился уже год как на
две ставки, и изматывался после работы так, что домой
почти приползал. Дома его поджидала Людка. И пятилетний Сема, но обычно уже в полусне.Людка вкусно кормила, следила за его одеждой
и обувью, и Игорю до сих пор очень нравилась, одно
было тяжело… жена любила поговорить. И когда?
Вечером! Когда Игорь вообще без сил. И ведь как заведет прям за ужином. Чтобы спокойно поесть, с чув-
ством-толком посмотреть Спорт-ТВ, расслабиться
впервые за день — нет, этого никогда не было, телевизор работал без звука, а звуком работала Людка. Ля-ля-
ля, ля-ля-ля. Му-му, му-му. Ты меня слушаешь вообще?
А я ему говорю, а он мне… нет, ты представляешь?
Игорь измученно мычал что-то в ответ. Одно спасение — Сема. Сын плохо засыпал, звал к себе, и жена
регулярно к нему убегала.Так продолжалось почти весь этот трудный год,
пока терпение у Игоря не кончилось. И вот однажды,
вернувшись с работы, он так и сказал: «Хочешь, чтобы
мы жили вместе дальше, за ужином со мной не разговаривай. Дай спокойно пожрать. Под телевизор». Но
Людка на это, конечно, возмутилась: а обсуждать всё
когда? Потом. Да когда потом, целый день тебя не вижу,
целый день ты на работе пропадаешь, а у меня… и пошла.
Он глянул. Замолчала, но на следующий день всё снова
повторилось. Ля-ля, тополя, ку-ку, кукареку. А вот Семку
в садике обижают, а я их воспитательнице говорю…Не поняла, в общем. Рявкнул Игорь снова да погромче прежнего. Снова всё объяснил. И Людка, наконец, стихла, причем надолго. Стало Игорю хорошо —
жена молчит, сын спит. По выходным, впрочем, они
общались, но тоже особо лезть к себе он не позволял,
надо ж когда-то и отдохнуть человеку.И тут вызывает Игоря в банке начальник отдела,
Валерий Евсеич, Людкин родственник, благодаря ему
Игорь здесь и оказался. Мужик уже не молодой, но надежный — полжизни проработал главным конструктором на крупном заводе. Вызвал и странно так на Игоря
смотрит. Будто смеется, а вроде и серьезный.— Вот что, Игорек. Тут партнеры нас донимают,
«Институт саморазвития», тренинги бесплатные предлагают и буквально давят уже. Хотят отдариться, мы им
кое в чем сильно помогли. Я их футболил-футболил, но
отказываться дальше уже неудобно. И начальство меня
замучило, пошли кого-нибудь да пошли. А мне жалко,
что ли? В общем, решили, ты пойдешь. На какой-нибудь
их однодневный тренинг.— Я? Куда? — Игорь даже поперхнулся от изумления. — Да я-то при чем, Валерий Евсеич, мне работать надо, какой еще тренинг?
— От работы ты, само собой, освобождаешься.
А какой тренинг… да тут целый список. Что тебе больше нравится? — Евсеич погрузился в какой-то сайт
и начал зачитывать: — «Знакомства без отказа: в бизнесе
и личной жизни…» как тебе? «Искусство соблазнения»,
«Как очаровать мужчину с первого взгляда», так, ладно,
это не то. «Бесконфликтное управление персоналом»,
«Как жить эффективно». А вот, может, это? «Как стать
счастливым в семье: искусство общения». Как раз сегод-
ня после обеда, годится?Игорь был так потрясен, что ничего не ответил.
А Валерий Евсеич уже набирал номер.После обеда Игорь сидел в небольшом зале в мягком синем кресле в компании молодых и не очень женщин. Из мужчин он был здесь один. Вела тренинг тоже
женщина, полногрудая, большая, но шустрая; долго тянуть она не стала и сразу же сказала грудным, чуть гипнотизирующим голосом, что главное в семейной жизни — общение, нужно уметь говорить друг с другом,
слушать друг друга и обсуждать все проблемы вместе.
Начать иногда трудно, но существуют простые фразы, которые помогают сделать первый шаг. Например:
«Давай спокойно это обсудим» или «Знаешь, я думаю,
нужно об этом просто поговорить», а где-нибудь в середине разговора надо произнести «Я тебя понимаю»,
еще лучше «Как же я тебя понимаю», и не забывать подбадривать собеседника словами поддержки. Да, важно
эти фразы произносить в предельно спокойной обстановке, ни в коем случае не во время конфликта, а на-
пример, уже улегшись спать, в супружеской постели.
Игорь слегка смутился, ведущая особенно не церемонилась, оглянулся вокруг: все благоговейно внимали, некоторые даже строчили за лекторшей в свои блок-
нотики. Интересно, так и выводили «в супружеской
постели»?— Но прежде чем приступить к тренировке и оттачиванию практических навыков, — продолжала как
ни в чем не бывало ведущая, — давайте посмотрим
ролик.Тут она включила приятную психоделическую
музыку, свет в зале погас, на экране появились симпатичные мужчина и женщина, видимо, муж и жена, они
о чем-то взволнованно разговаривали и, кажется, собирались поссориться. Что случилось дальше, Игорь так
и не узнал. Как всегда не высыпался, а тут музыка, темнота — кто это выдержит? Он проснулся уже под конец
тренинга, женщины в зале были сильно возбуждены,
что-то они, видимо, только что бурно обсуждали, а когда увидели, что он открыл глаза, засмеялись.
«Мы пытались вас разбудить, но… не получилось!» — пояснила ведущая.Вечером Игорь пришел домой не такой уставший,
как обычно. Все-таки полдня не работал плюс поспал
на тренинге. После ужина поиграл даже с Семой, построили домик из Лего, поселили в него пластмассовую
собачку и мальчика. И Людка более-менее молчала, как
всегда в последнее время, но поздно вечером, когда уже
легли спать, все-таки не выдержала.— Знаешь, Сема наш «р» не выговаривает, нужно
заниматься с логопедом. Сегодня сходила с ним на первое занятие, а этот логопед… — и Люда вдруг всхлипнула.Тут Игорь медленным гипнотическим голосом,
в точности, как ведущая на тренинге, проговорил:— Подожди-ка, давай это просто спокойно обсудим.
Людка так и подскочила.
— Что?
— Ничего. Предлагаю всё это спокойно обсудить.
Дальше случилось невероятное. Людка крепко обняла Игоря, еще немного поплакала, а потом заговорила. Она говорила и говорила: про логопеда, про то, что
логопед этот, кажется, совершенно не профессионален,
про школу для Семы, пора было уже об этом задуматься,
про Верочку, ближайшую подругу, которая собралась,
кажется, разводиться с мужем. Игорь иногда вставлял:
«Как же я тебя понимаю», а изредка поддерживающе:
«Так само собой». В конце концов он тихо уснул и произносил эти фразы сквозь сон, а потом и не произносил
вовсе. Но Люда всё говорила, вздыхала, улыбалась и, наконец, замолчала, задумалась.«Неужели письмо мое дяде Валере так подействовало, а я-то тряслась, боялась, что наврежу. С другой
стороны, ничего особенного я там не написала, только,
что поговорить никак не могу с собственным мужем.
А может, это и не письмо, а просто добрый он у меня,
Гоша, сегодня не так устал, и надо же, как внимательно
он умеет слушать. Как сочувствует!»С тех пор они жили душа в душу. Перед сном
Игорь произносил заветную фразу, одну, другую, Люда
начинала говорить, он вставлял третью, дальше все шло
как по маслу.
Инна Осиновская. Поэтика моды
- Инна Осиновская. Поэтика моды.— М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 144 c.
Мода — не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это
еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря
«производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных
сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. О диктатуре гламура,
общими чертами между книгой рецептов и глянцевыми журналами, подиумными показами и священными ритуалами, а также пряхами, портными, башмачниками в сказках и колдунами и магами рассказывает в книге «Поэтика моды» журналист, культуролог, кандидат философских наук Инна Осиновская.Мода и еда
Я знаю столько рецептов, может воспользоваться этим —
выпустить ветчину или ростбиф?Кристиан Диор
Гламур наивен, роскошь серьезна, а мода легкомысленна. Мода не прочь пошутить и поиронизировать, она любит играть и шокировать. Мода любит парадоксы, диссонанс, абсурд. И если говорить о моде на ее же языке игры и абсурда, почему бы не провести странное, диссонансное сопоставление, рассмотрев
мотив еды в поэтике моды. Мода и еда: на первый взгляд такое сопоставление
кажется странным, но это не так. В поэтическом поле моды, в ее языке присутствует множество связанных с едой образов, которые работают на разных
смысловых уровнях. Даже на бытовом языковом: в английском языке слово
«dress» означает и «платье», и «одеваться», и «приправлять пищу».Во многом связь еды и моды реализуется через отрицание, отторжение.
Еда, страсть к поглощению пищи, кухня — это «подсознательное» моды. Это то,
что модный дискурс изгоняет из себя, помещая в глубины своего «сознания».
«Эльза Скиапарелли утверждала, что одежда не должна подгоняться к человеческому телу, а, скорее, тело должно приспосабливаться к одежде», — напоминает
Ларс Свендсен в своем исследовании «Философия моды» (Свендсен 2007: 113).«Подгонка» тела под одежду сопровождается изнуряющими диетами,
зачастую ведущими к анорексии. Мода создает культ диет — ограничений
в пище. Поглощение пищи в больших количествах, удовольствие от еды и пребывание в поле модного — взаимоисключающие вещи. Жан Бодрийяр объясняет это взаимоотношение историко-культурными факторами: «Прежние
общества имели свою ритуальную практику воздержания. <…> Однако различные институты поста и умерщвления плоти вышли из употребления как архаизмы, несовместимые с тотальным и демократическим освобождением тела»
(Бодрийяр 2006: 184). В итоге в современном обществе произошла подмена
в устремлении этой агрессии по отношению к телу, и «весь агрессивный враждебный импульс», больше не контролируемый и не устраняемый религиозны-
ми социальными институтами, «хлынул сегодня в само сердце универсальной
заботы о теле», благодаря чему «тело становится угрожающим объектом…
[который нужно] умерщвлять с „эстетическими“ целями, с глазами, устремлен-
ными на тощие, бестелесные модели журнала Vogue» (там же). Иными словами,
агрессия никуда не делась, и в практиках религиозных постов и в «ритуалах»
модного воздержания в еде — один и тот же посыл, один и тот же импульс,
смысл которого в уничижении телесности. Но, пожалуй, именно эта сегодняшняя табуированность всего, что связано с едой в мире моды, и делает образы,
относящиеся к еде, такими устойчивыми составляющими поэтики моды.Потреблению пищи в современном мире, независимо от соотнесенности
с миром моды, нередко сопутствует чувство вины (Барт 2003: 199). Удовольствие от еды — это провинность, и здесь опять же заметен историко-культурный религиозный след. Чревоугодие — один из семи смертных грехов в католической традиции, один из восьми в православной.
p>Чувство вины также сопровождает и «потребление» одежды. «Обжора»
от моды — это раздираемая угрызениями совести покупательница одежды,
особа, зависимая от самого процесса покупок, ее принято, вслед за британской
писательницей Софи Кинселлой, которая ввела этот термин в своем романе
2000 года, называть «шопоголиком» по аналогии с алкоголиком.Питаясь этим чувством вины, индустрия моды разыгрывает важный козырь: соблазн. Соблазн, как подмечали и Жан Бодрийяр (Бодрийяр 2006: 173),
и Жиль Липовецкий (Липовецкий 2012: 228), — механизм, с помощью которого мода «лучше продается». Там, где есть запретный плод, есть вина, а значит,
есть соблазн, и там, где есть соблазн, есть желание заполучить соблазняющий
объект. Модный соблазн провоцирует гиперпотребление, гиперприбыль —
прибыль от продажи не самых нужных вещей. «Доставьте себе маленькую радость, купите еще одни неудобные туфли, еще одну маленькую сумку, еще одно
платье, которое наденете один раз» — таков смысл модного послания, транслируемого через глянцевые журналы, рекламу и т.д. И механизм соблазнения, как
вирус, продолжает действовать и после совершения покупки: соблазненный
рекламой потребитель носит одежду не затем, чтобы защититься от холода
или прикрыть наготу, а затем, чтобы соблазнять — и не столько в физическом
смысле, он сам становится «рекламоносителем», подталкивая других к потреблению. Поэтому производители одежды и аксессуаров уровня luxury нередко
прибегают к помощи знаменитостей — дарят им платья, туфли, украшения,
в которых представители шоу-бизнеса появляются на публике. А глянцевые
журналы делают этим вещам бесплатную рекламу, публикуя красочные обзоры
нарядов с красной дорожки какого-нибудь кинофестиваля. «Обольщение и соблазнение обособились от старинного ритуала и традиции, они начали свою
длинную современную карьеру, индивидуализируя, пусть и частично, знаки
одежды, идеализируя и обостряя чувствительность внешнего вида. Модная
одежда, являя собой динамику излишеств и преувеличений, изобилие хитрых
уловок, подчеркнутой изысканности, свидетельствует о том, что мы уже оказались в современной эпохе соблазнения, в эпохе эстетики индивидуальности
и чувственности», — пишет Липовецкий в книге «Империя эфемерного. Мода
и ее судьба в современном обществе» (Липовецкий 2012: 70).Сходство еды и моды не ограничивается чувством греховности, сопутствующим потреблению в обоих сферах. Основанием для плодотворного сопоставления может служить большая социальная роль как пищи, так и предметов
гардероба. Об этом пишет Ролан Барт в «Системе моды». Пища служит не
только насыщению, а одежда — не только сокрытию наготы. И то и другое —
коммуникативный знак: «Сколь бы ни была функциональна реальная одежда,
она всегда содержит в себе и сигналетическое начало, поскольку любая функция является как минимум знаком себя самой; рабочая спецовка служит для
труда, но одновременно и демонстрирует этот труд», а пища, продолжает Барт,
«связана одновременно и с физиологической потребностью, и с некоторым
семантическим статусом — еда и насыщает, и нечто значит…» (Барт 2003: 298).
Так, кофе, говорит Барт в другой работе («К психосоциологии современного
питания»), не просто бодрит или расслабляет — он ассоциируется «с ситуациями паузы, передышки, даже расслабления» (там же: 377). И какое-нибудь
«маленькое черное платье» — это тоже «ситуация», целая система знаков и значений: оно отсылает к легендарной Коко Шанель, к означаемому «французскости», элегантности, также подразумевает торжественность повода.Ассоциация моды с едой становится особенно очевидной, когда дело доходит до описаний. Стилистические советы в глянцевых журналах построены
по принципу рецептов. Модный look (образ, вид, далее — «лук»), или общий
спектр тенденций нового сезона, — это комплекс подходящих друг к другу ингредиентов, многослойный пирог. «Поэтика рецепта» тиранична. Количество
ингредиентов для какого-нибудь пирога указывается в точных измерительных
категориях (добавьте 25 граммов дрожжей и 250 граммов сахара), и эта точность
пленяет и пугает. В стандартном рецепте все категорично, нам не объясняют,
почему именно 25 граммов дрожжей и что будет, если положить 30 или 20.
Но очевидно, что это будет неправильно, нехорошо, непоправимо, что это нарушит гармонию. Ролан Барт говорит, что мода тиранична, и хочется добавить, что
рецептурная категоричность и недосказанность, граничащая с иррациональностью, заметна в языке моды. «Этим летом носят синее, а коричневое и бордовое
уберите подальше в шкаф, каблуки-шпильки вышли из моды, замените их каблуками-рюмочкой», — пишут в каком-нибудь глянцевом журнале. Нет никаких
объяснений, почему синее, почему вдруг шпильки впали в немилость и что будет,
если пренебречь «рецептом-заклинанием». Впрочем, что будет, как раз ясно —
выпадание из магического круга моды, непоправимая порча «модного пирога».
Вещь, отвечающую тенденциям сезона, в глянцевых журналах называют must
have (англ., букв. «нужно иметь»): must — это не совет, не рекомендация — это
приказ, долженствование. При этом и кулинарный рецепт, и модный глянцевый
императив, как капризные тираны, вдруг могут предоставлять неожиданную
свободу, которая пугает еще больше. «Добавьте соли и перца по вкусу» или
«к этому наряду подойдет яркий аксессуар, который придаст индивидуальный
акцент всему образу». Только что нас водили за ручку, давая четкие, не терпящие
сомнений и возражений указания: «наденьте синее», «возьмите 25 граммов» —
и тут вдруг: «по вкусу», «яркое» (насколько яркое, какого цвета, что именно).
Это призрачная свобода, ловушка, которая опять же может испортить весь
«пирог». Вообще мода часто «водит за ручку», модный дискурс принимает на
себя роль матери, отдавая потребителю роль ребенка, который должен учиться,
слушаться, следовать совету. Изначальная функция матери — кормить и одевать,
ну и утешать (еда помогает справиться со стрессом, равно как и поход по магазинам), так что языки моды и еды пересекаются и в этом поле — материнства.Рассуждая о тенденциях, принято писать и говорить о вкусах: о смене
вкусов, о вкусах, о которых «не спорят», о дурном или хорошем вкусе. Жиль
Липовецкий, рассказывая о зарождении дендизма, мимоходом обращает внимание на связь становления модной индустрии и формирования культуры
еды. Он пишет о феномене вкуса, который равно широко употребим в модной
и в кулинарной практике: «Повышение социальной и эстетической ценности
моды происходило одновременно с возрастанием общественного значения
многочисленных второстепенных тем и предметов обсуждения. <…> Об этом
свидетельствуют подробные описания вкусов денди и такие работы, как: „Гастрономия“ Бершу (1800), „Альманах гурманов“ Гримо де ла Реньера (1803),
„Психология вкуса“ Брийя-Саварена (1825)» (Липовецкий 2012: 99). То есть
в эстетике дендизма зарождается понятие «стиль жизни» (lifestyle), в котором
главные роли отводятся как раз одежде и еде. Ольга Вайнштейн, в свою очередь, описывая историю дендизма, приводит в пример античного «модника»
Алкивиада, который, явившись на философский пир, описанный Платоном,
вызвался быть распорядителем: «Эта роль тоже типична и для денди: „распорядитель пира“, присутствие которого необходимо для общего тонуса, остроты
беседы, гастрономического удовольствия» (Вайнштейн 2006: 40). Эстетическое
удовольствие от внешнего вида изысканно одетого денди прочно связывается
с наслаждением едой. Часть работы fashion-редактора проходит в хождении
по «пресс-дням», где представители модных брендов проводят презентации
сезонных коллекций, неизменно сопровождающихся «пиром» — словно дыня
с пармской ветчиной и фуа-гра с шоколадом помогают лучше оценить до-
стоинства платьев и украшений. По крайней мере, сами дизайнеры с этим
посылом не спорят. «Я решил назвать музей Silos, потому что это здание также
используют для хранения еды, а она, бесспорно, очень нужна для жизни. Для
меня еда так же важна, как и одежда», — признался Джорджио Армани на открытии музея в Милане, созданного в честь 40-летия его творчества (цит. по:
www.buro247.ru/culture/arts/muzey-armani-silos-mesto-sily.html). Около 600 работ
дизайнера разместилось в доме, построенном в 1950 году и изначально служившем пищевым складом компании Nestlé.Итак, мы только что рассмотрели некоторые общие принципы, на которых строится корреляция между модой и едой, общие для двух сфер области
значения. Теперь можно перейти к конкретным примерам и наглядно увидеть,
как именно образы, связанные с едой, присутствуют в поле моды.