По отрывкам из книг, подобранных «Прочтением», видно, что писатели разных стран с одинаковым удовольствием создавали в своих произведениях атмосферу волшебства как в XIX веке, так и в 2016 году. Несмотря на то, что с 1927-го по 1936-й елка в нашей стране была под запретом, она во все времена оставалась главным атрибутом Нового года и Рождества. Без мерцающих огоньков, блестящих шаров и хвойного запаха представить праздничные дни невозможно.
- Елена Душечкина. Русская елка: история, мифология, литература (2014)
Следующий, 1937 год советский народ, уже забыв о запрете на елку, встречал с «зеленой красавицей», не подозревая, чтó готовит наступающий год многим из веселящихся возле наряженного и светящегося дерева. Так, Р. Д. Орлова вспоминает:
У нас встречали Новый, тридцать седьмой год с шуточными стихами, вином, елкой, весельем и глубокой убежденностью: мы живем в прекраснейшем из миров. Новый год олицетворялся самой миниатюрной из наших девочек — Ханкой Ганецкой. Саша (Александр Галич. — Е. Д.) внес ее на руках, завернутую в одеяло, к пиршественному столу… Кто мог предвидеть, что Ханке предстоит пережить смерть мужа, что ее отца и брата расстреляют, мать посадят, а еще через год она сама пойдет по этапу…
В эти же предвоенные годы проходили и другие, мало кому известные елки. Об одной из них сохранился рассказ Агнессы Мироновой-Король, жены крупного работника НКВД С. Н. Миронова. Накануне 1939 года Миронов удостоился великой чести быть приглашенным с женой на встречу Нового года в Кремль. Рассказчица со свойственной ей непосредственностью передает подробности этого события (которое, как она полагала, сыграло роковую роль в жизни ее мужа):
Большой двухсветный зал Кремлевского дворца. Сейчас я вам нарисую план — как стояли столы, где была елка и где кто сидел.
Среди зала большая пышная елка, связанная из трех елей. Сталин в глубине зала за широким столом. Напротив Сталина за тем же столом — жена Молотова Жемчужина и другие партийные дамы, все в синих костюмах и платьях, только оттенки разные. Слуги обносили нас — один икру, другой осетрину, третий горячие шашлыки и еще что-то. Блюда были изысканны, разнообразны… Столы уставлены винами… Мы сидели с Сережей за боковым столом слева; если смотреть на схему так, как я вам начертила, вот тут, у самой елки. Место наше — в середине зала и не очень далеко от Сталина — указывало на наше положение: тут тщательно соблюдали субординацию. Если нам определили такое место, значит, мы в фаворе.
В этом драматическом рассказе «связанная из трех елей елка» выполняет роль ориентира: Агнесса с мужем сидели «у самой елки»; «вход был за елкой»; «и вот Берия поравнялся с елкой…» и, увидев Миронова, «индифферентно прошел мимо». Агнессу, которая встретилась с Берией глазами, «как ударило, точнее все во мне словно сжалось». Этот новогодний инцидент, по ее мнению, и решил судьбу ее мужа, одного из людей Ежова, с которыми Берия решил расправиться: на шестой день наступившего года, 6 января, Миронов был арестован, а через год расстрелян.
Разрешенная властями елка как будто бы утрачивала свою легендарную способность охранять и спасать людей.
- Николай Телешов. Елка Митрича (1897)
Был ясный морозный полдень.
С топором за поясом, в тулупе и шапке, надвинутой по самые брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запушены снегом, и борода Митрича заиндевела, и усы замерзли, но сам он шел ровным, солдатским шагом, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал. Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя – водки и колбасы, до которой был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам.
Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец; потом приладил ее, чтобы стояла, и, когда все было готово, потащил ее к детям.
– Ну, публика, теперь смирно! – говорил он, устанавливая елку. – Вот маленько оттает, тогда помогайте!
Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал:
– Что? Тесно стало?.. Небось думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает?.. Ну, ну, публика, не сердись! Тесно не будет!..
Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица, печальные и задумчивые, внезапно повеселели… Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза.
Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками.
– Ну-ка, ты, кавалер! – обратился он к мальчику, стоя на табуретке. – Давай-ка сюда свечку… Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.
– И я! И я! – послышались голоса.
– Ну и ты, – согласился Митрич. – Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвертый другое… А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите… Вот мы, значит, все и будем при деле. Правильно?
Кроме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:
– А ведь… жидко, публика?
Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал:
– Жидко, братцы!
Но, как ни увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме восьми конфет, он ничего не мог.
– Гм! – рассуждал он, бродя по двору. – Что бы это придумать?..
Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился.
– А что? – сказал он себе. – Правильно будет или нет?..
Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет?.. Выходило как будто «правильно»…
– Детишки они малые… ничего не смыслят, – рассуждал старик. – Ну, стало быть, будем мы их забавлять… А сами-то? Небось и сами захотим позабавиться?.. Да и бабу надо попотчевать!
И не долго думая Митрич решился. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения.
– Ладно!.. Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. И хлебца по ломтику отрежу, и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку!.. И себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство! Ай да Митрич! – весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. – Ай да затейник!
Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленым воском, смолою и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и, когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели.
- Аркадий Гайдар. Чук и Гек (1939)
На следующий день было решено готовить к Новому году елку.
Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки!
Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов.
Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела.
Это было замечательно! И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные. Но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные.
Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес.
Через полчаса он вернулся.
Ладно. Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо — прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица — высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки.
- Петр Алешковский. Крепость (2015)
После обеда он залез на чердак, вынул из сундука старые обувные коробки: в них хранились елочные игрушки. Стеклянные шары были переложены ватой и завернуты в мятую газету, на одном обрывке сохранился кусочек первой страницы «Деревского рабочего» от 20 декабря 1974 года с короткой заметкой из раздела «Разное». <…> Смятая бумага с мертвым языком умершей страны сохранила его любимый светло-зеленый шар: на стекло серебряной краской были нанесены две нити, они опоясывали шар выпуклыми параллельными спиралями, зажав нитку в пальцах, спирали создавали ощущение бесконечного движения. В детстве он непременно крутил шар перед тем, как повесить на елку, и однажды чуть не разбил, когда перетерлась ветхая ниточка, лишь чудом подхватил его и спас. <…> Мальцов всегда вешал зеленый шар на самые верхние ветки. В темноте при горящих свечах игрушка начинала светиться из глубины тихим зеленым светом, спокойным и притягивающим, словно в шаре была заключена какая-то тайна, что оживала в нем только по ночам в преддверии Нового года. Он пристроил шар на верхнюю пушистую ветку, уравновесив с другой стороны таким же, но темно-красным, этот светился изнутри рубиновым светом, как звезда на кремлевской башне. Пониже нашлось место для серебряных витых сосулек, оловянного ангела с длинной трубой, хрустального колокольчика с отбитым язычком, для санок из бисера и ватных яблок и груш со сморщенными и обшарпанными боками, для бисерной же мельницы с голубыми краями и лебедя из серебряной бумаги с гордо изогнутой шеей. Это были старинные, еще дореволюционные игрушки. <…> Пожелтевшая вата, которой были переложены игрушки, легла на ветки и под елку, изображая снег. <…> Дед всегда прикручивал к верхушке елки звезду, хотя мама настаивала на ярких пиках, хотела, чтобы было «как у всех», но, сколько он себя помнил, пики на верхушках так и не прижились. Мальцов снова завернул их в газету, а наверх водрузил привычную старушку звезду. В третьей коробке спали Дед мороз с деревянным посохом и мешком через плечо и Снегурочка с длинной русой косой из мочала, в голубом полушубке с блестками. Куклы были сделаны из такой же крашеной ваты, что и яблоки и груши, их он поставил под елку.
Я наклонился к уху Анастасии и спросил, помнит ли она соприкосновения наших рук? В прежней жизни – помнит? Веки ее дрогнули, но не открылись. Я стал рассказывать ей о том, как мы наряжали елку. Как я доставал игрушки из ящика и с шорохом разворачивал бумагу, в которую они были завернуты. Найдя и расправив нитку, передавал игрушки Анастасии. Касался ее пальцев своими пальцами – у всех, между прочим, на виду. Наша общая с Анастасией работа давала такую возможность.
Это было вечером. А утром, когда я вошел к Ворониным, елка оказалась совсем другой. Она (дождь, игрушки) сверкала в неярком декабрьском солнце. Форточка была открыта, и гирлянды едва слышно позвякивали. Существуют ведь, прошептал я, держа руку Анастасии, редкие и ни на что не похожие звуки. Например, звук гирлянды на сквозняке – он весь такой стеклянный, такой невыразимо хрупкий. Очень люблю этот звук и вспоминаю о нем часто.
- Мери Мейп Додж. Серебряные коньки (1865)
Мы все знаем, что еще до того, как рождественская елка заняла подобающее ей место в домашнем быту нашей родины Америки, некий «развеселый старый эльф» в санках, запряженных «восемью крошечными северными оленями», привозил множество игрушек на крыши наших домов и затем спускался по дымовой трубе, чтобы наполнить чулки детей, с надеждой вывешенные ими у камина.
Друзья величали его «Санта-Клаус», а наиболее близкие осмеливались называть «Старый Ник». <…>
В день рождества голландцы только ходят в церковь, а потом в гости к родственникам. Зато в канун праздника святого Николааса голландская детвора просто с ума сходит от радостного ожидания. Надо, впрочем, сказать, что для некоторых ожидание не очень приятно, так как святой любит говорить правду в глаза, и, если кто-нибудь из ребят в этом году вел себя плохо, он не постесняется сказать об этом. Иногда он приносит под мышкой березовую розгу и советует родителям задать детям головомойку вместо сладостей и трепку вместо игрушек. <…>
В тот вечер младшие братья и сестры Хильды ван Глек были чрезвычайно взволнованы. Им позволили играть в большой гостиной, их одели в лучшие платья и за ужином дали каждому по два пирожных. Хильда была так же весела, как и все прочие. А почему бы и нет? Ведь она знала, что святой Николаас не вычеркнет из своего списка четырнадцатилетнюю девочку только за то, что она высока ростом и на вид почти взрослая. Напротив, он, может быть, постарается воздать должное такой великовозрастной девице. Почем знать? Поэтому Хильда резвилась, смеялась и танцевала так же радостно, как и самые маленькие дети, и была душой всех их веселых игр. <…> Дух веселья безраздельно царил в доме. Пламя и то плясало и подпрыгивало в начищенном до блеска камине. Две свечи, надменно взиравшие на небесное светило, начали подмигивать другим далеким свечам в зеркалах. В углу с потолка свешивался длинный шнур от звонка, снизанный из стеклянных бус, которые сеткой оплетали канат в руку толщиной. Обычно этот шнур висел в тени, и его никто не замечал; но сегодня вечером он сверкал сверху донизу.
Его ручка из малинового стекла дерзко бросала красные блики на обои, окрашивая их красивые голубые полосы в пурпурный цвет. Прохожие останавливались послушать веселый смех, который доносился до улицы сквозь оконные занавески и рамы, затем шли своей дорогой, вспомнив, что сегодня вечером у всей деревни сна нет ни в одном глазу. <…> Давно пора было приступить к делу. Мать напомнила детям, что, если они хотят увидеть доброго святого Николааса, им надо спеть ту самую ласковую призывную песенку, которая привела его сюда в прошлом году. <…> дети сейчас же взяли в руки по хорошенькой, ивовой корзиночке, стали в круг и завели медленный хоровод вокруг малыша, подняв глаза вверх, ибо святой, которого они сейчас собирались призвать своей песенкой, пока еще пребывал в каких-то таинственных областях. Мать негромко заиграла на рояле; вскоре зазвучали, голоса – нежные детские голоса, дрожащие от волнения, а потому казавшиеся еще милее.
Друг святой, приди к нам в гости!
Только с розгой не ходи!
Все приветствуем мы гостя,
И восторг у всех в груди!
А за то, в чем виноваты,
Побрани своих ребяток:
Мы поем, мы поем,
Наставлений скромно ждем!
О святой, приди к нам в гости,
В наш веселый дружный круг!
Все приветствуем мы гостя,
Всех ты радуешь, наш друг!
А подарки, просят дети,
Положи в корзинки эти,
Мы поем, мы поем!
Принеси нам радость в дом!
Так пели дети, и глаза их, исполненные страха и нетерпеливого ожидания, были устремлены на полированную двустворчатую дверь. Но вот послышался громкий стук. Круг разомкнулся мгновенно. Младшие дети со смешанным чувством ужаса и восторга прижались к коленям матери. Дедушка наклонился вперед, опершись подбородком на руку; бабушка сдвинула очки на лоб; мейнхеер ванн Глек, сидевший у камина, неторопливо вынул пенковую трубку изо рта, а Хильда и другие дети в ожидании сгрудились вокруг него.
Стук послышался снова.
– Войдите, – негромко сказала мать.
Дверь медленно открылась, и святой Николаас в полном парадном облачении предстал перед своими почитателями. Стало так тихо, что и булавка не могла бы упасть неслышно! Но вскоре святой нарушил молчание. Какое таинственное величие звучало в его голосе! Как ласково он говорил!
<…> Объявляю, что я очень доволен всеми и каждым. Доброта, прилежание, благожелательность и бережливость процветали в вашем доме. Поэтому благословляю вас, и пусть Новый год застанет вас всех вступившими на путь послушания, мудрости и любви! Завтра вы найдете более существенные доказательства моего пребывания среди вас. Прощайте!
Не успел он сказать эти слова, как целый ливень леденцов посыпался на полотняную простыню, разостланную перед дверью. Началась всеобщая свалка. Дети чуть не падали друг на друга, спеша наполнить леденцами свои корзинки. Мать осторожно придерживала малыша в этой толкотне, пока он не стиснул несколько леденцов в своих пухлых кулачках.
Тогда самый смелый из мальчиков вскочил и распахнул закрытую дверь… Но тщетно заглядывали дети в таинственную комнату: святой Николаас исчез бесследно.
Иллюстрация на обложке статьи: Kelsey Garrity-Riley
 Михаил Квирикадзе. Мальчик, идущий за дикой уткой. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2016.– 544 с.
Михаил Квирикадзе. Мальчик, идущий за дикой уткой. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2016.– 544 с. Орхан Памук. Рыжеволосая женщина. – М.: Азбука-Аттикус, 2016. – 304 с.
Орхан Памук. Рыжеволосая женщина. – М.: Азбука-Аттикус, 2016. – 304 с. Кадзуо Исигуро. Погребенный великан. – М.: Эксмо, 2016. – 416 с.
Кадзуо Исигуро. Погребенный великан. – М.: Эксмо, 2016. – 416 с. Сьюзен Хинтон. Изгои. – М.: Livebook, 2016. – 288 с.
Сьюзен Хинтон. Изгои. – М.: Livebook, 2016. – 288 с. Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. Пиши, сокращай. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 440 с.
Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. Пиши, сокращай. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 440 с.







 Оле Кенекке. Элвис и человек в красном пальто. – М.: Мелик-Пашаев, 2016. – 36 с.
Оле Кенекке. Элвис и человек в красном пальто. – М.: Мелик-Пашаев, 2016. – 36 с. Ребекка Дотремер. Маленький театр Ребекки. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 200 с.
Ребекка Дотремер. Маленький театр Ребекки. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 200 с. Беатрис Корон. Ночная сказка. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 12 с.
Беатрис Корон. Ночная сказка. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 12 с. Петр Соха. Пчелы. – М.: Самокат, 2017. – 72 с.
Петр Соха. Пчелы. – М.: Самокат, 2017. – 72 с. Рэймонд Бриггс. Снеговик. – СПб.: Поляндрия, 2017. – 32 с.
Рэймонд Бриггс. Снеговик. – СПб.: Поляндрия, 2017. – 32 с. Дитер Браун. Животные севера. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 146 с.
Дитер Браун. Животные севера. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 146 с. Морис Метерлинк, Владимир Егоров. Синяя птица. – М.: Арт-Волхонка, 2016. – 152 с.
Морис Метерлинк, Владимир Егоров. Синяя птица. – М.: Арт-Волхонка, 2016. – 152 с.



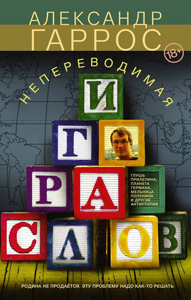


 Николай Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. – М.: Махаон, 2009. – 135 с.
Николай Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. – М.: Махаон, 2009. – 135 с.
 Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе. – М.: Никея, 2016. – 96 с.
Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе. – М.: Никея, 2016. – 96 с.
 Александр Дюма. Черный тюльпан. – М.: Нигма, 2017. – 256 с.
Александр Дюма. Черный тюльпан. – М.: Нигма, 2017. – 256 с.
 Спиридон Вангели. Чубо из села Туртурика. – М.: Речь, 2015. – 112 с.
Спиридон Вангели. Чубо из села Туртурика. – М.: Речь, 2015. – 112 с.
 Морис Метерлинк. Синяя птица. – М.: Нигма, 2014. – 152 с.
Морис Метерлинк. Синяя птица. – М.: Нигма, 2014. – 152 с.
 О. Генри. Дары волхвов. – М.: РИПОЛ-Классик, 2015. – 32 с.
О. Генри. Дары волхвов. – М.: РИПОЛ-Классик, 2015. – 32 с.
 Эсфирь Эмден. Дом с волшебными окнами. – М.: Нигма, 2016. – 108 с.
Эсфирь Эмден. Дом с волшебными окнами. – М.: Нигма, 2016. – 108 с.