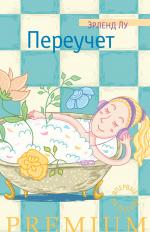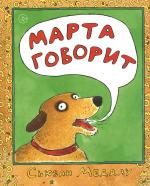- Ричард Бернстайн. Восток, Запад и секс. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 448 с.
«Восток, Запад и секс» американца Ричарда Бернстайна — это книга об отношениях и геополитике. Казалось бы, об этом нельзя писать одновременно, да еще в жанре исследования. Оказывается, можно.
По профессии Бернстайн — журналист, из самых матерых. Тридцать лет он работал в журнале Time и потом в газете The New York Times, специализируясь на теме Азии, — жил в Гонконге, Китае, на Тайване. Репортером он был по преимуществу «культурным», впрочем, писал не только о книгах или искусстве, но главным образом — о быте и нравах. Интереснейшая тема для человека, заставшего Азию в 1970–1990-е годы — за это время она сильно переменилась внешне, но по существу осталась прежней. И ни в чем эта новизна и эта неизменность не проявляются так сильно, как в отношениях — особенно сексуальных — между людьми Запада и Востока. Но даже когда исчезает граница между человеческими телами, пропасть между континентами не стирается.
Более того, углубляется и расширяется. Потому что человек никогда не бывает «просто человеком» — он всегда вписан в социокультурный контекст. А значит, и секс очень редко бывает просто сексом: к нему постоянно примешиваются посторонние вещи. Например, власть и подчинение, сила и бессилие, большая и меньшая свобода сторон — причем в самых причудливых вариациях, а из них уже растет гордость и уступчивость, жестокость и нежность. Желание ничего не значит: удовлетворить его — все равно что «стать шлюхой» или «запятнать честь своей страны». С одной стороны, Восток всегда был сексуально притягательным. С другой, положение женщины там гораздо жестче и определеннее, чем на Западе. С третьей, колониализм принес неравенство и обиды, в том числе и в отношения полов, отчасти породив «вытеснение старой утонченной культуры новой, эксплуататорской».
На стыке этих мнений образуется поле высокого напряжения, о котором и пишет Бернстайн. И если уж на то пошло, сложные чувства и необычные ограничения, с которыми сталкиваются участники «восточно-западного» секса, сильно повышают градус страсти. Пятьдесят семь французских романов о женщинах (и девочках) Алжира и вообще колониальной Северной Африки; тысячи эротических открыток; сладость такого понятия, как гарем; смесь доступности и неприступности японок; и, по другую сторону, слухи о необыкновенной мощи белых мужчин и твердое знание об их свободе и богатстве — вот ингредиенты этого крепкого сексуального напитка, рецепт которого пытается вычислить Бернстайн. Его книга документальна, он цитирует множество писем, дневников, свидетельств, статей, художественных произведений, а порой и своих собеседников. «Объединяют их главные черты: полное снятие ограничений и возможность делать то, что находится под запретом на родине». Это богатое и живое исследование по-настоящему провокационной темы.
Но самый волнующий вывод — в том, что деньги и власть на самом деле не главное в интересе западного мужчины. Даже секс-индустрия, если посмотреть на нее внимательнее, не всегда оказывается тем, что следует заклеймить и искоренить. А те из мужчин, кто влюбляются в Восток и в женщину Востока наиболее глубоко и постоянно, думают не о покорной наложнице, не об экзотическом приключении: они мечтают о подлинности в любви и жизни. И ведь Редьярд Киплинг писал именно об этом: «Нет, меня другая ждет, мой душистый, чистый цветик у бездонных, сонных вод».
Рубрика: Рецензии
Без суда и следствия
- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 156 с.
Говорят, чужая душа — потемки, а внутренний мир человека искусства — тем более. Так что если вы то и дело ждете вдохновения и дарите миру свои творения, это повод обратить внимание на новый роман норвежца Эрленда Лу «Переучет». А уж если вы непризнанный и неоцененный поэт, как героиня книги, Нина Фабер, стоит внимательно отнестись к изложенным в тексте мыслям и переживаниям. Чтобы не повторить ее судьбу и не попасть под трамвай. Дважды.
Нина Фабер после долгого перерыва вновь начинает писать стихи и возлагает огромные надежды на свой новый поэтический сборник «Босфор», который должен вернуть ее творчество в поле зрения читателей и литературных критиков. Но после нескольких разгромных рецензий она буквально слетает с катушек. За день, описанный в книге, Нина совершает череду поступков, выходящих за грани приличия и даже — закона. Случайное убийство Бьерна Хансена, который отменил встречу с читателями Нины, оправдавшись переучетом в книжном магазине, не вызывает у нее ни капли сожаления. Этого мало, и обиженная писательница начинает охоту на Рогера Кюльпе, несчастного студента, не понимающего в поэзии ровным счетом ничего, но написавшего ужасный отзыв на «Босфор». Кто дал ему, некомпетентному выскочке, право так рассуждать о ее стихах — вот что волнует героиню в первую очередь:
Судя по всему, заключает Нина, у этого Кюльпе нет никаких оснований писать о ее стихах или кого другого и уж во всяком случае называть ассоциации заезженными. Сутью поэзии как раз является личное истолкование того, что все видят и переживают и даже могут описать, но не такими словами, как Нина, или Кюльпе, или я не знаю кто. Но если человек мыслит исключительно категориями массового истребления людей (студент увлекается литературой о геноциде и репрессиях), то личные заметки на тему любви, старости или мостов в Стамбуле, вероятно, кажутся ему заезженными. Нину колотит от ярости. Да как он смеет! И как он посмел…
Писательница ужасно одинока. Нет никого, с кем она была бы по-настоящему близка. Лу подчеркивает это и создает трагикомедию, добавляя в повествование забавно-грустные сюжеты из жизни Нины, одним из которых становится эпизод общения с ежиком Юсси.
Нет, он (ежик) не относится к ней плохо, он вообще не испытывает к ней никаких чувств, только к молоку. Для Юсси Нина — некое неизбежное зло, увязанное с появлением молока. Завидев Нину, ежик понимает, что близится молоко, оживляется и радуется, а Нина толкует это как доказательство связи между ней и Юсси.
Эрленд Лу делит историю на восемь этапов, во время которых в сознании героини тоже происходит «переучет». Ее действия кажутся нелогичными, реплики — порой бессмысленными. Но когда она рыдает, сидя на тротуаре, впервые за весь день находится человек, который готов ее поддержать. Молодая женщина, поклонница Нины Фабер, казалось бы, может дать ей стимул «возродиться из пепла» после душевного опустошения. Ведь если есть хоть один человек, которому близка твоя поэзия, в творчестве появляется смысл.
Логика автора принципиально другая. Хотя Нина Фабер не гонится за славой, ей ужасно обидно за себя и свои стихи. Она растоптана и морально уничтожена безразличием критиков, которые, по сути, решают, быть или не быть книге. И они поставили на сборнике Нины крест. Как и Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», Эрленд Лу заостряет вопрос об ответственности рецензентов за свои слова. Оба — Латунский, незаслуженно забраковавший роман Мастера, и Кюльпе, разгромивший сборник «Босфор», — караются авторами за небрежное отношение к литературе.
Нина мучительно ищет способ избавиться от «литературно-критического узла», в котором она запуталась. Писательница уходит в себя, и даже физические страдания не могут перекрыть душевную боль. Ей досадно за то, что успех приходит к жалким, ничего из себя не представляющим «юным дарованиям», у которых есть влиятельные покровители. За то, что признание зависит от моды на стихотворную тематику. И если ты не вписываешься в общее направление, литературной премии тебе не видать.
Тактичная лирика Нины была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном, крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия, вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом доставалась другим.
Неужели после стольких неудач и разочарований героине остается только сдаться? В ее стихах часто повторяются фразы «Раньше у меня было больше. Теперь меньше». Меньше надежды, сил, веры в себя и в других людей. Лу играет с читателем, заставляя поверить в трагическую концовку и как будто обрывая предпоследнюю главу. Но пережив столкновение с трамваем, Нина трижды восклицает: «Я поэт!» Она жива и не остановится, она будет писать.
Люди и людоеды
- Светлана Алексиевич. Время секонд хэнд. Голоса Утопии. — М.: Время, 2013.
Сегодня пространство российской культуры наполнено шумом улицы. В театре, кино и литературе стоит галдеж повседневности, который не несет в себе никакой цели. Светлана Алексиевич завершает свой художественно-документальный цикл «Голоса Утопии» пятым романом «Время секонд хэнд» и не просто выносит на суд читателей историю обычного маленького человека, но и, представляя Россию без прикрас и преувеличений, стремится узнать, почему мы такие, откуда все наши беды.
В предыдущих книгах писательница поднимала самые острые проблемы отечественной истории — от Афгана до Чернобыля. На этот раз в центре ее внимания истории людей, которые жили в одном государстве и неожиданно для себя стали гражданами других стран — с другими флагами, национальными идеями (или вовсе без них) и понятиями. Сегодня этот диагноз — возрождение СССР — звучит часто. За двадцать лет мы и не могли стать совсем другими, потому что живем под управлением людей, выросших в Советском Союзе, и в городах, инфраструктура которых создана в те годы.
Алексиевич становится внимательным наблюдателем того, как сложно поколению наших родителей перешагнуть свои советские комплексы и стать жителями новой России. Для них, не имевших возможности видеть разнообразие продуктов на прилавках магазинов, йогурт до сих пор — почти деликатес, а причина вечной экономии не в скаредности, но в привычке, идущей из условий жизни в той стране.
Светлана Алексиевич записывает реплики свидетелей ушедшей эпохи, дает слово тем, чьи голоса еще можно услышать в региональной глухой прессе, но редко когда на телевидении. Слишком они простые и несчастные. Если и появляются эти люди на экране, то лишь в ток-шоу, где нужно поворошить грязное белье. Алексиевич белье не интересует, она скрупулезно приводит читателя к со-общению и со-переживанию с маленькими людьми.
В романе есть несколько знаковых моментов. Один из них — рассказ матери об ушедшем из жизни сыне. Это сложно придумать, такое можно только услышать. Главное, по Алексиевич, — не страну потерять, а сына. Хотя иногда кажется, что автора интересует именно государство, общество, политика.
Название романа «Время секонд хэнд» кажется слишком надуманным. Потому что книга рассказывает не о времени, не о секонд хэнде, а о человеке, который даже в тяжелые годы остается любящим, трогательным и нежным. Один из героев вздыхает: «Победили обыватели. Я не вижу людей с горящими глазами». У многих героев романа глаза — именно «горящие». Некоторые из них вспоминают свою счастливую советскую жизнь. И тогда тема «совка» получает другой оттенок — при любом режиме, даже самом людоедском, человек может быть счастливым. «Мои родители — не „совки“, они — романтики! Дошколята в нормальной жизни. Я их не понимаю, но я их люблю» — вот эту формулу одной из героинь книги нужно взять за основу, чтобы понять историю тех лет. К советскому прошлому необходимо относиться объективно, помимо «людоедства» признавать высмеянные сегодня «дружбу народов» наших родителей, походы, книги, первомайские демонстрации, их любимые фильмы и поэтов.
Исповеди простых людей, наполненные афоризмами и тонкими мыслями, не дают оторваться от чтения книги: «Родители не догадываются, насколько у их детей все серьезно», «Главный в доме — книжный шкаф», «Мужчина не бывает старше 14 лет»…
Алексиевич слишком сосредоточена на черных красках, поэтому ей не удается представить полноценную картину. Вступление и редкие комментарии автора скорее напоминают публицистику «Новой газеты», нежели литературное произведение. Ее либеральная запальчивость на «такой-сякой» Советский Союз находится на контрасте с жизнеописанием людей. Алексиевич возмущена возрождением советского в нашей жизни, но не объясняет, отчего происходит это возрождение. Вместо нее говорят те, чьи истории попали в книгу.
Светлана Алексиевич пишет, что сейчас есть комсомол, который называется «Наши», не проверяя (она не журналист, который обязан проверять факты), что дело комсомола продолжают не только одиозные «Наши», но и вполне мирный и полезный Российский союз молодежи. Вряд ли Алексиевич была бы против трудовых отрядов, вожатых, строителей, профильных лагерей для молодежи — но всем этим сегодня занимается именно преемник комсомола, без всякой идеологической подпитки. Наверное, проще через запятую возмутиться «Нашими», чем признать, что «советское» — не всегда значит плохое.
Писательница сосредотачивает свое внимание на историях самоубийц, поэтому книга имеет довольно мрачную интонацию. Она говорит лишь об одной стороне современной России. Не ищет тех, у кого получилось; в центре ее внимания те, у кого не вышло, не сложилось. Но нет только «черного» — есть и «белое», есть и оттенки. И в России с ее самоубийцами, политиками, нечистью живут те, о ком тоже надо рассказывать.
В одном из интервью Светлана Алексиевич обещает, что следующая ее книга будет о любви. Возможно, там найдется место счастливым историям. Ведь даже в мрачном «Времени секонд хэнд» порой мелькает свет — когда люди без оглядки на все несчастья любят так, как сценаристам плохих фильмов даже не снилось. И несмотря на кровь и даже чернуху, в книге есть любовь — человека к человеку. Именно этим сочетанием интересны истории, записанные Алексиевич. Автор говорит: «Мы были готовы умереть за свои идеалы. Драться в бою. А началась „чеховская“ жизнь. Без истории. Рухнули все ценности, кроме ценности жизни».
Благодаря Светлане Алексиевич теперь не обязательно ехать в плацкартном вагоне по России и записывать истории пассажиров. Самые интересные из них собраны под одной обложкой. Монологи, без которых невозможно понять себя и свою страну. Писательница ничего не сочиняет, она всего лишь дает слово тем, кого слушать необходимо.
Галерея забытых портретов
- Наталья Громова. Ключ. Последняя Москва. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2013. — 416 с.
Москва! — Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придем.Марина Цветаева
В шкафах и комодах наших бабушек хранится много сокровищ, например старые шкатулки или коробки из-под конфет, в которых лежат выцветшие от времени снимки с загнутыми краями. На них изображены люди на первый взгляд нам неизвестные. Чтобы понять, какими они были, стоит пристальнее всмотреться в лица своих родных. Творчество писательницы Натальи Громовой открывает не одну такую шкатулку, перенося читателей на десятилетия назад.
Исследовательница литературного быта 1920-1950-х годов приводит нас к очередной двери, ведущей в прошлое. Два новых «архивных романа», «Ключ» и «Последняя Москва», как и прошлые произведения, основаны на подлинных документах. Строго говоря, назвать эти тексты романами можно с большой долей условности. Героями являются жившие в XX веке писатели, поэты, переводчики — современники Марины Цветаевой, Александра Фадеева, Льва Шестова. Часть текста составляют их письма, выписки из дневников.
Некоторые истории, описанные в книге, уже звучали из уст Натальи Громовой в интервью и телепередачах. Под нововведенным жанром «архивный роман» прячется нечто среднее между мемуарами и научным трудом. Впрочем, многим нравится играть в читателей настоящих архивов: собирать по крупицам данные, устанавливать связи между персонажами. Так, два произведения писательницы, объединенные под одной обложкой, попали в короткий список «Русского Букера». Видимо, в этом году жюри премии решило стереть границу между художественной литературой и нон-фикшн.
«Ключ» и «Последняя Москва», действительно, сливаются в один текст. Но связано это не с цельностью двух романов, а наоборот, с тем, что оба они эклектичны. В них нет стройного сюжета — лишь эпизоды, обрывки жизненных линий. Удержать конструкцию помогают разве что связи между отдельными героями. Их истории выстраиваются анфиладой: отыскав одну дверь, можно найти следующую. Персонажи друг за другом провожают гостей в еще не изведанные комнаты, где их встречают новые лица, терпеливо ожидающие своей очереди высказаться.
Но задержаться надолго у каждого из них не получится. Едва дослушав рассказ об одном, приходится тут же переходить к рассказу о следующем. Анфилада превращается в коммунальную квартиру, где умещается необыкновенно много жильцов, каждый из которых заслуживает отдельного дома. Только на короткое время они показывают свой облик, а потом вновь становятся тенями. На общем фоне выделяются лишь фигуры писательницы Марии Иосифовны Белкиной и мемуаристки Ольги Бессарабовой — самые заметные во всей книге.
Громова настолько сильно любит своих героев, что, к сожалению, совсем немного говорит о себе самой. Во-первых, именно это позволило бы подвести все рассказанные истории под общий знаменатель. Во-вторых, ее собственные воспоминания нашли бы отклик в душе не одного читателя:
Вернувшись из школы в нашу коммуналку, в полном одиночестве, за щербатым письменным столом я часами думала о том, как войти внутрь своего собственного времени, как физически почувствовать его присутствие. Додумалась я до одного: написать отсюда, из одиннадцатилетнего возраста, письмо самой себе в тринадцать лет <…>. Письмо было заклеено, а затем еще забинтовано материей и зашито, чтобы не было искушения прочесть его раньше времени. Острое взаимодействие со временем возникало, и когда письмо писалось, и когда оно читалось спустя два года. Внутри возникало мгновенное чувство схлопывания: я была здесь и там одновременно.
Очевидно, перед автором стояли иные задачи, нежели написать произведение, о художественной стороне которого можно было бы говорить часами. Кажется, Наталья Громова задумала грандиозный по своим масштабам проект. Буквы должны не просто поведать историю, но воскресить ушедших, возвратить из небытия их переживания, горе и любовь:
Непрожитая жизнь расстрелянных, замученных и убитых не могла исчезнуть. Их время, скорее всего, беззвучно течет рядом с нами. Спасение последующих поколений в том, чтобы услышать и увидеть эти жизни, дать каждой загубленной душе, позволить напрасно погибшему человеку возродиться уже в нашем времени.
Вместе с героями возвращается и старая Москва, настоящий город-миф. Уютные переулки, тихие арбатские улочки с домами-кораблями исчезают под гнетом новой эпохи, символом которой становятся горящие в ночи окна здания на Лубянке. Чтобы разглядеть истинный облик города, необходимо ни много ни мало научиться смотреть сквозь временные пласты:
Как далека была от меня карта подлинной Москвы, которую, как мне казалось, я помнила с детства, но которая теперь оказалась лишь миражом, фантазией, воздушным покровом, наброшенным на ушедший Город.
Снять этот покров полностью удастся не каждому. Для этого необходимо познакомиться с героями книги чуть ближе и самому отыскать ключ к их миру. Возможно, тогда и появятся вопросы к прошлому. Наталья Громова обещает, что оно обязательно ответит. А пока придется поверить ей на слово.
Нельзя сказать короче
- Линор Горалик. Это называется так (короткая проза). — М.: Dodo Magic Bookroom, 2014. — 384 с.
Описывая содержание одной из своих повестей, Линор Горалик, финалистка премии «НОС» 2014 года, как-то сказала, что это «фольклор, собранный в аду». Для прозы, включенной в сборник «Это называется так», — а в него входят циклы «Короче:» и «Говорит:», повести «Валерий» и «Вместо того» и пьеса «Свидетель из Фрязино» — это определение подходит как нельзя кстати.
Циклы жизненных оксюморонов «Короче:» и «Говорит:» становятся воплощением феномена короткой прозы. В очень небольшой промежуток времени — в текстовом эквиваленте: от нескольких строк до нескольких страниц — укладывается сильное впечатление. От такого концентрата и смеешься громче, и плачешь горше. Отличие этих циклов друг от друга — в способе подачи информации.
«Говорит:» построен на имитации спонтанной речи. Для него ведущим приемом становится сказовая манера повествования. Каждая зарисовка начинается с диалогового тире и отточия, символизирующих существование этих текстов в более широком контексте. Линор просто придумывает отрывки из диалогов, которые так никогда и не прозвучали, изредка опираясь на чьи-то слова, произнесенные в реальности. Впечатление от цикла такое же, как от фильма Бориса Хлебникова «Пока ночь не разлучит»: наша жизнь — это фарс, наша жизнь — это фарш.
В «Короче:» главным средством выразительности является предельная детальность изображения. Этот цикл составляет девяносто один маленький рассказ, у каждого из которых есть название и повествователь; и зачастую именно его манера вызывает ощущение постороннего, отстраненного наблюдения, но при этом проникновения во все разговоры и чувства героя.
Уже потом, в раю, им довелось побеседовать о том, имело ли это смысл, и по всему получалось, что — нет, не имело.
Подобные высказывания вызывают у каждого исключительно личные воспоминания и приближаются к стихам, имеющим такой же механизм воздействия: текст опирается не на содержание, а на переживание этого содержания. Если рассматривать рассказы с формальных позиций, например сюжета, то суть всего сборника сведется к описанию какого-то бессердечного бреда. На самом же деле литературу более человеческую, чем у Линор Горалик, надо еще поискать. Это становится понятно, когда вдруг тоскливо засосет под ложечкой: вроде и люди дурные, и ведут себя безобразно, а все равно жалко их всех до невозможности. Оттого эту прозу так сложно читать, что она строится на бесконечном парадоксе малой формы и большого содержания, сюжетов триллера и переживаний драмы, грустного и веселого — из огня да в полымя — в соседних текстах. От подобного авторского блицкрига дух захватывает.
–…в общем, пятнадцать лет. То есть она ходила еще в high school. А у них как раз начали преподавать старшим классам Safe Sex and Sexual Health, когда она на седьмом месяце была. И всем — и девочкам, и мальчикам, — надо было носить с собой куклу круглые сутки, чтобы понять, что такое ответственность за ребенка. Вот она и носила — в одной руке живот свой, в другой куклу.
Мир, выжатый до театра абсурда, — это и есть декорации к книге Горалик. Но если у театра абсурда своя особенная, по специальным законам построенная вселенная, в которую читателю-зрителю нужно погрузиться, то у Горалик реальность та же, что за окном. Дистанция сокращена до минимума, поэтому сознанию приходится вынести удар даже большей силы, чем при знакомстве с творчеством абсурдистов. Это бесконечная жизнь на грани нервного срыва.
–…когда он меня любил, я не ревновала, а когда не любил — ревновала. Начинала звонить ему, доставать себя и его, пока один раз за мной скорая не приехала.
Короткая проза Линор Горалик удобна в употреблении: перечитывание не отнимет много времени. По ее книгам можно отследить степень собственного взросления и развития: непонятное через несколько лет неожиданно разъяснится, а в прежде абсолютно конкретных зарисовках обнаружатся новые коннотации. Это очень плотные и насыщенные тексты, даже тесные: от них сложно убежать, но если не сделать этого вовремя, возможна передозировка. Частое сердцебиение, головная боль, слезоточивость — таковы симптомы, сопровождающие чтение текстов Горалик.
Повесть «Валерий» объемом чуть более полусотни страниц, например, лучше читать в течение месяца, не меньше; никто ведь не хочет сойти с ума преждевременно. Не стоит предпринимать и марш-бросок по всему сборнику: «Вместо того (военная повесть)» и «Свидетель из Фрязино (пьеса, задуманная как либретто оперы)» провоцируют не самые патриотические мысли о сущности войны и ежегодных государственных праздников. Каждый элемент этого сборника самоценен, поэтому перемешивание всего и сразу противопоказано.
Иногда перед демонстрацией некоторых объектов современного искусства делают предупреждение: «Беременным женщинам, особо впечатлительным лицам, а также людям с неустойчивой психикой вход запрещен». На обложке этой книги стоило бы поместить подобную надпись — во избежание несчастных случаев.
Так называемая реальность
- Оливер Сакс. Галлюцинации. — М.: АСТ, 2014.
Можно ли правдиво рассказать о том, чего на самом деле нет? Наверняка. Ведь единственной настоящей реальностью является взгляд на нее с разных сторон. Именно так и поступает американский нейропсихолог Оливер Сакс. В своей книге о галлюцинациях он дает слово множеству людей, познавших их на своем опыте. Мы почти ничего не знаем о том, что такое действительность и как она соотносится с восприятием. К счастью, «почти ничего» не значит «совсем ничего».
Сакс пишет, что его книга поможет «рассеять непонимание и жестокое отношение к тем, кто страдает галлюцинациями». Стоит отметить два момента. Во-первых, не галлюцинации в нашей власти, а мы — в их, и вызываемое ими чувство действительно близко к страданию (уже потому, что ты сам не можешь это прекратить). Впрочем, некоторые ими наслаждаются, как одна из респонденток автора, пожилая женщина, которой трудно выходить из дома: «Я вижу множество разнообразных вещей, которым я очень радуюсь — они просто очаровательны и нисколько меня не пугают». А во-вторых — стигма, которая особенно актуальна для России. Либеральные слои общества уже, кажется, готовы принять гомосексуальность наших ближних и способны быть политкорректными по отношению к национальности или весу, но психическое нездоровье (или просто не-норма) остается стигматизированным. А не надо бы.
Многие думают, что галлюцинации — удел шизофреников. Но это явление бывает у слепых и вообще у людей с нарушением зрения, а иногда — с небольшой (или значительной) патологией мозгового кровообращения. Галлюцинации возникают в условиях сенсорной депривации, когда мозгу не хватает реальных стимулов для обработки информации. Частенько после травм или в иных случаях люди чувствуют несуществующие запахи или воспринимают реальные предметы с сильным искажением. Может порождать иллюзии и мигрень. Многие видят странные движущиеся картины на пороге сна.
Галлюцинации здоровых людей (слово «здоровых» автор пишет в кавычках) отличаются от болезненных прежде всего тем, что не вступают в тесную связь с личностью человека, с его аффектами — владеют своей жертвой, но не распоряжаются ею. Если голоса угрожают, если человек не сомневается в их реальности — вернее всего, он болен; но «нейтральные» голоса могут слышать и здоровые люди. Своеобразные экстатические видения посещают эпилептиков, и они до того приятны, что многие желают их повторения и даже провоцируют припадки. (Вспомним признание Достоевского о нескольких минутах невероятного, неописуемого счастья, которое посещало его перед приступами).
Разумеется, за описаниями следуют и объяснения, рассказы о разных состояниях или болезнях, о механизмах возникновения образов — слуховых, зрительных, обонятельных и даже осязательных. Не обойдена вниманием автора и тема наркотиков, но даже самые яркие описания этих добровольных галлюцинаций меркнут перед самой страшной главой книги — о посттравматическом расстройстве, которое заставляет человека вновь и вновь переживать свое невыносимое прошлое. Ужасы реальности порой сравнимы с ужасами безумия.
В этой книге вы найдете детальные рассказы о красивейших или отвратительных галлюцинациях: от узоров на занавеси до историй, в которых «жертва» галлюцинации принимает участие; вы заглянете в мыслезрение десятков разных людей. Только помните, что — как море в бурю — такие вещи красивы ровно до тех пор, пока ты ими владеешь. Впрочем, ад и рай нераздельно сосуществуют в самом человеке с момента его рождения.
Большой собачий секрет
- Сьюзан Меддау. Марта говорит. — М.: Издательство «Ай», 2014. — 32 с.
«В тот день, когда Элен дала Марте суп с макаронами в виде букв, случилось нечто необычное. Вместо того, чтобы отправиться в желудок, буквы из супа попали прямиком Марте в мозг, а вечером Марта начала говорить». Таково начало истории о собаке Марте, девочке Элен и ее родителях.
По ту строну океана Марту знают все. Она входит в сонм собачьих святых наряду с Лэсси и Хатико, является героиней телешоу, анимационного сериала, компьютерной игры и других проектов. Американка Сюзан Меддау придумала и нарисовала историю о Марте в 1992 году и сразу получила за книгу престижную награду журнала New York Times. С тех пор с Мартой произошло несколько невероятных историй. Всего их шесть, и все они в одночасье вышли в новом московском издательстве «Ай» (в смысле «глаз»).
Говорящая собака сначала вызывает у хозяев настоящий восторг, к ней появляется масса вопросов (не последний из которых «Почему ты пьешь из туалета?»). Испытывая приступы гордости, они демонстрируют Марту гостям на домашних вечеринках. Потом оказывается, что Марта не просто может говорить — она любит говорить, «тщательно выговаривает согласные и смакует каждую нежную гласную. Марта любит слова. Много слов. А еще она любит составлять их в бесконечные предложения».
В общем, рот Марты не закрывается никогда: она травит бесконечные собачьи байки, пересказывает нелепые сны, ставит своих хозяев в неловкое положение тем, что всегда говорит то, что думает. Она интересуется, почему этот парень такой толстый, передает бабушке мамины слова о том, что ее стряпня похожа на собачий корм, постоянно отпускает спойлеры во время просмотра телевизора и, в конце концов, вызывает настоящую усталость.
Путь собаки Марты в мире слов мучительно напоминает такой же путь любого ребенка. Вот он говорит свои первые слова — и это чудо! — они увековечены в особой маминой тетрадке. Вот он, стоя на табуретке, рассказывает Деду Морозу и гостям стихотворение про елочку — и у родителей от умиления дрожит в руках камера. Вот он открывает вам страницу за страницей картины своего удивительного, никем еще неизведанного детского мира, посылает яркие ракеты своего воображения, очаровывает и зачаровывает.
Но проходит время, и эти самые слова, которые теперь льются неиссякаемым потоком, мешают вам работать, не дают послушать новости, поговорить по телефону, поспать, наконец, воскресным утром. Порой эти же самые слова становятся причиной неловкостей, особенно если вы имели неосторожность обсудить при ребенке навязчивых гостей или привычку свекрови варить макароны не меньше получаса. А потом этот ребенок, как и Марта, желает обсудить с вами свое меню, или количество карманных денег, или список подарков на день рождения. Потом он, как и Марта, часами висит на телефоне и несанкционированно заказывает пиццу. Потом не просто бросается словами, но и мусорит, и ранит ими.
Список этот можно продолжать до бесконечности, но одно очевидно — вы узнаете Марту, и, возможно, полюбите ее. Хотя бы за то, что пока вы читаете истории о ней своему болтуну, он молчит.
Фото на фоне памятника
- Маруся Климова. Моя антиистория русской литературы. — М.: АСТ, 2014. — 352 с.
К началу 2000-х годов в литературе проявлялась тенденция воплотить борхесовский взгляд на культурное поле как на универсальную библиотеку, где каждый отдельный текст — коллекция гиперссылок, каждый использованный в тексте мотив — случайный след интертекстуального perpetuum mobile. Следовательно, и мемуары, человеческий документ писателя, адекватно воплотить в виде антиистории русской литературы, включив еще одно имя собственное.
Из книги Маруси Климовой едва ли можно узнать что-нибудь концептуальное о собственно русской словесности. Повествование следует за исторической прогрессией, но ей не организуется. Раскрывая особенность каждого периода, описывая новую персоналию, автор, кажется, придерживается заранее выверенной схемы.
Внеочередного описания требует внешний вид прозаика или поэта, признанного романтика Лермонтова или незабвенного только в рамках университетского курса чувственного поэта Апухтина. Насколько литератор выделяется своей внешностью, настолько же значимо его творчество гремит в веках. О прочих — либо плохо, либо почти ничего. Лишь однажды «угловатый» и «усатый» удостаивается подробного пассажа. И то потому, что похож на дедушку, который любил стихи юной Маруси и привозил ей с рыбалки гостинцы «от зайца». В общем, Горький пробился по блату.
Раздел под условным названием «Литературный силуэт» обычно заполняется не столько пересказом «творческого пути» литератора в доступной и легкой форме, сколько (вспомним о Горьком) описывать надлежит личное впечатление и влияние его на Климову. «Пушкин (и другие) в жизни… Климовой». К слову сказать, Александр Сергеевич мало чем впечатлил Марусю как в детстве, так и в отрочестве. Не умел выражать в стихах всю полноту собственных чувств: в частном письме Анна Керн — «вавилонская шлюха», а в поэзии — «чудное мгновение». Красноречивое несоответствие.
На протяжении всего текста перед читателем создается образ студента-филолога, переводчика, маргинального литератора — Маруся Климова рассказывает о себе, завернувшись в лоскутное историко-литературное одеяло. В глубь веков уходящие описания, как правило, вынырнут на поверхность во французской гостинице, на светском рауте членов Академии в связи с главным для Климовой-переводчика именем — Луи Фердинандом Селином. Или по другому поводу, связанному уже с профессиональной биографией автора.
Писатель любит документировать свое мнение о коллегах по цеху, ранжировать предшественников, определять учителей или просто фиксировать некоторые читательские впечатления. Скажем, записная книжка второкурсника Ерофеева поражает количеством известных ему имен третьестепенных поэтов, некоторые из которых, наверное, еще не удостоились колонки в Словаре русских писателей. Цветаева в «литературоведческих» работах образным словом филигранно подчеркивает особенности своих современников, скажем, Маяковского и Пастернака.
Пул Климовой нельзя назвать маргинальным, реплики о литераторах если и присутствуют, то являются клише, последовательным воспроизведением общего мнения либерального студенчества в ЛГУ им. Жданова. Однако только на фоне такого китчевого изображения исторического процесса становится ясно, с чем работает Климова, какой механизм художественного вскрывает ее текст. Ее прельщает способность литературы порождать социальное поведение, навязывать насущное мнение выдуманными образами, писать память, диктовать сны — надстраивать идеологические конструкции вокруг жизни обычного человека. А значит, биография писателя может существовать в виде самой идеологически выверенной формы подачи литературного материала — в виде учебника.
Однако то, что было интересно (как литературный факт) в 2004-м, на момент первого издания «Моей антиистории…», спустя десять лет теряет блеск новизны и требует дополнительной мотивации своего появления. В чем состоит сообщение 2014 года от Маруси Климовой, выяснить все же не удается. Анахроничны откровенно диссидентские брюзжания («…самоубийство Александра Фадеева! Но и оно не заставит меня сесть за чтение его биографии»), не так эффектны авангардные декларации («Хлебников всегда представлялся мне совершенно полным и откровенным олигофреном с капающей изо рта слюной»). И уж слишком прямолинейно, лишаясь эпатажа, в современном контексте читается любовь автора к гомосексуалистам. Создается анекдотическая (что-то из советских, кстати, времен) ситуация: вчера в газете, сегодня — в куплете. Следовать за информационным мейнстримом у Маруси Климовой и не должно получаться, все же ее книга уже «история литературы».
Нечему завидовать
- Барбара Демик. Повседневная жизнь в Северной Корее. — М.: Альпина нон-фикшн, 2014. — 432 с.
«Нечему завидовать» — так называется эта книга в оригинале. Цитата из бодрой агитационной северокорейской песни двадцатипятилетней давности. Хорошая цитата. Журналист Барбара Демик нашла едва ли не единственный способ узнать и рассказать о том, что происходит в самой закрытой стране на земном шаре: она расспросила беженцев. Тех немногих, кому удалось удрать из Северной Кореи в Южную. И по их интервью, проделав огромную работу, воссоздала жизнь, быт и нравы Северной Кореи, какой она была совсем недавно. И какой во многом остается сейчас, ведь время в этой стране движется не так, как в остальном мире.
Книга представляет собой собрание «повестей» (о каждом из собеседников Барбара рассказывает в третьем лице) и читается как полуфантастический роман: если не знать наверняка, что это реконструкция абсолютно реальных событий, то можно усомниться в их правдивости. Голодные годы, в течение которых вымерло три четверти детсадовской группы, где работала одна из героинь. Врачи, самостоятельно отправляющиеся каждую весну в горы за сбором лекарственных трав, ведь антибиотики — только для партийных работников. Обычные жители, которые не верят слухам о том, что рабочие в Китае каждый день едят рис (такими богатыми быть невозможно!), и не появляются в столице без особого разрешения. Юноша и девушка, решившиеся на поцелуй спустя восемь лет взаимной любви. А вот интеллигентный молодой человек сидит на площади в день смерти вождя и в панике выдавливает из себя слезы: если заметят, что не плачет, ему несдобровать.
Северная Корея в «Повседневной жизни…» предстает перед нами государством абсолютно тоталитарным, покруче сталинского Союза. Никаких магазинов — лишь распределители; иностранные книги только для проверенных студентов. Тем удивительней, что даже в таком обществе некоторые умудрялись при полном отсутствии информации (а также свободного времени и места для уединения!) додуматься до инакомыслия, а потом и до бегства в другую страну. Вот рассказ об одном из героев, рисковавшем жизнью ради правды:
Чон Сан включал телевизор только поздно ночью, когда сигнал, источник которого находился примерно в 150 км от Пхеньяна, по другую сторону от демилитаризованной зоны, был лучше всего. Молодой человек ждал, пока хозяева заснут и из-за тонкой стены послышится их храп. У телевизора не было разъема для наушников, поэтому приходилось включать его на минимальную громкость, так что становилось еле слышно.
Это кажется немыслимым и возвращает веру в человеческий разум: даже в таких условиях можно остаться независимым!
Можно, но безумно трудно. Ведь силы приходится тратить на то, чтобы просто выжить. Страшнее всего читать страницы о голоде — он везде примерно одинаков; но и времена «сытого изобилия» вызывают у читателя содрогание. Как, зачем, какие злые силы оставили целый народ в состоянии такой дичайшей изоляции?! Демик удивляется тому, что сейчас одна из героинь книги выглядит совсем как типичная жительница Южной Кореи. Обычно, поясняет автор, беженцы с трудом адаптируются к пребыванию на юге… И неудивительно: гостю из Средневековья было бы непросто в современном мегаполисе. А разница между Северной и Южной Кореей примерно такая же. Северная Корея — страна, которая идет своим, особым путем. И всех любителей особого пути для какой-нибудь другой страны хочется спросить: вы уверены, что наш путь не окажется похожим на этот?
Кстати, в Корее нет сотовой связи. И интернета. И почти нет электричества и канализации. Зато воздух чистый-чистый — заводы-то не работают — и пластиковый мусор нигде не валяется. Здорово, правда?
Очарование сослагательного наклонения
- Юрий Арабов. Столкновение с бабочкой. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 346 с.
Предъявлять к литературному произведению претензии относительно исторической правды весьма глупо. Скорее наоборот, чем больше вымысла в повествовании о реальных людях, тем интересней. Сразу разгорятся споры, начнутся расследования, и поборники истины будут кричать: «Клевета! Провокация!» Юрий Арабов — писатель, который не боится подобных обвинений. Его новый роман-фантазия «Столкновение с бабочкой», попавший в лонг-лист премии «НОС», позволяет взглянуть на Россию начала XX века с иной точки зрения, той, которую невозможно встретить в школьных учебниках.
Как и в предыдущих книгах и сценариях, в новом романе писатель разворачивает небывалую по масштабам фантасмагорию на границе между вымыслом и реальными фактами. Он искусно прячет свою фантазию за внешностью и именами известных революционеров и членов царской фамилии. Ленин, Троцкий, Свердлов, Николай II, Эриксон, Фредерикс — попробуй отличить, что в их характерах придумано хитроумным автором, а что почерпнуто из писем и документов. Все даты и места точны — это необходимо Арабову, чтобы поймать читателя, затащить его в свой мир и там уже защекотать иронией, вылить на голову поток небывальщины и поразить в самое сердце. Так ему, чтобы больше не думал, что история — это скучно.
Арабов дает возможность вмиг погрузиться в повествование и почувствовать легкое головокружение от происходящих событий. Николай II не подписывает манифест об отречении. Это событие превращается в «бабочку», которая изменит будущее. Сослагательное наклонение вступает в силу, устраняя изъявительное: что было бы, если бы… С точки зрения Арабова, случилось бы чудо. Царь всея Руси и вождь пролетариата нашли бы компромисс и обошлись бы малыми жертвами. Гражданин Романов сохранил бы жизнь своей семье и уберег бы Россию от чудовищного кошмара. Гротеск, которым пропитан роман, к удивлению, не превращает героев в застывших кукол, живые лица — в маски. За диалогами персонажей порой скрывается двойной смысл. Однозначно относиться к альтернативным событиям истории как-то трудно. Так, например, слова Николая II об убитых в Екатеринбурге коммунистах (sic!) одновременно могут вызвать и смех, и жгучую тоску, оттого что они не соответствуют действительности:
— Вы знали этих людей?
— Весьма поверхностно. Свердлова видел лишь раз… И никакого впечатления он на меня не произвел. А других… — государь запнулся. — Покойный Джугашвили был мне вообще симпатичен. Молчаливый. Ходит тихо, неслышно и только курит. Ты же знаешь, как я люблю горцев. На заседаниях кабинета сосредоточенно молчит. Один раз дал мне прикурить из своей трубки. Такой и мухи не обидит. Его-то за что?Стоит только начать читать «Столкновение с бабочкой», как уже с первых строк проникаешься сочувствием и пониманием… к Владимиру Ильичу Ленину (что делает талант литератора)! Арабов не повторяет сам себя. Ильич из нового романа и Ленин из фильма Александра Сокурова «Телец», сценаристом которого также является писатель, все-таки разные. Здесь Владимир Ильич еще в расцвете сил, он только прибыл в Россию и готов сражаться за революцию. Но вместо привычного (в общем-то, безликого в наши дни) образа вождя коммунистической партии, который жил, жив и будет жить, возникает самый настоящий человек, существующий в настоящем времени, уставший и мечтающий о простом уюте и покое, о счастье не только всеобщем, но и сугубо личном. Ленин-мещанин сразу становится как-то ближе и понятнее. Так и хочется обратиться к нему со словами: «Как я понимаю вас, Владимир Ильич!»:
… Ильич должен был время от времени мотаться то в Москву, то в Петроград, и сдвоенная столица предполагала спальный вагон, накрахмаленные простыни, которые оказывались нечистыми, и подслащенные кипяток, выдаваемый за чай. Но дорога стала его привычной стихией. Только печалила мысль, что в свой предпенсионный возраст я так и не обрел постоянного жилья. Например, небольшого дома с камином и террасой, увитой диким виноградом, куда можно пригласить друзей и не стесняться за свой мелкобуржуазный быт. Раздавить с ними бутылочку красного вина, поговорить о философии и музыке, пожаловаться на здоровье и поделиться планами на лето: ехать ли в Ниццу или лучше собирать червивые грибы в Подмосковье…
Зачастую повествование от третьего лица переходит в монологи героев. Благодаря этому каждый получает возможность рассказать о своих страхах и надеждах. Какими бы карикатурными они не казались на первый взгляд («Какой социализм? Мы сейчас в фанты играем!», — говорит царица мужу и Ленину), сквозь авторский смех видны слезы. Возможно оттого, что только литературные герои могут прийти к диалогу. В реальности же все гораздо страшнее: вот и сейчас сносят памятники прошлого — тот же Ленин повергнут с пьедестала на землю. Может быть, потом кто-то напишет об этом альтернативную историю. Скучно на этом свете, господа!..