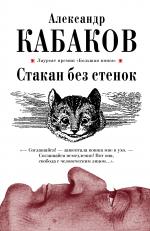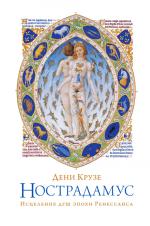- Майкл Каннингем. Снежная королева / Пер. с англ. Д. Карельского. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 352 с.
Майкл Каннингем, автор знаменитых «Часов» и «Дома на краю света», вновь подтвердил свою славу одного из лучших американских прозаиков. Тонко чувствующий современность, Каннингем написал роман «Снежная королева». Его герои братья Баррет и Тайлер, жители богемного Нью-Йорка, одинокие и ранимые, не готовые мириться с утратами, пребывающие в вечном поиске смысла жизни и своего призвания. Они так и остались детьми — словно персонажи из сказки Андерсена, они пытаются спасти себя и близких, никого не предать и не замерзнуть.
Ноябрь 2004
В спальне Тайлера и Бет идет снег. Снежинки — плотные студеные крупинки, а совсем не хлопья, в неверном сумраке раннего утра скорее серые, а не белые, — кружась, падают на пол и на изножье кровати.
Тайлер просыпается, сон сразу же почти бесследно улетучивается — остается только ощущение тревожной, чуть нервной радости. Он открывает глаза, и в первый момент рой снежинок в комнате кажется ему продолжением сна, ледяным свидетельством небесной милости. Но потом становится ясно, что снег настоящий и что его надуло в окно, которое они с Бет оставили открытым на ночь.
Бет спит, свернувшись калачиком, у Тайлера на руке. Он бережно высвобождает из-под нее руку и встает закрыть окно. Ступая босиком по тонко заснеженному полу, идет сделать то, что следует сделать. Ему приятно сознавать собственное благоразумие. В Бет Тайлер встретил первого человека в своей жизни еще более непрактичного, чем он сам. Проснись Бет сейчас, она наверняка попросила бы не закрывать окно. Ей нравится, когда их тесная, забитая вещами спальня (стопки книг и сокровища, которые Бет все тащит и тащит в дом: лампа в виде гавайской танцовщицы, которую в принципе еще можно починить; обшарпанный кожаный чемодан; пара хлипких, тонконогих стульев) превращается в игрушку — рождественский снежный шар.
Тайлер с усилием закрывает окно. В этой квартире все какое-то неровное и перекошенное. Если на пол посреди гостиной уронить стеклянный шарик, он укатится прямиком к входной двери. В последний момент, когда Тайлер уже почти опустил оконную раму, в щель с улицы врывается отчаянный снежный заряд — словно бы спешит использовать последний шанс… Шанс на что?.. На то, чтобы оказаться в убийственном для него тепле спальни? Чтобы успеть впитать жар и растаять?С этим последним порывом в глаз Тайлеру залетает соринка или, может быть, не соринка, а микроскопический кусочек льда, совсем крошечный, не больше самого мелкого осколка разбитого зеркала. Тайлер трет глаз, но соринка не выходит, она прочно засела у него в роговице. И вот он стоит и смотрит — одним глазом видно нормально, второй совсем затуманен слезами, — как снежная крупа бьется в стекло. Самое начало седьмого. За окном белым-бело. Слежавшиеся сугробы, которые день за днем росли по периметру парковки и походили раньше на невысокие серые горы, присыпанные тут и там блестками городской копоти, теперь сияют белизной, как на рождественской открытке; хотя нет, чтобы получилась настоящая рождественская открытка, надо особенным образом сфокусировать взгляд, удалить из поля зрения светло-шоколадную цементную стену бывшего склада напротив (на ней до сих пор потусторонней тенью проступает каллиграфически начертанное слово «цемент», как будто это строение, так давно заброшенное людьми, напоминает им о себе, шепча выцветшим голосом свое имя) и тихую, не отошедшую еще ото сна улицу, над которой сигнальным файером моргает и жужжит неоновая буква в вывеске винного магазина. Даже мишурные декорации этого призрачного, малолюдного квартала, где из-под окон у Тайлера уже год никак не уберут остов сгоревшего «бьюика» (ржавый, выпотрошенный, расписанный граффити, он выглядит причудливо-благостно в своей абсолютной ненужности), одеваются в предрассветном сумраке лаконично-суровой красотой, дышат поколебленной, но не убитой надеждой. Да, и в Бушвике так бывает. Валит снег, густой и безукоризненно чистый, — и есть в нем что-то от божественного дара, как если бы компания, поставляющая в кварталы получше тишину и согласие, в кои-то веки ошиблась адресом.
Когда не сам выбираешь место и образ жизни, полезно уметь благодарить судьбу даже за скромные милости.
А Тайлер как раз не выбирал этот мирно обнищавший район складов и парковок, где стены зданий отделаны древним алюминиевым сайдингом, где при строительстве думали только о том, как подешевле, где мелкие предприятия и конторы едва сводят концы с концами, а присмиревшие обитатели (в большинстве своем это доминиканцы, которые приложили немало сил, чтобы попасть сюда, и наверняка питали более смелые надежды, чем те, что сбываются в Бушвике) послушно тащатся на работу или с работы, самой что ни на есть грошовой, и весь их вид говорит о том, что бороться дальше бессмысленно и надо довольствоваться тем, что есть. Здешние улицы уже и не особенно опасны, время от времени кого-нибудь по соседству, конечно, грабят, но как будто нехотя, по инерции. Когда стоишь у окна и смотришь, как снег обметает переполненные мусорные баки (мусоровозы лишь изредка и в самые непредсказуемые моменты вспоминают, что сюда тоже стоит заглянуть) и скользит языками по растресканной мостовой, трудно не думать о том, что ждет этот снег впереди, — о том, как он станет бурой слякотью, а из нее ближе к перекресткам образуются лужи по щиколотку глубиной, где будут плавать окурки и комочки фольги от жвачки.
Надо возвращаться в постель. Еще одна сонная интерлюдия — и кто знает, может статься, что мир, в котором проснется Тайлер, окажется еще чище, будет укрыт поверх праха и тяжких трудов еще более плотным белым покрывалом.
Но ему муторно и тоскливо и не хочется в таком состоянии ложиться. Отойдя сейчас от окна, он уподобится зрителю тонкой психологической пьесы, которая не получает ни трагического, ни счастливого финала, а постепенно сходит на нет, пока со сцены не исчезнет последний актер и публика наконец не поймет, что представление окончено и пора расходиться по домам.
Тайлер обещал себе сократить дозу. Последние пару дней это у него получалось. Но сейчас, именно в эту минуту, возникла ситуация метафизической необходимости. Состояние Бет не ухудшается, но и не улучшается. Никербокер-авеню послушно застыла в нечаянном великолепии, перед тем как снова покрыться привычными грязью и лужами.
Ладно. Сегодня можно сделать себе поблажку. Потом он снова с легкостью возьмет себя в руки. А теперь ему необходимо поддержать себя — и он поддержит.
Тайлер подходит к прикроватной тумбочке, достает из нее пузырек и вдыхает из него по очереди каждой ноздрей.
Два глотка жизни — и Тайлер мигом возвращается из ночного сонного странствия, все вокруг снова обретает ясность и свой смысл. Он снова обитает в мире людей, которые соперничают и сотрудничают, имеют серьезные намерения, горят желанием, ничего не забывают, идут по жизни без страхов и сомнений.
Он снова подходит к окну. Если та принесенная ветром льдинка действительно вознамерилась срастись с его глазом, то ей это удалось — благодаря крошечному увеличительному зеркальцу он все теперь видит гораздо яснее.
Внизу перед ним все та же Никербокер-авеню, и скоро к ней вернется обычная ее городская безликость. Не то чтобы Тайлер на время об этом забыл — нет-нет, просто неминуемо грядущая серость ничего не значит, вроде того как Бет говорит, что морфий не убивает боль, а отодвигает ее в сторону, превращает в некий вставной номер шоу, необязательный, непристойный (А вот, поглядите, мальчик-змея! А вот женщина с бородой!), но оставляющий равнодушным — мы-то знаем, что это обман, дело рук гримера и реквизитора.
Боль самого Тайлера, не такая сильная, как у Бет, отступает, кокаин высушивает нутряную сырость, от которой искрили провода у него в мозгу. Бьющий по ушам фуз брутальная магия мгновенно переплавляет в кристальной чистоты и ясности звук. Тайлер облачается в привычное свое платье, и оно садится на нем как влитое. Зритель-одиночка, в начале двадцать первого века он стоит голышом у окна, грудь его полнится надеждой. В этот миг ему верится, что все в жизни неприятные сюрпризы (ведь он совсем не рассчитывал, что будет к сорока трем годам безвестным музыкантом, живущим в пронизанном эротикой целомудрии с умирающей женщиной и в одной квартире с младшим братом, который мало-помалу превратился из юного волшебника в усталого немолодого фокусника, в десятитысячный раз выпускающего из цилиндра голубей) складно ложатся в некий непостижимый замысел, слишком громадный для того, чтобы его понять; что в осуществлении этого замысла сыграли свою роль все упущенные им возможности и проваленные планы, все женщины, которым самой малости не хватало до идеала, — все то, что в свое время казалось случайным, но на самом деле вело его к этому окну, к нынешней непростой, но интересной жизни, к неотвязным влюбленностям, подтянутому животу (наркотики этому способствуют) и крепкому члену (тут они не при чем), к скорому падению республиканцев, которое даст шанс народиться новому, холодному и чистому миру.
В том новорожденном мире Тайлер возьмет тряпку и уберет с пола нападавший снег — кому, кроме него, этим заняться? Его любовь к Бет и Баррету станет еще чище, еще беспримеснее. Сделает так, чтобы они ни в чем не нуждались, возьмет дополнительную смену в баре, воздаст хвалу снегу и всему тому, чего снег коснется. Он вытащит их троих из этой унылой квартиры, достучится неистовой песнью до сердца мирозданья, найдет себе нормального агента, сошьет расползшуюся ткань, не забудет замочить фасоль для кассуле, вовремя отвезет Бет на химиотерапию, начнет меньше нюхать кокс, а с дилаудидом1 завяжет совсем и дочитает наконец «Красное и черное». Он крепко сожмет в обьятьях Бет и Баррета, утешит, напомнит, что в жизни очень мало вещей, о которых действительно стоит беспокоиться, будет кормить их и занимать рассказами, которые шире откроют им глаза на самих себя.
Ветер переменился, и снег за окном стал падать иначе, как если бы некая благая сила, некий громадный невидимый наблюдатель предугадал желание Тайлера мгновением раньше, чем тот понял, чего желает, и оживил картину — ровно и неспешно падавший снег вдруг вспорхнул трепещущими лентами и принялся чертить карту завихрений воздушных потоков; и тут — ты приготовился, Тайлер? — настает момент выпустить голубей, вспугнуть пять птиц с крыши винного магазина и почти сразу же (ты следишь?) развернуть их, посеребренных первым светом зари, против снежных волн, набегающих с запада и несущихся к Ист-Ривер (ее неспокойные воды вот-вот пробороздят укутанные белым, словно сделанные изо льда баржи); а в следующий миг — да, ты угадал — приходит время погасить фонари и выпустить из-за угла Рок-стрит грузовик с не потушенными пока фарами и гранатово-рубиновыми сигнальными огоньками, мигающими у него на плоской серебряной крыше, — само совершенство, восхитительно, спасибо.
1 Дилаудид — наркотический анальгетик, производное морфина.
Рубрика: Отрывки
Мария Семпл. Куда ты пропала, Бернадетт?
- Мария Семпл. Куда ты пропала, Бернадетт? — М.: Синдбад, 2014. — 384 с.
В издательстве «Синдбад» выходит роман американской писательницы Марии Семпл, получивший одобрение известных писателей: Гиллиан Флинн, Кейт Аткинсон, Джонатана Франзена. «Куда ты пропала, Бернадетт?» — вопрос, который задают близкие исчезнувшей героини. И хотя окружающие привыкли к странностям Бернадетт (она почти не выходит из дому, не ухаживает за газоном, называет школьных мамашек не иначе как «мошкарой» и сорит деньгами), все уверены: ее больше нет в живых. Все, кроме пятнадцатилетней Би, которая в поисках мамы готова добраться до самого Южного полюса.
*** Для полноты картины скажу, что погода тем утром стояла
просто адская: впервые с 11 сентября было остановлено паромное сообщение.Мы с мамой позавтракали в ресторане, а потом, как
всегда по субботам, заскочили на рынок. Мама ждала в машине, а я сбегала сначала в рыбные ряды за лососем, потом
за сыром и напоследок — к мяснику за костями для собаки.У меня тогда был период Abbey Road, потому что я прочла книгу о последних днях The Beatles. За завтраком я пересказывала ее маме. Например, что мешанина на второй стороне диска изначально задумывалась как отдельные песни.
Уже в студии Пол решил слепить их в одно целое. Кстати,
когда он писал Boy, you’re going to carry that weight, он точно
знал, что происходит. Джон хотел, чтобы группа распалась,
а Пол ему возражал. Boy, you’re going to carry that weight —
это Пол обращается к Джону. «У нас неплохо получается
вместе, — как бы говорит он. — Развал группы будет на
твоей совести. Ты уверен, что готов с этим жить?» А заключительная инструментальная композиция, где битлы
по очереди солируют на гитаре и где звучит единственное
соло Ринго на ударных? Кажется, что это трагическое прощание с фанатами… Так и представляешь себе, как битлы
в хипповской одежде играют эту последнюю часть альбома и смотрят друг на друга. Боже, думаешь ты, как же они,
наверное, плакали. Ага. Все это Пол монтировал в студии,
так что сентиментальность поддельная.Между тем, когда мы добрались до паромной пристани,
там собралась огромная очередь — она тянулась от погрузочной площадки под виадуком через всю Первую авеню.
Никогда такой длинной не видела. Мама заглушила мотор
и под проливным дождем пошла к кассе. Вернувшись, она
рассказала, что ливневая канализация затопила паромную
станцию на Бейнбридже. Три парома, битком набитые машинами, не могут причалить. Короче, полнейший хаос.
Но паромы — такая штука: все, что ты можешь с ними сделать — это встать в очередь и не терять надежды.— Когда вы выступаете? — спросила мама. — Не терпится на тебя посмотреть.
— Я не хочу, чтобы ты приходила.
А я-то надеялась, что она забыла. У мамы аж челюсть
упала.— Выступление будет для тебя слишком душещипательным, — объяснила я. — Ты умрешь от умиления.
— Но я мечтаю умереть от умиления! Обожаю это
дело.— Все равно не скажу.
— Ну ты и вредина.
Я поставила диск Abbey Road, который записала утром.
Убедилась только, что задние динамики выключены, потому что сзади спал Пломбир.Первая песня, конечно же, Come Together. Начинается с такого клевого странного «шшшуумп», а потом идут
басы. А когда Джон запел Here come old flattop — с ума
сойти, оказалось, мама знает ее наизусть! Не просто каждое слово, но каждую голосовую модуляцию. Она знала
все эти all right, aww и yeaaaah. Все песни до единой! Когда
дошло до Maxwell’s Silver Hammer, мама сказала: «Дурацкая песня. Детский лепет какой-то». А потом что сделала?
Спела ее с начала до конца.Я нажала на паузу.
— Откуда ты все это знаешь?
— Abbey Road? — Мама пожала плечами. — Понятия не имею. Его все знают. — И снова включила музыку.
А знаете, что случилось, когда началась Here Comes the
Sun? Нет, солнце не засияло, зато мама просветлела, как
будто солнце и правда выглянуло из-за туч. Помните, как
звучат первые аккорды? Так, будто гитара Джорджа надеется на что-то. Мамин голос тоже был полон надежды. Во время гитарного соло она даже захлопала. Когда песня закончилась, она остановила диск.— Ой, Би, — сказала она со слезами на глазах. — Эта песня напоминает мне о тебе.
— Мам!
— Хочу, чтобы ты знала, как мне иногда трудно все
это выносить.— Что выносить?
— Пошлость жизни. Но это не помешает мне отвезти
тебя на Южный полюс.— Мы не на Южный полюс едем!
— Я знаю. На Южном полюсе сто градусов мороза.
Туда только ученые ездят. Я начала читать те книжки.Я высвободила руку и включила музыку. Самое смешное
вот что. Когда я нарезала диск, то не сняла галочку в меню,
и iTunes по умолчанию оставил между песнями двухсекундные паузы. И вот началось то обалденное попурри, и мы
с мамой спели You Never Give Me Your Money и Sun King, —
ее, кстати, мама знает всю, и испанскую часть тоже, а ведь
она по-испански не говорит, она французский учила.А затем пошли двухсекундные дырки.
Если вам непонятно, насколько ужасно это раздражает, попробуйте подпевать Sun King. Под конец вы бормочете по-испански, уже готовясь насладиться Mean Mr. Mustard. Чем прекрасна концовка Sun King? Тем, что, с одной
стороны, вы будто плывете по течению, а с другой — уже
предвкушаете барабаны Ринго, которыми взрывается Mean
Mr. Mustard. Но если ты забыл убрать галочку в iTunes, то
звуки Sun King замолкают, и наступают…ДВЕ СЕКУНДЫ СУРОВОЙ ЦИФРОВОЙ ТИШИНЫ.
А после Polythene Pam, только стихнет look out —
бац! — ДЫРКА перед She Came in Through the Bathroom
Window. Это пытка, серьезно. Мы с мамой выли в голос.Наконец, диск закончился.
— Би, я тебя люблю, — сказала мама. — Я стараюсь.
Иногда получается. Иногда нет.Очередь на паром вообще не двигалась.
— Может, домой вернемся? — предложила я. Конечно,
это был облом, потому что в Сиэтле Кеннеди не захочет
у нас ночевать. Она боится нашего дома. Однажды она
поклялась, что видела, как под ковром что-то шевелится.
И как заорет: «Там что-то живое, там живое!» Я ей объяснила, что это просто ежевика растет сквозь пол. Но она
была уверена, что там прячется призрак одной из стрейтгейтских учениц.Мы с мамой взобрались на Холм королевы Анны. Она
как-то сказала, что сплетение электропроводов над головой
похоже на лестницу Иакова. Каждый раз, когда мы там проезжаем, я представляю себе, как запускаю растопыренные
пальцы в эту паутину и играю в «колыбель для кошки».Мы свернули на нашу дорожку и уже наполовину въехали в ворота, как увидели Одри Гриффин. Она двигалась
в нашем направлении.— Боже, — охнула мама. — У меня дежавю. Что еще ей надо?
— Поаккуратней там с ее ногами.
Это я так пошутила.
— Только не это! — сдавленно простонала мама и закрыла лицо руками.
— Что? — не поняла я. — Что это?
Одри Гриффин была без куртки и босая. Штаны до колена покрыты грязью. Грязь налипла и на волосы. Мама открыла дверцу, но мотор не заглушила. Не успела я вылезти,
как Одри принялась истошно орать:— Ваш склон только что сполз ко мне в дом!
У нас такой огромный двор, что газон заканчивается
далеко внизу. Я не сразу поняла, о чем она.— Во время приема в честь будущих родителей «Галерстрит»!
— Я понятия не имела… — Мамин голос дрожал.
— Не сомневаюсь, — сказала Одри. — Вы же абсолютно не участвуете в школьной жизни. Там были оба первых
класса!— Никто не пострадал? — спросила мама.
— Слава богу, нет! — Одри улыбнулась улыбкой безумицы. Мы с мамой обожаем таких людей и называем их
«злобносчастливыми». Бенефис Одри стал лучшим образцом этого явления за всю историю наблюдений.— Ну вот и хорошо. — Мама тяжело вздохнула. Было
заметно, что она в первую очередь пытается убедить в этом
себя.— Хорошо?! — взвизгнула Одри. — Мой двор на шесть
футов затоплен грязью! Выбиты окна! Погибли цветы, погибли деревья! А мой паркет?! А стиральная машина и сушка?! Их с мясом выворотило из стены!Одри говорила все быстрее и уже начинала задыхаться.
С каждым словом она все больше заводилась, и стрелка на
счетчике счастливой злобы уверенно ползла вверх.— Мангал разбит! Оконные шторы испорчены! Теплица уничтожена! Рассада погибла. Яблони, над которыми
я билась двадцать пять лет, вырваны с корнем! Японские
клены стерты с лица земли. Фамильные сортовые розы
завалены мусором! Очаг, который я лично выкладывала
плиткой, разбит!Мама сжала губы, изо всех сил сдерживая улыбку. Мне
пришлось уставиться на свои ботинки, чтобы не прыснуть.
Но внезапно нам стало не до смеха.— Я уже не говорю про знак! — прорычала Одри.
Мама сникла.
— Знак? — едва слышно выдавила она.
— Какой знак? — вмешалась я.
— Кем надо быть, чтобы повесить такой знак?!
— Я сниму его сегодня же, — сказала мама.
— Какой знак? — повторила я.
— Об этом ваша грязь уже позаботилась, — огрызнулась
Одри. Только сейчас, когда она буквально вонзилась в нас
взглядом, я обратила внимание, какие зеленые у нее глаза.
— Я за все заплачу, — пообещала мама.Мама — она такая: мелкие неприятности выводят ее из
себя, зато кризисные ситуации заставляют мобилизоваться.
Если официант, вопреки троекратному напоминанию, так
и не принес ей воды, если она забыла темные очки, а тут,
как назло, выглянуло солнце — берегитесь! Но когда приходит настоящая беда, мама хранит олимпийское спокойствие. Наверно, научилась этому за те годы, что безвылазно
провела со мной в больнице. Я что хочу сказать: если все
плохо, то мама — незаменимый член команды. Но, похоже,
Одри Гриффин ее спокойствие только раззадорило.— Вас только это интересует? Деньги? — Глаза Одри
метали громы и молнии. — Сидите себе в огромном доме
на горе, смотрите на нас сверху вниз и знай себе чеки строчите! А вниз к нам, грешным, спуститься — что вы, это
ниже вашего достоинства!— Вы, очевидно, сильно расстроены, — сказала мама. —
Вспомните, пожалуйста, что все работы на склоне проводились по вашему настоянию. Я наняла вашего работника,
и он все сделал к назначенному вами сроку.— А вы, выходит, совсем ни при чем? — закудахтала
Одри. — Хорошо устроились! Ну а знак? Знак тоже я заставила вас повесить?— Какой знак? — Мне не нравилось, что они все время
говорят про какой-то знак.Мама повернулась ко мне.
— Би, я сделала глупость. Потом расскажу.
— Бедное дитя! — прошипела Одри. — После всего,
что ей пришлось пережить…— Что-о-о?! — вскинулась я.
— Я приношу вам свои извинения за знак, — с нажимом сказала мама. — Я сделала это сгоряча в тот день, когда
застала вас и вашего садовника у себя на лужайке.— Так, по-вашему, это я во всем виновата? Восхитительно!
Похоже, стрелка ее прибора миновала красную черту
и поползла дальше, в область неизведанного, куда еще не
рисковала заглядывать ни одна злобносчастливая душа.
Мне стало страшно.— Я не снимаю с себя вины, — ответила мама.
— Просто хочу отметить, что сегодняшние события произошли не сами по себе.
— Так вы что же, считаете, что пригласить работника
с целью оценки работ по благоустройству, предписанных
городским кодексом, — это то же самое, что вывесить щит,
напугать до полусмерти малышей из двух классов, поставить
под угрозу набор в «Галер-стрит» и разрушить мой дом?— Знак появился не просто так. И вам это известно.
— Ваааауууу, — взвыла Одри, растягивая звуки так,
словно пустила их вверх-вниз по американским горкам. Ее
голос сочился такой ненавистью и безумием, что, казалось,
мог пронзить вас насквозь. У меня заколотилось сердце.— Оч-чень интересно… — теперь Одри шипела. —
Значит, вы думаете, что повесить над моим домом щит
с клеветнической надписью — это адекватная реакция на
производство оценки работ по благоустройству?! — произнося эту фразу, она тыкала пальцем по сторонам. — Кажется, я вас поняла.— Это гипертрофированная реакция, — спокойно
произнесла мама. — Не забывайте, что вы нарушили границы частной собственности.— Да вы с ума сошли! — взорвалась Одри. Глаза ее бешено метались туда-сюда. — Боже мой! А я-то все пыталась
понять, в чем дело. Но теперь, кажется, поняла! — Она напустила на лицо выражение изумленной идиотки и часто-часто захлопала в ладоши.— Одри. Не забывайте, что именно вы начали эту игру.
— Я? Я не играю ни в какие игры!
— А кто заставил Гвен Гудиер разослать письмо про то,
как я переехала вам ногу? Это что, по-вашему?— Ох, Бернадетт, — печально покачала головой
Одри. — Вам надо избавляться от паранойи. Если бы вы
больше общались с людьми, то поняли бы, что мы — вовсе
не свора чудовищ, которые спят и видят, как бы вас схватить. — И она выставила вперед руки со скрюченными
пальцами.— Думаю, мы закончили, — сказала мама. — Приношу
извинения за знак. Это идиотская ошибка, и я готова понести за нее полную ответственность — как финансовую, так
и моральную. В том числе перед Гвен Гудиер и «Галер-стрит».Она отвернулась, обошла машину спереди и уже открыла дверцу, но тут Одри Гриффин, как оживший киношный монстр, снова выросла перед ней.
— Би ни за что не приняли бы в «Галер-стрит», если бы
знали, что она — ваша дочь. Спросите Гвен. Никто не знал,
что вы — та самая семейка из Лос-Анджелеса! Подумаешь,
купили домину на самом лучшем участке и думают, что им
все позволено! Вы хоть знаете, где мы сейчас стоим? В четырех милях от дома, где выросли я, моя мать и моя бабка!— Охотно верю.
— Мой прапрадед был охотником на Аляске. Прапрадед Уоррена покупал у него пушнину. А вы заявились
с мешком майкрософтовских денег и надеетесь стать здесь
своими. Но вы — чужаки. И своими никогда не станете.— Аминь.
— Все родители вас на дух не выносят, Бернадетт. Вы
знаете, что на День благодарения мы всем классом ездили
на остров Уидби, а вас и Би не позвали? Правда, я слышала,
вы чудесно отметили праздник в «Дэниелс Бройлере»!У меня перехватило дыхание, как будто Одри Гриффин
нанесла мне удар в солнечное сплетение. Я схватилась за
машину, чтобы не упасть.— Ну все, Одри. — Мама сделала несколько шагов в ее
сторону. — Пошла вон отсюда.— Прекрасно! Грубость при ребенке. Надеюсь, вам стало легче.
— Повторяю. Пошла вон, Одри. И не втягивай в это Би.
— Мы любим Би. Она отлично учится, она чудесная
девочка. Это доказывает, что дети психологически очень
устойчивы, раз, несмотря ни на что, она выросла такая
хорошая. Будь она моей дочерью — и то же самое скажет
любая мать из нашего класса, — я бы никогда не отправила
ее в школу-пансион.Я наконец смогла набрать в грудь достаточно воздуха:
— Я сама хочу в школу-пансион!
— Конечно, хочешь, — с жалостью в голосе сказала
Одри.— И это была моя идея! — заорала я в ярости. — Я вам
уже говорила!— Не надо, Би. Оно того не стоит, — сказала мама. На
меня она даже не смотрела, просто протянула руку в мою
сторону.— Конечно, твоя, детка, — сказала мне Одри, не сводя
глаз с мамы. — Конечно, ты хочешь уехать. Кто бы на твоем
месте не захотел.— Не смейте так со мной говорить! — проорала я. —
Вы меня не знаете!Я насквозь промокла, мотор машины все это время работал вхолостую, расходуя бензин, обе двери были открыты, так что дождь заливал кожаные сиденья, к тому же мы
встали точно в воротах, а они все время пытались закрыться
и тут же разъезжались обратно. Я боялась, что двигатель перегреется, а Пломбир просто сидел сзади с глупым видом,
разинув пасть и вывалив язык, будто не понимал, что мы
нуждаемся в защите. И надо всем этим разносилась песня
Here Comes the Sun, которая, как утверждает мама, напоминает ей обо мне. Я поняла, что больше никогда не смогу
слушать Abbey Road.— Господи, Би, что случилось? — Мама поняла, что со
мной что-то не так. — Сердце?Я оттолкнула маму и ударила Одри по мокрому лицу.
Я знаю, что так нельзя. Но я больше не могла!— Я молюсь за тебя, — сказала Одри.
— За себя помолитесь, — рявкнула я. — И вы, и остальные мамаши не стоите мизинца моей мамы. Это вас все ненавидят. Ваш Кайл — малолетний преступник, мало того
что двоечник, еще и в спорте круглый ноль. Если кто с ним
и тусуется, то только потому, что он распространяет наркоту, да еще вас передразнивает. А муж у вас — алкоголик, его
три раза ловили за рулем пьяным вдрызг, но ему все сходит
с рук, потому что он водит дружбу с судьей. А вас одно
волнует: чтобы никто ничего не узнал. Но поздно: Кайл
про вас всей школе рассказывает.— Я христианка, я тебя прощаю, — быстро сказала
Одри.— Я вас умоляю. После того, что вы тут наговорили
моей маме. Христианка!Я залезла в машину, захлопнула дверь, выключила Abbey Road и заплакала. Я сидела в луже, но мне было все равно. Мне было очень страшно. Но не из-за знака, и не из-за
этого дурацкого оползня, и уж, конечно, не потому, что
нас с мамой не позвали на идиотский остров Уидби, — нам
сто лет не нужны никакие поездки в компании этих дуболомов. Я испугалась потому, что сразу поняла: теперь все
изменится.Мама села рядом и закрыла дверь.
— Ты суперкрута, — сказала она. — Ты это знаешь?
— Я ее ненавижу.
Я не стала говорить вслух (потому что было незачем, потому что это подразумевалось само собой, хотя
и непонятно почему: ведь раньше у нас не было от него
секретов), что папе мы ничего не скажем.После той безобразной сцены мама изменилась. Случай в аптеке тут ни при чем: она вышла из аптеки совершенно нормальной; мы же пели с ней в машине под Abbey
Road. Мне плевать, что говорят папа, врачи, полиция
и кто угодно. Во всем виноват скандал, который устроила маме Одри Гриффин. А если не верите мне, то вот, прочтите.*** Письмо, отправленное пять минут спустя От кого: Бернадетт Фокс
Кому: Манджула КапурНикто не скажет, что я не пыталась. Но я просто не в силах этого вынести. Я не могу ехать в Антарктиду. Как это все отменить,
я не представляю. Но я в нас верю, Манджула. Вместе мы можем все.
Александр Кабаков. Стакан без стенок
- Александр Кабаков. Стакан без стенок. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 256 с.
В Редакции Елены Шубиной выходит сборник эссе, рассказов и путевых записок лауреата премии «Большая книга» Александра Кабакова. По словам автора, «в результате получились весьма выразительные картины — настоящее, прошедшее и давно прошедшее. И оказалось, что времена меняются, а мы не очень… Все это давно известно, и не стоило специально писать об этом книгу. Но чужой опыт поучителен и его познание не бывает лишним. И стакан без стенок — это не просто лужа на столе, а все же бывший стакан».
ОСАЖДЕННЫЙ Все меньше хочется выдумывать. Видимо, попал
под влияние общей тенденции.А уж если выдумывать, то что-нибудь несусветное — летающих женщин, бессмертных мужчин, демонов и ангелов — в общем, всякую фантастическую белиберду, которой и без того хватает, включая не белиберду, а классику… Впрочем,
это не останавливает. Что ж, если майорский нос
гулял сам по себе вдоль питерских каналов, так
уж после этого ничего и не выдумай? И пусть себе
кот садился в трамвай, потирая усы гривенником, — никто не запретит и нам придумывать
сказки и фантастические романы…Да что угодно, лишь бы не начинать тоскливую
как бы реалистическую тягомотину: «Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин
средних лет, живущий в гигантском столичном
городе, вышел из подъезда своего многоэтажного
дома и отправился в большой банк, где он служил
топ-менеджером…» Ужас! К тому же сразу, как
только потребуются детали, начнешь путаться
и нести чушь, поскольку сам менеджером ни топ,
ни каким другим в банке не служил, квартируешь
в умирающей пятиэтажке, и не средние идут твои
годы, а вполне уже, по чести говоря, преклонные.Нет, положительно — нон-фикшн притягателен! И никаких фантазий не надо. Не надо напрягать воображение, а потом получать от критика презренное клеймо «булгаковщина» (а то и вовсе «аксеновщина»). И жизнь изучать в ее
конкретных и разнообразных проявлениях не
требуется — достаточно одно проявление записать точно и без прикрас, а читатель уж сам извлечет из этой правды свою, ему необходимую правду.Да, положительно — только нон-фикшн! Хватит беллетристики, побаловались, пора и честь
знать. Вот вам истинная история, документально
подтвержденный случай.Итак:
Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин средних лет, живущий в гигантском
столичном городе, вышел из подъезда своего многоэтажного дома и отправился в большой банк,
где он служил топ-менеджером. Паспортные данные Петра Ивановича, его ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, а также адрес по месту постоянной
регистрации и другие реквизиты любой желающий может найти в социальных сетях, Фэйсбуке,
Одноклассниках и прочих. Там же, в Фэйсбуке,
вы можете ознакомиться и с той историей, которую
мы собираемся вам здесь рассказать, но, конечно,
там она будет изложена пристрастно, а здесь мы
абсолютно объективны. Так что, если понравится — лайкните. А если вас смущает то, что на старомодном листе бумаги, содержащем слишкам многа букаф, и лайкнуть-то негде, то лайкните где угодно, какая разница.Итак:
Ранним весенним утром… Весна в том году была короткая, зато жаркая, в полном соответствии
с обещаниями ученых — в основном, как обычно,
британских — вовсе упразднить сдержанно жизнерадостные демисезоны, весну и осень, оставив
только экстремистские лето и зиму. Поэтому Петр
Иванович вышел из дому налегке. На нем были:
узкое и коротковатое, из черного кашемира, соответственно текущему деловому тренду, пальто
нараспашку… А также узкий, строго по тренированной фитнесом фигуре темный костюм… И, понятное дело, сияющие ботинки стиля oxford
brogues. Уже только по вышеописанному экстерьеру можно было бы заключить, что жизнь Семенова удалась, или, чтобы употребить актуальный оборот, состоялась. Если же добавить, что
спустя пять минут он вновь появился в нашем
поле зрения, но уже выехав из паркинга под домом на автомобиле почтенной немецкой марки
и модели текущего года, то следует признать, что
жизнь его не только состоялась, но именно удалась.Итак:
Петр Иванович Семенов, господин средних
лет… Средних — это сорока трех. К такому прекрасному возрасту у нашего фигуранта (воспользуемся популярным в текущие времена борьбы
с коррупцией словом) было все, что положено
фигуранту. Несколько счетов не только в родном банке, но и в других, отделенных от РФ госграницами. Приличный домик в Испании и еще более приличный по известному Новорижскому
шоссе. Еще одно транспортное средство, находящееся в пользовании жены, японский затейливый кроссовер. И, наконец, сама жена, девушка
Алена Васильевна Семенова, неполных тридцати пяти лет, со скромным модельным прошлым и столь же скромным деловым настоящим, обремененным заботами о собственном оздоровительном бизнесе «СПАщая красавица». Пусть
нас простят за упоминание близкого Петру Ивановичу человека в ряду его материального имущества, тут ничего обидного нет, а только логика жизни.Итак:
Живущий в гигантском столичном городе…
Боже, как удивителен этот город! Не будем даже
и пытаться перечислить хотя бы главные чудеса — просто проедем по его Третьему транспортному кольцу, будь оно неладно с его вечными
пробками, да оглянемся вокруг, да задохнемся
от вида небоскребов, упирающихся в сиреневое
от гари небо, да зажмуримся на мгновение, взлетая по стартующей в бесконечность эстакаде, да
представим себе это пространство, эти двадцать
миллионов обитателей, эти миллиарды вдохов
и выдохов… И миллиарды рублей, добавим мы,
так же растворенных в городском воздухе, как
дыхание горожан и выхлопы машин, в основном
пока еще не соответствующие современным европейским стандартам. Только вдохов и выдохов
на всех горожан приходится примерно поровну,
выхлопы зависят от года выпуска автомобиля
и мощности… А денежки вообще выпадают из воздуха сугубо неравномерно, густо оседая на некоторых депозитах и совершенно игнорируя большинство текущих, зарплатных и пенсионных,
счетов и просто дырявые карманы среднего населения — не путать со средним классом. В результате возникает, как сказали бы электрики,
разница потенциалов, а где разница потенциалов,
там и напряжение, спросите у тех же электриков,
а где напряжение, там, того и гляди, пробежит
искра и, соответственно историческому прецеденту, возгорится из нее пламя. Черт возьми!
Черт возьми, иногда восклицал про себя Петр
Иванович, да что ж они, не видят, что ли?! Кто
они, Семенов отчетливо не представлял, но на
всякий случай время от времени принимал участие в, как говорится, протестных акциях. Он шел
или стоял на мостовой вместе с немалым количеством горожан, среди которых встречалось порядочно таких же господ в кашемировых пальто,
тоже, видимо, смущенных разностью потенциалов — впрочем, возможно участвующих в упомянутых акциях лишь соответственно тренду, то
есть моде, вроде как на то же узкое и укороченное пальто.Итак:
Вышел из подъезда своего многоэтажного дома… Не всегда П.И. Семенов жил в этом многоэтажном новостроенном доме (монолит, планировка свободная, первичная отделка) со своею женой Алёной и девятилетним сыном Иваном.
Вернее, сын тогда еще только намечался, а Петр и Алёна жили в малогабаритной трешке с родителями Алёны и ее младшим братом. Район Капотня для готовящегося возникнуть сына был не слишком подходящим. Да и совместная жизнь с родителями жены тяготила, прямо скажем, бедного — тогда еще бедного — Семенова даже больше
Капотни. А у самого героя жилья не было никакого, поскольку он происходил из города Каменска-Шахтинского Ростовской области. И совсем
недавно он произошел из простого менеджера
в старшие менеджеры по работе с физическими
лицами… Короче, еще много денег на срочные
и специальные, особо выгодные вклады утекло,
прежде чем безо всякой ипотеки Семенов приобрел четырехкомнатную в новостройке, в тихом,
но перспективном районе Октябрьского Поля.
В эту квартиру тесть с тещей приходили только
в гости, никак не отвыкнув приносить с собою домашние заготовки квашеных огурцов и капусты,
которых никто в доме Семеновых давно не ел,
предпочитая обходиться продуктами из приличных магазинов. Открывая гостям, а спустя некоторое время закрывая за ними стальную дверь
с сейфовыми замками, Петр Иванович всякий
раз удовлетворенно отмечал и толщину, и качество стали, и хитроумность замков любимой двери, потому что только на нее и была вся надежда.Итак…
И отправился в большой банк, где он служил…
Именно служба в банке и привила Петру Ивановичу Семенову любовь к стальным дверям и веру в них как в единственное достойное препятствие
той самой искре и тому самому пламени, о которых говорилось выше. Будучи работником банка,
он отчетливо представлял себе, как всё ненадежно в этом ненадежнейшем из миров. Он помнил,
как в страшные дни уже далекого, слава Богу,
первого кризисного года тихо шумела у стеклянных, слегка усиленных решетками входных дверей банка толпа угрюмых вкладчиков и как ему
хотелось оказаться тогда в сейфовом помещении,
за броневыми дверями, и никогда не выходить оттуда. А ведь еще не было тогда не только сына Ивана, проводящего теперь, к счастью, учебный год на
безопасном острове, однако ведь на каникулы-то
возвращающегося на родину, но и жены Алёны,
слабой бизнесвумен… Какие двери?! Вырвут танком. Привяжут тросом и вырвут.Итак:
Топ-менеджером… В этом качестве он имел
возможность слегка растянуть обеденное время
и, допивая американский кофе с молоком в одном
из наиболее приличных итальянских кафе, которых вокруг банка развелось больше, чем в каком-нибудь квартале Милана, беседовать с коллегой,
таким же топом, о том, что волновало. «Дом надо
строить, вот что, отсидимся, если что, по-любому, — говорил он коллеге, и коллега соглашался,
а Семенов продолжал так же убежденно и невразумительно: — Умные люди давно в дома посъезжали, отсидятся, если что, по ходу…»Тут мы простимся с уже поднадоевшим приемом и прекратим раскручивать одну первую фразу, тем более что мы ее уже до конца использовали. Дальше изложение будет строгое и документально подтверждаемое — если хотите, ссылки
на соответствующие сайты пришлем. Действие
продолжается уже летом, наступившим вслед за
тою ранней весной, и осенью, довольно быстро
вытеснившей то лето.Итак:
Петр Иванович Семенов, у которого, как сказано, уже были дом в Испании и еще один, совсем нехилый, по Новой Риге, решил строить третий,
совершенно особого типа Дом — именно такой,
с большой буквы «Д».Дом этот должен был стать одной сплошной
стальной дверью, которую не вырвешь никаким
танком, да и, собственно, неоткуда будет ее вырывать — кругом вроде дверь… Пожалуй, что и дверь
эту будем писать с большой «Д».Для начала Петр Иванович Семенов продал
испанскую и новорижскую недвижимость, поскольку искомой безопасности ни та, ни другая
не предоставляли, а деньги имело смысл пустить
на строительство Дома, уже шедшее полным ходом и быстро истощавшее счета, один за другим.
Конечно, можно было бы ограничиться усилением обороноспособности новорижского жилища,
но это было бы затратнее, чем построить Дом
с нуля, — Петр Иванович через некоторых знакомых был осведомлен, во что обходится реформа обороноспособности. Кроме того, Семенова
смущало расположение дома: его привлекательная престижность, увеличивающая цену каждой сотки, увеличивала и риск — пламя, если возгорится, был уверен Семенов (и не он один
был в этом уверен), прежде всего полыхнет
именно на Рублевке и Новой Риге… Что касается
Испании, региона Марбелья, то относительно
этого жилья сомнения у Петра Ивановича усиливались после почти каждого выпуска новостей. Буйные толпы, шатающиеся по улицам
Южной Европы, в том числе Испании, сюжеты
о раздаче бесплатной еды голодным и забастовках госслужащих, лишенных тринадцатых зарплат, бутылки с «коктейлем Молотова», летящие в полицейских, — всё это нисколько не привлекало Петра Ивановича, и он даже сожалел, что когда-то купил испанский домик. Вложение можно было сделать и много более выгодное — к примеру, купить еще одну московскую квартиру, в сталинском доме, да сдать дипломату, или две элитных однушки в новостройках и тоже сдать, своему брату менеджеру, только еще начинающему…Словом, теперь Петр Иванович Семенов строил Дом.
Участок был выбран идеальный — на небольшом (проще защищать) полуострове, выступающем в водохранилище. Конечно, получить разрешение на покупку этой, еще недавно принадлежавшей районной администрации земли в прибрежной зоне было непросто. Тут речь даже не
шла о том, чтобы кому-нибудь занести, как положено, тут решалось всё на уровне бескорыстных
личных контактов в тесном и почти совершенно
закрытом кругу. Однако ж желание Петра Ивановича было настолько сокрушительным, что однажды он услышал заветное «ну, если горит тебе,
Петруха, стройся, только на новоселье не забудь
позвать», и стройка началась.Началась она даже не с нулевого, а с подводного цикла: в водохранилище вокруг полуострова
была установлена мощная стальная сетка, исключающая приближение к будущему Дому любых плавсредств, включая субмарины. Эта сетка
была установлена по примеру военно-морских
баз и стала как бы подводной Дверью.Потом были проведены саперные работы на
перешейке, соединяющем полуостров с материком — то есть с бывшим совхозным полем, понемногу распродающимся под коттеджи и таунхаусы. Минирование обошлось без чрезвычайных
происшествий, оставленный для хозяев и нужд
дальнейшего строительства проход был обозначен широкой аллеей молодых сосен, в целях маскировки перемежающихся с беспородной растительностью.Работы велись в ночное время, бригада молдаван немедленно по окончании была депортирована на добровольной основе, снабженная выходным пособием и советом всё забыть.
Жена Алёна поначалу ни во что посвящена не
была, но, как любящий человек, что-то почувствовала. Петя стал более молчалив, чем был прежде, глаза его приобрели еще более обычного сосредоточенное выражение, а на письменном столе
в его домашнем кабинете теперь постоянно лежал
школьный учебник физики, раскрытый на странице, на которой рассказывалось о разнице потенциалов, чреватой искрой… Кроме того, она слышала, как муж задумчиво, за какой-нибудь несложной работой, повторял стихотворную строчку «…из
искры возгорится пламя…», хотя вообще стихов
не любил и не знал. Когда же Петр Иванович привез ее взглянуть на завершающееся строительство Дома, уверенность ее окончательно сформировалась.Дом был выстроен из бетона, серый куб в один
этаж. Бетон был сплошной, окна в нем прорезаны
узкие и высоко от земли, в обычное время они закрывались стальными ставнями с мощными замка´ми, запирающимися изнутри одной кнопкой
с центрального пульта.Дверь в Дом вела стальная, когда она бывала
открытой — недолго, чтобы хозяева успели пройти, — можно было подивиться толщине: полметра стали, столько же, сколько бетона в стенах,
и вдвое толще, чем дверь в городской квартире.
Замко´в было четыре, по одному с каждой стороны, когда их запирали с центрального пульта,
глубоко в стены вдвигались стальные стержни,
почти в руку толщиной каждый.При запертой Двери и ставнях Дом снаружи
выглядел просто как сплошная бетонная глыба
правильной формы, украшенная металлическими накладками. Похоже было на какой-то брошенный недострой, уже начинающий зарастать
бурьяном — усилия ландшафтного дизайнера
дали результат…Внутри же Дом был совершенно обычный, мебель сюда перевезли с Новой Риги, и даже все интерьерные идеи снова воплотили. Натуральное
черное и красное дерево, тонкая кожа, зеркальное
стекло и прочие штучки, наличием которых внутри Дома вполне объяснялся суровый и неприступный вид Дома снаружи. Во всяком случае,
трезво оценивающий действительность человек
понял бы мотивы и соображения, руководившие
Семеновым при строительстве бетонной крепости.
Если в Доме цена дверных ручек на внутренних
дверях больше, чем три средних по стране зарплаты, то лучше укрыть их в бетонном кубе, за броневой дверью. Поскольку последствия разности потенциалов в учебнике физики описаны понятно…
Эрик Аксл Сунд. Девочка-ворона
- Эрик Аксл Сунд. Слабость Виктории Бергман. [Ч.1]. Девочка-ворона / Пер. со шведского А. Савицкой. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 507 с.
Криминальный роман-трилогия «Слабость Виктории Бергман» — литературный дебют двух шведов, Йеркера Эрикссона и Хокана Аксландера Сундквиста, пишущих под псевдонимом Эрик Аксл Сунд. Часть первая, «Девочка-ворона», поразила читателей и критиков, которые сравнили Сунда с великим Стигом Ларссоном.
Полиция Стокгольма находит в городе изуродованные трупы мальчиков. Поскольку жертвы — нелегальные иммигранты, чья судьба почти никого не волнует, полицейское начальство не поощряет стараний следственной группы. Но комиссар Жанетт Чильберг упорно ищет убийцу-садиста.Гамла Эншеде1
Странно было не то, что мальчик мертв, а скорее то, что он прожил так долго. Судя по количеству ран и их характеру, он должен был бы умереть гораздо раньше предварительно установленного времени смерти. Однако что-то поддерживало в нем жизнь, когда нормальному человеку уже давно пришел бы конец.
Выезжая задним ходом из гаража, комиссар уголовной полиции Жанетт Чильберг еще ничего об этом не знала. И уж тем более не подозревала, что данное дело станет первым в череде событий, которые кардинально изменят ее жизнь.
В окне кухни она заметила Оке и помахала ему, но он был поглощен разговором по телефону и не увидел ее. Первую половину дня ему предстояло посвятить стирке недельной порции пропотевших футболок, перепачканных песком носков и грязного нижнего белья. При наличии жены и сына, питавших жгучий интерес к футболу, приходилось минимум пять раз в неделю до предела напрягать их старую стиральную машину — неотъемлемая часть семейных будней.
Жанетт знала, что в ожидании, пока машина достирает, он поднимется в оборудованное на чердаке маленькое ателье и продолжит работу над одной из незаконченных картин маслом, которыми постоянно занимается. Он был романтиком, мечтателем, неспособным поставить в начатом «последнюю точку», хотя Жанетт неоднократно уговаривала его связаться с кем-нибудь из галеристов, вообще-то проявлявших интерес к его работам. Но он вечно отмахивался, утверждая, что еще не полностью закончил. Пока не полностью, но скоро.
И тогда все изменится.
Он добьется успеха, деньги потекут рекой, и они наконец смогут осуществить все, о чем мечтали. От выкупа дома до любого путешествия.
Почти двадцать лет спустя она начала сомневаться в том, что это когда-нибудь произойдет.
Выехав на Нюнесвэген, Жанетт услышала настораживающее постукивание возле левого переднего колеса. Даже будучи полным профаном в технике, она смогла понять, что со старенькой «ауди» что-то не так и что придется снова сдавать ее на станцию обслуживания. Наученная горьким опытом, Жанетт знала, что бесплатно машину ей не починят, хоть серб возле площади Булиденплан и делает все хорошо и недорого.
Накануне она сняла со счета остаток денег, чтобы заплатить последний из целой череды амортизационных взносов за дом, квитанции на которые с садистической пунктуальностью приходили раз в квартал, и надеялась, что на этот раз сможет починить машину в кредит. Прежде ей такое удавалось.
От мощного вибрирования в кармане куртки, сопровождаемого Девятой симфонией Бетховена, Жанетт чуть не съехала с дороги и едва не выскочила на тротуар.— Да, Чильберг слушает.
— Привет, Жан, у нас тут имеется кое-какое дельце на площади Турильдсплан.
Голос принадлежал ее коллеге Йенсу Хуртигу.
— Надо немедленно ехать туда. Ты где? — донеслось из телефона с такой громкостью, что ей пришлось отодвинуть трубку от уха сантиметров на десять, чтобы не лишиться слуха.
Она ненавидела, когда ее называли Жан, и чувствовала нарастающее раздражение. Это ласкательное имя возникло в шутку на корпоративе три года назад, но со временем распространилось по всему полицейскому управлению.
— Я возле Ошты, как раз сворачиваю на Эссингледен.
Что там произошло?— В кустах возле метро, неподалеку от Педагогического института, обнаружили мертвого парня, и Биллинг хочет, чтобы ты ехала туда как можно быстрее. Он, похоже, чертовски взволнован. Судя по всему, речь идет об убийстве.
Жанетт Чильберг слышала, что постукивание усиливается, и опасалась, как бы не пришлось съезжать на обочину и вызывать буксировщика, а потом просить кого-нибудь ее подвезти.— Если только эта чертова тачка не развалится, я буду на месте через пять—десять минут и хочу, чтобы ты тоже приехал.
Машина накренилась, и Жанетт на всякий случай перестроилась в правый ряд.
— Само собой. Я уже выезжаю и, вероятно, опережу тебя.
Хуртиг повесил трубку, и Жанетт засунула телефон в карман куртки.
Брошенный в кустах мертвый парень — для Жанетт это звучало скорее как избиение, повлекшее за собой смерть, и, следовательно, его надо квалифицировать как непредумышленное убийство.
Бытовое убийство, размышляла она, чувствуя, как у нее дернулся руль, — это когда женщину убивает дома ревнивый муж после того, как та сообщила, что хочет с ним развестись.
По крайней мере, чаще всего.
Однако времена меняются, и то, чему ее когда-то учили в Полицейской академии, стало теперь не только неактуальным, но и ошибочным. Рабочие методы подверглись реформированию, и работа полицейских сегодня во многих отношениях сложнее, чем была двадцать лет назад.
Жанетт помнила свои первые годы службы в патруле и тесное взаимодействие с обычными людьми. Как общественность помогала им и вообще доверяла полиции. Сейчас, думала она, о квартирных кражах заявляют только потому, что этого требует страховая компания. Не потому, что люди надеются на раскрытие преступления.
Чего она ожидала, когда бросила учебу на социального работника и решила стать полицейским? Что сумеет что-то изменить? Помочь? Во всяком случае, именно это она заявила отцу в тот день, когда с гордостью продемонстрировала документ о приеме в академию. Да, так и было. Ей хотелось оказываться между попавшим в беду и виновником беды.
Хотелось быть настоящим человеком.
А служба в полиции это подразумевала.
Все детство она, затаив дыхание, слушала, как отец с дедом обсуждали полицейские дела. В любые праздники разговоры за столом все равно, так или иначе, касались жестоких грабителей банков, симпатичных воришек и хитроумных обманщиков. Анекдотов и воспоминаний о темной стороне жизни.
Так же как запах запеченного рождественского окорока создавал атмосферу надежды, тихое журчание мужских голосов на заднем плане вызывало ощущение надежности.
Она улыбнулась, вспомнив равнодушие и скепсис дедушки по отношению к новым техническим вспомогательным средствам. Металлические наручники, видите ли, для упрощения работы заменили текстильными. Однажды он сказал, что анализ ДНК — всего лишь дань моде и долго не продержится.Профессия полицейского — это умение видеть разницу, а не упрощать, думала она. Работу необходимо корректировать в соответствии с меняющимися общественными условиями.
Полицейский должен хотеть помочь, проявлять заинтересованность. Не просто сидеть за тонированными стеклами в бронированной патрульной машине и беспомощно таращиться по сторонам.
Турильдсплан
Иво Андрич специализировался именно на таких редких и экстремальных смертных случаях. Он был родом из Боснии, в течение почти четырехлетней сербской блокады работал врачом в Сараево и в результате так насмотрелся на мертвых детей, что временами сожалел о том, что стал судмедэкспертом.
В Сараево было убито почти две тысячи детей в возрасте до четырнадцати лет, в том числе две дочери Иво. Он нередко задумывался о том, как выглядела бы его жизнь, останься он в деревне под Прозором. Однако теперь рассуждать на эту тему уже не имело смысла. Сербы сожгли их дом и убили его родителей и троих братьев.
Полицейское управление Стокгольма вызвало его рано утром, и поскольку держать район вокруг станции метро оцепленным дольше необходимого не хотели, ему следовало закончить работу как можно быстрее.Наклонившись поближе, он стал рассматривать мертвого мальчика и отметил, что внешность у того не шведская — арабская, палестинская или, возможно, индусская или пакистанская.
В том, что парень подвергся жестокому избиению, сомневаться не приходилось, однако удивляло полное отсутствие характерных травм, получаемых обычно при самообороне. Все синяки и кровоизлияния наводили на мысль о боксере. О боксере, который, будучи не в состоянии защищаться, все же провел двенадцать раундов, и его исколотили так, что под конец он потерял сознание.
Обследование места преступления много не дало, поскольку смерть наступила относительно давно и не здесь. Тело довольно хорошо просматривалось в кустах, всего в нескольких метрах от спуска в метро на площади Турильдсплан и поэтому не могло долго оставаться незамеченным.
1 Гамла Эншеде — пригородный район к югу от Стокгольма.
Элиф Шафак. Честь
- Элиф Шафак. Честь. — СПб.: Азбука, 2014.
В начале октября в «Азбуке» впервые на русском языке выходит книга турецкой писательницы Элиф Шафак «Честь». История трех поколений одной семьи, находящейся в тисках многовековых традиций и понятий о долге и воздаянии за проступки, вызвала множество дискуссий на родине автора. Элиф Шафак описывает мир, в котором честь ценится гораздо выше, чем человеческая жизнь. Закон чести вынуждает шестнадцатилетнего подростка вести себя «как мужчина», что в результате приводит его к абсурдному убийству, а нескольких женщин — к смерти.
Сейчас, сидя в больничном коридоре, Пимби по-детски откровенно разглядывала ожидавших своей очереди мужчин и женщин. Кто-то курил, кто-то жевал принесенные из дома лепешки, некоторые потирали больные места и стонали от боли. Воздух насквозь пропах потом, дезинфекцией и микстурой от кашля.
Чем больше Пимби наблюдала за больными, тем сильнее она восхищалась доктором, с которым предстояло встретиться. Человек, способный излечить от всех этих тяжких недугов, наверняка не похож на других людей, решила она. Может быть, он пророк. Или маг. Не имеющий возраста волшебник, пальцы которого способны творить чудеса. Пимби изнемогала от любопытства и, когда их очередь наконец подошла, вслед за отцом с готовностью юркнула в дверь кабинета.
Внутри все оказалось белым. Но не таким белым, как мыльная пена на поверхности воды, когда они стирали одежду. Не таким белым, как снег, который покрывает землю зимними ночами. Не таким белым, как сыворотка, которую смешивают с черемшой, чтобы приготовить сыр. То был суровый, неестественный белый цвет, которого Пимби никогда раньше не видела. Такой холодный, что она задрожала. Стулья, стены, плитка на полу, смотровой стол и даже склянки и скальпели — все сверкало мертвенной белизной. Пимби прежде и в голову не приходило, что белый цвет может быть таким гнетущим, таким тягостным, таким пугающим.
Еще сильнее ее удивило, что доктор оказался женщиной, но женщиной, совершенно не похожей на ее мать, на ее теток и соседок. Точно так же, как кабинет поражал отсутствием цвета, доктор поражала отсутствием каких-либо привычных Пимби женских черт. Под белым халатом докторши она заметила серую юбку до колен, а на ногах тонкие мягкие шерстяные чулки и кожаные туфли. Квадратные очки делали женщину похожей на сердитую сову. Пимби никогда не видела сов, тем более сердитых, но была уверена, что они должны выглядеть именно так. Докторша разительно отличалась от женщин, которые работают в полях от рассвета до заката, покрываются морщинами, потому что им часто приходится щуриться на солнце, и рожают детей до тех пор, пока не произведут на свет достаточное число сыновей. Женщина, сидевшая перед Пимби, привыкла, чтобы все люди, включая мужчин, ловили каждое ее слово. Даже Берзо в ее присутствии поспешил снять шапку и смущенно опустил голову.
Доктор едва удостоила отца и дочь недовольным взглядом. Казалось, их присутствие в кабинете утомляет и раздражает ее. Ясно было, что в конце трудного дня ей вовсе не хочется возиться с такими жалкими людьми, как эти двое. Она не снизошла до разговора с ними, предоставив сестре задавать необходимые вопросы: «Какой породы собака? Не текла ли пена у нее из пасти? Не пугалась ли она при виде воды? Укусила ли она еще кого-нибудь? Осмотрели ли ее после случившегося?» Сестра говорила очень быстро, словно слышала тиканье часов, напоминавших, что время на исходе. Про себя Пимби порадовалась, что мать не поехала с ними. Нази не смогла бы поддержать разговор в таком темпе и наверняка еще больше встревожилась бы и поняла все неправильно.
Доктор выписала рецепт, а сестра сделала девочке укол в живот, отчего та заревела во все горло. Выйдя в коридор, Пимби все еще плакала, а любопытство, с которым на нее смотрели незнакомые люди, расстроило ее еще сильнее. Отец, который, выйдя из кабинета, поднял голову, распрямил плечи и снова стал прежним Берзо, постарался утешить дочку и шепнул ей на ухо, что она молодец и, если будет вести себя как хорошая девочка, он поведет ее в кино.
Слезы моментально высохли, и глаза Пимби радостно заблестели. Слово «кино» напоминало конфету в обертке: не знаешь, что скрывается внутри, но не сомневаешься, что это нечто восхитительное.
* * * В городе было два зрительных зала. Один использовался в основном для выступлений заезжих политиков и редко предоставлял свою сцену для местных актеров и музыкантов. Перед выборами и после них здесь собиралась толпа мужчин, и ораторы произносили зажигательные речи, наполненные обещаниями и обличениями, которые носились в воздухе подобно сердитым пчелам.
Второй зал был значительно скромнее размерами, но пользовался не меньшей популярностью. Его владелец предпочитал кино политическим дебатам и выкладывал контрабандистам немалые деньги за новые фильмы, которые ему доставляли вместе с чаем, табаком и прочими товарами. Благодаря этому жители Урфы имели возможность посмотреть картины самых разных жанров — чуть ли не все вестерны Джона Уэйна, «Человека из Аламо», «Юлия Цезаря», а также «Золотую лихорадку» и прочие комедии, главным героем которых был маленький человечек с черными усиками.
В тот день показывали какой-то черно-белый турецкий фильм, который Пимби от первого до последнего кадра смотрела с открытым ртом. Главная героиня, очень красивая, но бедная девушка, влюбилась в богатого юношу, избалованного и эгоистичного. Но он изменился под действием волшебной силы любви. Все вокруг, начиная с родителей юноши, пытались помешать влюбленным и разлучить их, но они продолжали тайно встречаться под ивой на берегу реки. Во время свиданий они держались за руки и пели песни, исполненные печали.
Пимби понравилось в кино абсолютно все — нарядное фойе, тяжелый занавес, глухая, предвещающая чудо темнота в зале перед началом сеанса. Ей не терпелось рассказать Джамиле об этом новом чуде. В автобусе по пути домой она снова и снова пела песню из фильма:
Твое имя начертано в книге моей
судьбы, Твоя любовь течет в моих венах.
Если ты улыбнешься другому,
Я убью себя или умру от печали.Распевая, Пимби покачивала бедрами и взмахивала руками. Все пассажиры хлопали в ладоши и издавали одобрительные возгласы. Когда она наконец замолчала — скорее от усталости, чем от неожиданного стеснения, — Берзо расхохотался и смеялся так долго, что на глазах выступили слезы.
— Я и не знал, что у меня такая талантливая дочка, — сказал он, и в голосе его послышались нотки гордости.
Пимби уткнулась лицом в грудь отца, вдыхая запах лавандового масла, которым он смазывал усы. Тогда она даже не подозревала, что это одно из самых счастливых мгновений в ее жизни.
* * * Вернувшись домой, они застали Джамилю в ужасном состоянии: глаза распухли, лицо покрыто красными пятнами. Весь день она простояла у окна, покусывая нижнюю губу и теребя в руках прядь волос. Потом, внезапно и без всякой причины, залилась слезами. Несмотря на все попытки матери и сестер успокоить ее, она продолжала рыдать.
— А когда Джамиля начала плакать? — спросила Пимби.
— Да где-то в полдень, — пожала плечами Нази. — Почему ты спрашиваешь?
Пимби не ответила. Она узнала то, что хотела узнать. Когда ей сделали укол и она заплакала, ее сестра-двойняшка, отделенная от нее расстоянием в десятки миль, заплакала тоже. Люди говорят, что у близнецов одна душа. Но, похоже, общего у них даже больше. Между их телами тоже существует связь. Судьба и Достаточно. Если одна из них закрывает глаза, другая перестает видеть. Если одна из них вдруг поранится, у другой течет кровь. Если одной из них снится кошмар, сердце другой бешено колотится.
В тот же вечер Пимби продемонстрировала Джамиле танец, который видела в кино. По очереди изображая героиню, они целовались и обнимались, как влюбленная парочка в фильме, и при этом беспрестанно хихикали.
— Что это вы расшумелись?
Голос Нази звучал недовольно и резко. Она перебирала рис, рассыпанный на большом плоском блюде.
Глаза Пимби расширились от обиды.
— Мы просто танцуем.
— С чего это вы решили заняться танцами? —
буркнула Нази. — Вы что, намерены стать шлюхами?Пимби не знала, кто такие шлюхи, но не осмелилась спросить. Горячая волна обиды захлестнула ее с головой. Почему песня, которая так понравилась пассажирам автобуса, вызвала у матери лишь раздражение? Почему чужие люди оказались более доброжелательными, чем самый близкий человек на свете? Пока она размышляла над этими вопросами, Джамиля сделала шаг вперед, виновато потупилась и пробормотала:
— Прости, мама. Мы больше не будем.
Пимби, ощущая, что ее предали, метнула на сестру возмущенный взгляд.
— Если я вас и останавливаю, то для вашего же блага, — проворчала Нази. — Тот, кто сегодня слишком много смеется, завтра будет плакать. За все приходится платить — помните об этом.
— Не понимаю, почему мы не можем смеяться сегодня, завтра и всегда, — заявила Пимби.
Теперь настал черед Джамили хмуриться. Дерзость, проявленная сестрой, не только изумила ее, но и подставила под удар. Джамиля затаила дыхание, ожидая дальнейшего развития событий. Сейчас мать возьмет в руки скалку. Когда одна из девочек совершала какую-то провинность, Нази лупила скалкой обеих. По лицу она никогда не била, памятуя о том, что красота заменяет девушке приданое, но спинам и задницам доставалось изрядно. Девочек всегда удивляло, как одна и та же скалка способна причинять такую боль и помогать в приготовлении аппетитных пирожков, которые они обожали.
Но в тот вечер Нази изменила своему обыкновению и не стала наказывать дочерей. Вместо этого она сморщила нос, покачала головой и уставилась в пространство, словно хотела оказаться где-нибудь далеко отсюда. Когда она заговорила вновь, голос звучал спокойно и ровно:
— Скромность — это щит, которым женщина может оградить себя. Зарубите на своих носах: если вы утратите скромность, цена вам будет меньше истертого куруса1. Этот мир жесток и безжалостен.
Мысленно Пимби подкинула монету в воздух и поймала в ладонь. У монеты всего две стороны. Ты можешь победить или потерпеть поражение — другого выбора нет. Можешь стяжать почет или позор и, если окажешься в проигрыше, не рассчитывать на сочувствие и сострадание.
Дело в том, продолжала Нази, что женщин Создатель скроил из тончайшего белого батиста, а мужчин из плотной темной шерсти. Одним предназначено господствовать над другими — такова воля Аллаха. А главная обязанность всякого человека — безропотно покоряться Его воле. Дело в том, что на черном пятна не видны, а на белом даже самое маленькое, слабое пятнышко бросается в глаза. Именно поэтому, стоит женщине лишь немного согрешить, это моментально становится всеобщим достоянием. От такой женщины все отворачиваются, ее выбрасывают из жизни, словно шелуху от зерна. Если девушка утратит девственность до брака, пусть даже подарив ее любимому человеку, она лишится будущего. Что касается мужчины, на него не упадет даже тень порицания.
Таков был мир, в котором родились Розовая Судьба и Достаточно Красивая. В этом мире слово «честь» было не просто словом, но и именем. Но это имя давали только мальчикам. Только мужчины имели честь, будь они стариками, мужами в расцвете лет или же юнцами, на губах которых еще не обсохло материнское молоко. У женщин чести не было. Честь им заменял стыд. Но носить такое имя, как Стыд, никому не пожелаешь.
Пимби слушала мать и представляла ослепительно-белый кабинет доктора. Неприятное чувство, которое она испытала там, овладело ею с новой силой. Есть столько всяких цветов, помимо черного и белого, думала она: фисташково-зеленый, орехово-коричневый, голубой, как цветы барвинка. А помимо батиста и шерсти, есть бархат, шелк, парча и еще много-много красивых тканей. Почему же она должна пренебречь всем этим богатством и жить в двухцветном мире, скучном и плоском, как блюдо, на котором рассыпан рис.
По иронии судьбы, так часто проявлявшейся в жизни Пимби, наставления, раздражавшие ее в устах матери, она много лет спустя слово в слово повторяла своей собственной дочери Эсме в Англии.
1 Мелкая турецкая монета.
Владимир Маканин. Долгожители
- Владимир Маканин. Долгожители. — М.: Эксмо, 2014. — 384 с.
В «Эксмо» в новой авторской редакции вышел сборник рассказов «Долгожители» лауреата многих литературных премий писателя Владимира Маканина. Герои его сюжетов – как правило, люди за тридцать, за плечами которых уже есть опыт любви и измен. Они знают, что лучший друг может предать, а враг – помочь. И все же в жизни персонажей есть место чуду и подвигу, верности и прощению.
ДОЛГОЖИТЕЛИ
По типологии (если в первом приближении) он был просто честный человек и энтузиаст. Однако жизнь нас пришпиливает на конкретные булавки. Жизнь груба… Жизнь заставит определиться пожестче. А потому в своем исследовательском институте стареющий Виктор Сушков являл собой знакомый всем тип шестидесятых и семидесятых — он был, как вокруг пошучивали, БОРЕЦ ЗА ПРАВА, БЕГАЮЩИЙ ПО КОРИДОРАМ. Когда-то он был напористым комсомольцем… Когда-то активным профсоюзным деятелем… Теперь он был симпатичный шустрый старичок.
Едва заслышав про какую-то несправедливость начальствующих, про их подлянку или обычный зажим рядового сотрудника, Виктор Сергеевич тотчас начинал собирать подписи. Это в нем осталось. Старый гвардеец… Суетлив, конечно. Однако в нескольких случаях он все-таки не дал выгнать человека с работы, а кому-то сумел — помог с жильем. А то и защитил женщину, не позволив ее травить… Само собой, хороший семьянин. Инженер Сушков, чуть что собирающий подписи!.. С этажа на этаж — торопится, бежит по коридору Института, и глаза так серьезны. Таким бы ему и запомниться! Но, увы, еще постарел… В маленьких честных его глазках проступило невостребованное. И жалкое. И уже не напирал, а просил. В руках, как водится, бумага. С письмом… С заявлением… С протестом… И наготове дешевенькая шариковая авторучка — отзовет в сторону, просит: подпиши.
Но люди в коридорах — они ведь такие! В большинстве своем хуже Виктора, они не сомневались, что они лучше. (Мы ведь такие.) Когда Виктор Сергеевич Сушков в 65-м ушел-таки на пенсию, эти самые люди, сослуживцы, кислили физиономию ему вслед. И меж собой характеризовали его, романтика по-советски, до обидности кратко:
— Зануда… Житья не давал.
А был еще Виктор Одинцов — давний по жизни (по юности) приятель Виктора Сушкова. Как тип — прямо ему противоположный, сам в себе. И совсем не говорун.
Молчалив… Этакий рослый малообщительный мужчина… Скрытный (и удачливый) любитель молоденьких женщин.
Этот мрачноватый Одинцов был холостяк (оправдывал фамилию). И был он, вплоть до выхода на пенсию, фотограф. Но не классный. Просто работа. Заведовал фотоателье, что по тем нашим временам кое-что значило. Маэстро… Человек, более или менее известный, если кружить возле метро «Таганская».
Штат его ателье был невелик — один качок-охранник и три-четыре девицы, не больше. Эти тонкие женские ручонки помогали Одинцову в его фототрудах и оформляли, как заведено, всякие платежи. Бумаги. Квитанции… Девицы были собой очень даже недурны. Что было видно уже сразу с улицы — через большое стекло его маленького ателье.
Поскольку начальник самолично решал, кого оставить на нехитрой работе, а кого нет, девицы от Виктора вполне зависели, и он этим вполне пользовался. Раз в два года наш мрачноватый одинокий Одинцов менял контингент и вновь им пользовался. Умел!.. Любопытно, что Виктор проделывал все это буднично, как бы нехотя. Лицом насупившись… И молчком. Такой вот мужчина. Жил с одной, жил с другой. (Начинал он почему-то с самой скромной, с дурнушки.) А то и с двумя сразу жил, разнообразя себе неделю. Но, кажется, тоже без страсти. Тоже спокойно. Только чтобы не мучили желания. (Не каждый же день большая любовь!..)
Однажды в середине дня заглянув к ним в фотоателье и не найдя Одинцова, я спросил у трудового народа, где Виктор Олегович. Не вышел ли куда пообедать старый седой барсук — и не сказал ли чего?
— Сказал?.. Разве он умеет говорить? — вмазала мне одна из девиц, и вокруг дружно захихикали.
— Едем порыбачить? На парудней, а? — спрашивал мрачноватого Виктора Одинцова говорливый Виктор Сушков. Звонил ему… И они сговаривались. (Обычно после получения пенсии.)
— Едем.
Порыбачить — значило посидеть с удочками, слегка попьянствовать. Повспоминать молодость… Поностальгировать. А что еще делать двум (наконец-то!) пенсионерам. Они это здорово придумали! Они посылали весь мир на хер. Запасясь продуктами, они съезжались и ловили рыбку. Забравшись в глухое Подмосковье… Ночуя в развалюхе-избе.
Приезжал иногда к ним и я.
Но в их разговорах было кое-что еще. Кое-что удивительное!.. Оба Виктора ощущали себя долгожителями. Они это обнаружили вдруг. У них обоих, как выяснилось, бабки и деды жили по сто лет… Разве это не обязывает? (Жить!) Разве это не вдохновляет?.. Так что даже теперь, на пенсии, жизнь обоих Викторов отнюдь не кончалась — вся их долгая жизнь была еще впереди.
Когда они, оба в азарте, заводили речь о своем сокровенном, казалось, оба слегка спятили! Сколько жара, огня!.. Долгожительство стало их идеей, их пунктиком. Их восклицательным знаком!.. Открывшимся (наконец) смыслом их бытия.
Кстати сказать, Виктор Сушков и я тоже могли бы поговорить о прочем-разном. Виктор Сушков мой земляк. Из Оренбуржья, и даже район один. Тоже ведь можно было повспоминать. Подергивая удилищами. Попивая водочку… Припомнить словечки. Оживить давний лесок, холмы — географию детства.
Однако же нет! В основном разговоры вели они — два Виктора. Их было не перебить. Мрачноватый Одинцов тоже к этим годам разговорился! (Выйдя на пенсию!) Именно долгожительство (притом соревновательное, кто дольше!) стало любимым их сюжетом. Будущие долгие-долгие дни — вот что их привлекало. Вот что подталкивало заскучавшую было у реки мысль… Будущее манило. Будущее (почти бесконечное) их ждало — и они смело шагали ему навстречу. В конце концов, пенсии им хватает. Много ли им надо!..
Это будущее завлекало, как завлекает, скажем, игра на деньги. Или как под парусом. Они поймали ветер!.. Я с трудом их понимал. Но что-то я тоже чувствовал. Задевало… Некая абстрактная светлая даль. Невозможно было не почувствовать их живой восторг, их упоение нечаянно найденным кладом.
А шутливые «дарственные» друг другу! А завещания! Это уж точно был род азартной забавы. Интеллектуальная игра ничем не занятых стариков. Происходило это изысканное действо картинно: оба Виктора, безмерно гордые, обменивались «бумагами». Самосочиненными текстами. Галантно… Из рук в руки… При свидетеле (в моем, скажем, присутствии) — тексты зачитывались. Когда знаешь, что проживешь сто лет, завещать — это большая радость. У костра — вслух! С удовольствием. Со вкусом… С повторением выигрышных словечек. Юридические скользкие термины. Крючковатые фразы. Весь этот бред нотариальных контор.
Зачитывалось, перечитывалось, пересмеивалось и… сжигалось. Вот оно, наше наследство. Гори!.. Благо костер в шаге. Что-то здесь было от киношного сжигания денег. Сначала, как бы дразня
«наследника», колебались: еще только держали уголком бумаги у самого края огня. Языки пламени тянулись, лизали. И наконец огонь получал… Хватал… В какую-то секунду огонь поглощал этот опус, так мгновенно исчезавший, но так смело заигрывавший с вечностью.
— А вот тебе еще. Послушай!
— Ну-ка…
— Дарю… Отрываю, можно сказать, от сердца, — начинал один из Викторов зачитывать другому свое новое дарение.
Жизнь человека и жизнь вещи… Невозможность (или все-таки возможность) противостоять Времени. Каким-то косвенным образом то и это в их игровой забаве увязывалось. Сказать, что «совки» запоздало ощутили (наконец-то) вкус собственности, мне не хочется. (Мелковато.) Скорее уж напротив. Их, долгожителей, забавляло бессилие вещей. Обреченность вещей… Их это поддразнивало. Их щекотало… И чего-чего только не отдавалось! Так гр. Виктор Одинцов завещал после своей нескорой смерти гр. Виктору Сушкову свой старенький «жигуль» (который, как оба прекрасно знали, не протянет и двух-трех очередных лет). В другой «бумаге» он оставлял тезке-долгожителю чайный сервиз, недорогой, но хрупкий — терявший, как все мы знали, чашку за чашкой в наших частых чаепитиях у реки. И в подпитиях тоже… Мы всё пили из чашек.
Зато Виктор Сушков, как все былые романтики, не умел сосредоточиться на ценном и завещал гр. Виктору Одинцову чаще всего Разное… Стертый коврик, что будет позаимствован из коридора их исследовательского института… Книгу жалоб, выброшенную из местного магазинчика. (Ее выбросили попросту: прямо в окно. В траву.) Суровую переписку некоего гр. Боброва с жэком!.. В азартной необходимости дарить и дарить они завещали любой попавший под руку (и под ногу) предмет и всяческий хлам. Пустую бутылку из-под марочного коньяка! Ботинок бомжа! Кепку азербайджанца!.. Завещали они друг другу, но и нам вдруг тоже перепадало (за компанию). Маньяки!.. Они пьянели от немыслимо долгих лет своих дедов. Они захлебывались от избытка здоровья и своей возможности жить бесконечно.
Иной раз вдруг чувствовался натуг их веселья. Чуть-чуть пережим. Это правда… Но ведь забавно! И потом — вокруг дикая природа. Глухое место. И кому здесь не захочется жить вечно… Забытая людьми речка. У догорающего костра!.. И ведь так нечаст смех в рядах потертого и потерянного нашего старичья. Среди сотен и сотен ноющих. Среди тысяч жалующихся на болячки!
Соревнуясь в абсурдной щедрости (и не сомневаясь, что он переживет всех), Виктор Сушков, сидя у костра, передал мне однажды (знай наших!) бумаженцию, где в здравом уме и твердой памяти завещал после смерти не что-нибудь, а свою квартиру. Он, кажется, уже и не знал, что дать. Он отдал бы все. Щедрость распирала!.. Он только хихикал… И ведь сам не бросил в костер, не дал огню… как расхрабрился!.. Конечно, ноль. Конечно, без нотариуса. А все же бумага! А я его еще поддразнил — подержал бумагу у пламени. Но не сжег. И, вчетверо сложив, сунул в карман.
Однако же шутливо разбрасывающийся своим добром Виктор Сергеевич Сушков ничуть не рисковал. Знал, что переживет меня, — это было ясно. Притом надолго!.. Один его дед прожил ровно сто, другой даже перескочил, перебрался, перемахнул через этот странный психологический бугор — 101!.. А про древних суматошных бабок Виктора и говорить нечего. Большие были любительницы покушать! Оладышки! Огурчики! Окрошка!.. Когда ударяешь на «о», живешь долго. Похоронив своих мужей, бабки, конечно, тоже когда-то померли.
Рональд Фрэйм. Хэвишем
- Рональд Фрэйм. Хэвишем / Пер. с англ. Марины Извековой. – М.: Фантом Пресс, 2014.
В начале октябре в издательстве «Фантом Пресс» выходит книга Рональда Фрейма «Хэвишем» — изобретательное дополнение к роману Чарлза Диккенса «Большие надежды». Мисс Хэвишем — один из самых известных персонажей, созданных английским классиком. Безумная старуха-затворница пугает всех в округе, расхаживая в истлевшем подвенечном платье с осыпавшемся букетиком на груди. Но что привело ее к этому? Книга Рональда Фрейма, напоминая викторианский женский роман, содержит тонкую, порой едва уловимую литературную игру.
Красотой я не блистала. Губы тонкие, нос едва ли не орлиный. Глаза глубоко посаженные, с тяжелыми веками. Я находила в себе суровые бабушкины черты.
По словам одного из моих наставников (впоследствии уволенного), я нисколько не походила на дочь сельского пивовара.— Ничего удивительного, — сказал мне отец. — У твоей матери были тонкие черты лица. И выросла ты на всем лучшем.
Мои густые льняные волосы от природы вились, и, хотя с годами они слегка потемнели, я сохранила броскую, чуть легкомысленную внешность блондинки. Кожа у меня была чистая, цвет лица здоровый. Говорили, что я «хорошо сложена».
Мою наружность обсуждали горничные, учителя (до меня доносились обрывки их разговоров), портнихи, женоподобный старик-сапожник, что шил мне обувь.
У меня есть то, нет этого. Одного во мне чересчур много, другого маловато.
Речь шла обо мне, но как будто и не обо мне.
Я принадлежала себе, но и другие заявляли на меня права.
Но то, что происходило у меня внутри, было никому не ведомо; все говорили обо мне, а на деле вовсе меня не знали. Это и значило быть собой — подлинной, настоящей Кэтрин Хэвишем.*** Однажды, сидя за латинскими герундиями, я вдруг услышала с улицы грохот. Следом раздался дикий, леденящий душу вопль, а за ним — множество голосов, мужских и женских, шум, крики.
Я кинулась к черному ходу. Возле одной из лебедок толпился народ. Я подняла взгляд — наверху болтался трос. Видимо, оборвался и груз упал на землю.
Я ощутила запах пива, увидела обломки бочки. На мокрых булыжниках корчился человек и ревел от боли. Я хотела пробиться сквозь толпу, но чья-то рука легла на мое плечо и грубо оттащила меня.
— Не смотри, Кэтрин!
Отец оттолкнул меня прочь и бросился вперед.
Бочка, сказали потом горничные, упала прямо на стоявшего под ней рабочего.
В ту ночь я лежала без сна.
И несколько последующих спала беспокойно, то и дело просыпаясь.
При свете дня взгляд мой словно магнитом притягивало к лебедке. Трос заменили, мешки и бочки сновали вверх и вниз, будто и не произошло никакого несчастья.
Я узнала, что у рабочего в левой ноге разорвались сухожилия и он на всю жизнь остался хромым. Меня преследовал жуткий вопль, крики толпы. Я слышала их снова и снова, не могла забыть.
Отец оставил рабочего на пивоварне и всегда говорил с ним чуть понурясь, будто чувствуя вину.
На деле беднягу покалечило сильнее, чем говорили. Правую руку раздробило, и она начала сохнуть. Поврежденную ногу он приволакивал. Теперь он служил подручным у конюхов, а заодно сторожем.
Зимой дочь приносила ему горячую еду в котелке, обернутом полотенцем. Путь она проделывала нелегкий, пробиралась грязными темными проулками, и я, сидя вечером в тепле и глядя на девочку в окно, чувствовала, как бесконечно далека от нее.
Она была примерно одних лет со мной, чуть повыше меня ростом, хорошенькая, с густыми медно-рыжими косами. Мне удавалось лучше разглядеть ее по утрам, когда вахта ее отца близилась к концу и она навещала его по дороге в школу для девочек, где вместо платы за учение помогала по хозяйству. Мать Салли мечтала о лучшей доле для дочери, и злые языки называли ее выскочкой, но сплетни лишь укрепили ее решимость дать Салли больше возможностей, чем имели девушки ее круга. Кроме всего прочего, дома Салли научили опрятности, умению себя показать.
Я восхищалась ею издали. Ее спокойным достоинством, равнодушием к сплетням. Даже медно-рыжими кудрями. У нее была странная привычка опускать глаза, будто в глубокой печали, и вдруг, неожиданно, поднимать взгляд; в глазах светился ум и, даже в ее положении, юмор — казалось, у нее всегда наготове шутка.
Отца она встречала приветливой улыбкой, будто понимала, что должна излучать надежду. Она никогда не брала отца под здоровую руку, чтобы тот мог держать равновесие. Ее чуткость, не свойственная ребенку, удивляла и трогала меня.
*** Мне никогда не разрешали играть с детьми рабочих пивоварни, да я и не стремилась.
Для Салли сделали исключение.Отец колебался, но на его душе лежал груз вины перед искалеченным рабочим, и он не стал возражать, хотя позже я узнала, что он установил за нами настоящую слежку.
Поскольку Салли не пускали в дом дальше чулана для стирки, я приносила туда все свои сокровища.
Я устроила там кукольный театр, мы водили деревянных кукол на тростях и разговаривали, подражая взрослым. Салли играла слуг и простолюдинов, передразнивая здешний выговор, мне же доставались роли знатных горожан и священников.Разговоры с детьми, приходившими в Сатис-Хаус, мне давались тягостно. Иное дело Салли. Я понимала это по своему голосу: в беседах с Салли он вовсе не звучал напряженно или безжизненно, не проступало в нем и неприятной писклявости.
Держалась Салли свободнее, чем я ожидала, но никогда не переступала приличий. Удивительно, как часто совпадали наши мнения, как, несмотря на столь разное происхождение, мы одинаково и скептически оценивали некоторых людей и здешние нравы — и как, к примеру, мы отгадывали мысли друг дружки, заканчивали друг за другом предложения.
Я учила Салли кое-чему из того, что знала сама.
Умению вести себя за столом. Хорошим манерам. Правильному произношению.
Основам французской грамматики, а затем — латинским склонениям, ведь в школе для девочек этому не учили. Историческим датам начиная со Средневековья. Стихам, отрывкам из прозы.Салли была способной ученицей, ничего не забывала. Она наверняка превзошла бы меня, будь мы изначально в равных условиях, но, на мое счастье, это было не так, и у меня даже не возникло повода задуматься над этой причудой судьбы.
Однажды я повела Салли в кладовку, где хранили конскую упряжь, полюбоваться новым отцовским седлом. О моем проступке доложили отцу, и он, разозлившись, велел не пускать «компанию» — так он отныне стал называть Салли — дальше двери в судомойню.
Салли схватывала все на лету. Цепкая память, как я знаю теперь, — спутница ума, хотя для счастья, как я теперь тоже знаю, куда важнее крепкое здоровье и короткая память.
Салли не искала легких путей, такой уж уродилась. Не успев пройти урока, заглядывала в следующий; спрашивала, сколько мне понадобилось времени, чтобы выучить стихотворение, и учила его вдвое быстрее; допытывалась, откуда известно то или иное — что король Гарольд потерял глаз, что в радуге семь цветов, что у Луны есть темная сторона, что чисел бессчетное количество.
— Салли, так написано в учебниках, вот и все.
— Разве тебе самой не интересно, правда ли это?
— Раз написано — значит, правда, — кипятилась я.
Салли смотрела на меня с жалостью: неужели я и вправду так наивна?
*** Мы шагали по Хаунд-стрит, и я держала Салли под руку. Позади нас мерно стучали по мостовой копыта. Я оглянулась. Это скакал на лошади отец; он смотрел в сторону, будто не узнал нас.
Так и пронесся мимо. Я крепче уцепилась за руку Салли.
Несколько дней мне казалось, будто отец приглядывается ко мне, но украдкой, во время наших разговоров. Стоило на него посмотреть, он устремлял взгляд в окно или в глубь комнаты. Свечи он ставил поближе ко мне, чтобы лучше видеть мое лицо. Что он задумал?
Мы виделись теперь реже. Не по моему желанию, а потому что мать Салли подыскала ей место в доме двух престарелых сестер на Болли-хилл; каморка для прислуги располагалась там в самом низу, под лестницей, зато сама лестница была роскошная. Старухи без конца грызлись, норовили отвоевать друг у друга все, в том числе расположение прислуги. Теперь между сестрами завязалась борьба за Салли.
*** — Я сперва думала, ты гордячка, — призналась мне Салли. — Все тебя называли гордячкой.
— С тобой-то я не задираю нос?
— Нет.
— И это тебя удивляет?
— Да, чуть-чуть.
— Я вела себя так, как от меня ожидали. Отчасти была гордячкой, а отчасти стала такой.
— Чтобы их не разочаровать?
— Наверное.
И еще один разговор, чуть позже.
— Салли, рядом с тобой я меняюсь к лучшему.
Я взяла ее за руку. Она как будто опешила. Я улыбнулась:
— Я хочу взять тебя за руку — неужели нельзя?
Салли улыбнулась в ответ, но улыбка вышла смущенной.
— Назови хоть одну причину, почему нельзя.
Салли промолчала, не найдя ответа.
*** Однажды зимой я оставила Салли у себя ночевать, уложила рядом с собой в теплую постель. Отец, конечно, был бы против, поэтому о нашей тайне больше никто не знал.
Но утром тайное стало явным. Мать Салли, когда дочь не вернулась домой, вместе с соседями отправилась на поиски. Во двор пивоварни она пришла на рассвете, отец , как назло, в то утро встал рано — его мучило несварение.
Отец обезумел от ярости, но не на меня, а на Салли. Я пыталась ему все объяснить, взяла вину на себя.
Отец велел миссис Венн снять с кровати простыни и — неизвестно почему — прокипятить. Я не понимала, из-за чего вся суета и зачем ради одних моих простынь нагревать большой бак. Я смотрела, как выбивают одеяла и вешают на веревку проветрить.В ту ночь мы лежали и рассказывали друг другу разные истории, будто нам по пять лет, хотя мне было уже десять, а Салли — одиннадцать. Сначала мне не спалось от радости, что она здесь, со мной. Но вскоре я, последовав примеру Салли, заснула, обняв ее. Что в том дурного?
Потом отец сказал мне, что велел Салли не возвращаться.
Так случилось ее первое изгнание из Сатис-Хауса.
Мария Рыбакова. Черновик человека
- Мария Рыбакова. Черновик человека. — М.: Эксмо, 2014. — 288 с.
В основе романа «Черновик человека» Марии Рыбаковой, известной благодаря роману в стихах «Гнедич», – реальная история российской поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной, которая начала писать взрослые стихи, когда была еще ребенком, прославилась на весь мир и, не выдержав славы, погибла. На самом деле Рыбакова рассказывает о трагическом феномене поэта в современном мире, раскрывая черты целого поколения.
Она встала, и тогда, наконец, он испугался.
«Что это?» — воскликнул он, сжавшись в комок.
«Я зажгу свет, — сказала она, — тогда ты сам увидишь».
По-моему, это был единственный момент в его жизни, когда Питер почувствовал страх. «Не зажигай свет», — закричал он.«Питер Пэн«1
Во вторник: купить пистолет.
Автобус медленно-медленно плетется. Останавливается все время. Особенно если инвалид в коляске хочет в него поместиться или старуха с ходунками. А еще слепые входят, в очках и с палкой или — с собакой на коротком поводке. Автобус проезжает «Макдоналдс», аптеку, кофейню, ресторан, супермаркет, стоянку автомашин, книжную лавку, школу, парк с тощими пальмами, салон массажа, церковь, еще церковь, еще церковь, буддийский храм, спортивный зал, поле для игры в бейсбол, магазин «Все товары — за доллар», грузовик, с которого продают бутерброды, рынок старья в бывшем кинотеатре, салон красоты, где обещают новую молодость, пивной бар, еще один пивной бар, студию йоги, салон, где набивают татуировки, бюро поручительств под залог.
…сначала были просто личинки, мельтешили в воде, питались, ни глаз, ни рук, ни мозга; потом они удлинились и рыбками стали, с чуткой кожей, ели, плавали, размножались, плавники появлялись, жабры, глаза и губы, кости всякие; потом рыбы на сушу стали выползать, плавники в лапы превратились, к жабрам легкие прибавились, стали ящерицами, огромными как дома, ползали по земле, и никто им не мешал. Некоторые, помельче, оперились, передними лапами махали-махали, приобрели крылья и полетели. А другие по песку струились и стали змеями. Третьи жe мехом обросли, и отрастили длинные лапы, и стали кормить детенышей молоком.
Пассажир на переднем сиденье громко беседует сам с собой. Черт знает кто в автобус набивается, говорит он. Не уважают общественный транспорт. В какие инстанции обращаться в случае конца света. Водитель, остановитесь на следующей.
…меховые бегали-бегали, по веткам прыгали-прыгали, передней лапой срывали фрукты, били деревья палками, вставали на задние лапы, и оттого эти лапы у них постепенно в ноги превращались, а передние лапы — в руки. И мех стал редеть.
Купить пистолет. Потом еще не забыть забрать платье из химчистки.
Света выходит напротив библиотеки, идет по узкой улице, усаженной цветущими акациями. Она глубоко вдыхает: акация пахнет конфетой. Но вскоре и деревья, и запах кончаются. Земля залита асфальтом, улицы просматриваются на сотни метров вперед. На окнах домов — решетки, за заборами груды металлолома. Здесь можно вести войну.
…обезьяны боролись за существование, и победили самые умные, то есть те, которые потом людьми стали. Самые умные и оружие себе получше придумали, и о наступлении врагов друг друга предупреждали, потому что говорить научились. Ну, может, не говорить, а рычать или свистеть, но так, чтобы понятно было, кого надо бояться и откуда враг идет.
Чтобы попасть в магазин, надо перейти широченную улицу и пройти мимо бутербродной. Запах лука и колбасы проникает за дверь магазина. На стене рекламный плакат: «Спросите о скидках на „Глоки“!» «Глок» — короткое слово, похожее на щелчок курка. «Глок» — фирма, производящая оружее. Рядом стоит картонная фигура солдата с винтовкой в одной руке и пистолетом в другой. Форма на нем защитного цвета, лицо измазано зеленым: маскировка. На полках — ботинки, рюкзаки, ремни и маски, наручники, фонари, сумки для амуниции, кобура из черной кожи, намордники.
…у людей все как у зверей. Люди чувствуют боль, как животные. У них память есть и сновидения, как у собак, которые во сне перебирают лапами, вспоминая погоню. Люди бывают злого нрава, как тигры-людоеды, а бывают добряками, как щенята. И плачут люди, как волки скулят, и радуются, как мурлыкающие коты. За манатки свои борются, как собака — за кость. За женщину бьются, как олени — за самку. Помогают друг другу, как обезьяны, которые друг у друга в шерсти блох выискивают.
Совсем маленькие пистолеты на витрине слева. Но продавец говорит, что они только для полицейских. Продавец старый, кожа на его руках потемнела и задубилась от возраста, сосуд в глазу лопнул. Он спрашивает, что Света ищет. Она говорит: пистолетик. Для чего? Ну, чтобы в тумбочке держать, если кто заберется в дом. Понятно, говорит он, для охраны дома. Да, соглашается Света, для охраны.
«Зиг Зауэр» или «Глок», что лучше? Продавец показывает, как опускать казенную часть ствола, как вставлять магазин. Да, пули для них, конечно, тоже продаются. Сначала надо убедиться, что пистолет не заряжен. Вот, возьми в руку. Хорошо лежит? Теперь целься, только не туда, где люди стоят, а в угол. Даже если знаешь, что пистолет не заряжен. Теперь нажми на спусковой крючок. Что-то слабовата ты.
…и поэтому их потомки иногда все же рождаются с шерстью по всему телу и даже с мехом на лице. То же и с хвостом: у наших предков он пропал, но и сейчас иногда бывает, что появляется человек с хвостом.
Могу показать револьверы, говорит продавец. Они тебе больше нравятся? Почему? Потому что дуло и рукоять округленные? Ну да, наверно, форма красивая. Никогда об этом не думал. Вот, нажми на кнопку, что происходит? Барабан откидывается, видишь эти аккуратные норки? Для патронов. Взводишь курок. Ставишь палец на спусковой крючок. Нажимаешь.
«Ругер» триста пятьдесят седьмого калибра, «Магнум». Очень хорош. Но слишком тяжел. «Таурус» с длинным дулом. Что, трудно? Надо больше качаться. Возьми в руку «Смит и Вессон» тридцать восьмого калибра. Помнишь, что надо делать? Откидываешь барабан, удостоверяешься, что незаряжен. Поднимаешь, целишься в угол. Взводишь курок. Что, легко? Теперь нажимаешь на спусковой крючок.
Нашла, говорит Света. Мое оружие.
Из револьверов можно стрелять сразу после осечки. Их не заклинивает. Тридцать восьмой — правильный калибр. Мой сын, полицейский, всегда оставляет «триста пятьдесят седьмой» в машине, а «тридцать восьмой» берет с собой, когда идет на задание.
Эти револьверы, они двойного действия, продолжает объяснять продавец. Можно взвести курок и выстрелить один раз, а можно сразу выпустить все шесть пуль, не взводя каждый раз, — но точность от этого может пострадать. Лучше стоять близко к цели.
Когда берешь револьвер, направляй его дуло не на себя и не на друга, а куда-нибудь в угол. Если живешь на втором этаже многоэтажного дома, помни, что дуло нельзя направлять ни в пол, ни в потолок, а только в ту сторону, где нет соседей. Не держи палец на спусковом крючке, пока не пришло время стрелять. Знай свою цель.
…только вот с хилыми и слабыми у человека вышла загвоздка. В природе слабые вымирают, а сильные выживают и размножаются, что ведет к улучшению вида. А у людей слабым облегчают существование. И поэтому они могут и жить, и размножаться.
Не клади оружие на видное место. Не клади оружие под подушку, на тумбочку возле кровати, под матрац или в шкаф для одежды. Не прячь его в шкатулку, где лежат драгоценности. Чтобы купить оружие в Калифорнии, надо предоставить документ, что живешь в Калифорнии: например, принести счет за газ и чтобы в счете был указан твой адрес. Любой совершеннолетний сотрудник любого предприятия имеет право держать заряженное оружие на месте работы.
…но все же если взглянуть, например, на людей, погруженных в депрессию, то становится понятно, что их привлекательность для противоположного пола намного меньше, чем привлекательность веселых людей. Какая девушка посмотрит на печального парня? Значит, потомства у него будет меньше. Безумных сажают в сумасшедшие дома, где вряд ли у них завяжутся любовные отношения. К тому же (за исключением отдельных случаев) душевная болезнь приводит к ослаблению или угасанию полового инстинкта. А то, что общество заключает преступников в тюрьмы или в некоторых странах казнит их, без сомнения, препятствует их дальнейшему размножению.
Только смотри, в револьвере меньше патронов, чем в «Ругере», скажем.
Это не проблема, отвечает Света, шести мне будет достаточно.
…что же касается совсем не приспособленных к жизни людей, то они кончают с собой или умирают от тоски.
* * *
Когда ей было тринадцать лет, Света сидела у телефона и ждала звонка. Она уже начинала подозрительно относиться и к мыслям своим, и к талантам, и в первое мгновение попыталась прогнать внезапно возникшее подозрение: вдруг она никогда уже больше не будет счастлива? Это чувство было навеяно, возможно, разочарованием и слишком долгим ожиданием у телефона, который все не звонил и не звонил. Она сидела в старом кресле (на обивке были фиолетовые цветы) у деревянного столика с черным телефоном. В окне маячил тополь, начисто лишенный листьев и совершенно неподвижный в белом дневном воздухе. Вдали раздавался мужской голос, он, кажется, звал кого-то: эй, там! Но никто не отвечал.
…Задом наперед, совсем наоборот, крутился в голове стишок. Из какой-то книжки. Или мультфильма? Издевательство какое-то — если вдруг окажется, что все совсем наоборот. И зачем? Все же было прекрасно до сих пор, и море, и мать, и Ба, и страна, и даже Вселенная. Прекрасно было дотрагиваться до сухой черепашьей кожи, когда соседская черепаха высовывала голову из-под панциря. Прекрасно было, когда по волосам тебя гладила рука старшего товарища, которому понравились твои стихи. Прекрасно было, разморившись на горячем песке, переползти в тень под навесом. Но что если все это было только на время. Что если когтистая лапа загребла все и все отняла у Светы, и больше не отдаст, и больше не будет ничего прекрасного. Будет молчащий телефон, белый дневной свет, неподвижное дерево, голос вдалеке, который зовет не ее.
Задом наперед, совсем наоборот. Ты, что смеялась, будешь теперь плакать. Ты много разговаривала, а теперь замолчишь. Тебя хвалили, теперь тебя будут не замечать. Пусть уж лучше ругают, смеются, чем вот так, молчаливо, одна у окна, перед телефоном. А может, так и будешь, молчаливо, одна, у окна, перед телефоном. Всю. Оставшуюся. Жизнь.
Что, плачешь?
1 Перевод с англ. — Марии Рыбаковой.
Дени Крузе. Нострадамус: Исцеление душ эпохи Ренессанса
- Дени Крузе . Нострадамус: Исцеление душ эпохи Ренессанса / Пер. с фр. А. Захаревич. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 552 с.
Исследование Дени Крузе, известного ученого, профессора университета «Париж IV–Сорбонна», посвящено одной из самых загадочных фигур XVI века. Написание исторического труда о Нострадамусе было почти неосуществимой задачей, и причиной тому — избыточность толкований катренов, включенных в «Пророчества», а также скудость материала, доступного для работы биографа. Однако Крузе удалось собрать воедино противоречивые факты.
Введение
ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ
Долгое время, в течение последних трех-четырех лет, я сожалел, что взялся за исследование, посвященное «мэтру Мишелю де Нотрдаму» или Мишелю Нострадамусу, исследование сложное, в некотором смысле граничащее с несуразностью и даже искажающее действительность: с одной стороны, дело в том, что фигура прорицателя-астролога остается столь же загадочной, сколь редки документы и источники, относящиеся к его персоне; с другой стороны, его пророчества по-прежнему непостижимы, отмечены печатью неопределенности, отличаются своеобразным «распылением» смысла. Так что в этом аспекте история, как на нее ни взгляни, существует лишь фрагментарно.
Что касается хронологии фактов, которые историк может узнать о Нострадамусе, связав отдельные сохранившиеся биографические сведения со значимыми событиями, оставившими след в истории того времени, к ним читателю предстоит обратиться в конце книги.
Он обнаружит перечисление эпизодов жизни. Но слишком мало сведений, чтобы фигура сáмого знаменитого астролога в истории стала ближе. Впрочем, дело не только в этом обстоятельстве. Для историка гораздо существеннее, что фрагментарность отличает также и творчество, а значит, воображение Мишеля Нострадамуса. Мысль оказывается в тупике перед этой фрагментарностью смысла, из которой и возникли «Пророчества». Выбирая более яркий термин, можно сказать, что смысл «растворяется». Каждый катрен, включенный в одну из десяти центурий, составляющих произведение, и правда можно сравнить с бездонным колодцем, ведь все, что способно послужить опорной точной в разрешении загадки, предложенной Нострадамусом, распадается, рассыпается, каждый прочитанный стих начинает колебаться, вибрировать, становясь невразумительным, размытым. Общий смысл теряется, размывается сам собой в противоречиях и многозначности, а то и в нелепостях или своеобразных лингвистических вольностях. Так же и завораживающий механизм, спираль, посредством которой слова оракула из Салона1 влекут за собой читателя, — в силу парадоксальности и неоднозначности вопросов и ответов, намеренной недосказанности, в ожившем процессе «подмен и бесконечного множества комбинаций», словно выступает своеобразной метафорой абсурда. Абсурда, очевидного вдвойне, — в той мере, в какой шарлатанство издавна овладело сферой предсказаний, — если предположить, что существовало развивающееся знание о созидательной силе слов и об обманных свойствах их сочетаний. Ажиотаж, связанный с улавливанием и достраиванием смысла, по-прежнему продолжается: на волне событий настоящего постоянно видоизменяются трактовки, актуальные мотивы страхов и надежд; работая с анахронизмами, историк начинает сомневаться в собственном труде, суть которого, наоборот, в попытке с относительной деликатностью проникнуть в воображение прошлого и в наиболее вероятном и хрупком виде воссоздать его возможные проявления, чтобы их удалось рассмотреть.
Добавлю заодно, что «гуру», объявившиеся из разных дыр и щелей, и торговцы в храмах прорицаний нынче повсюду востребованы, как никогда, и знай — щедро плодят иллюзии, сами в них утопая; вначале я твердо намеревался не обращать внимания на них самих, на их эсхатологические бредни или просто домыслы в связи с любым возможным стечением событий, даже когда сомнения словно взяли меня за горло. Ведь соприкасаясь с Нострадамусом и с теми искажениями, которым подвергается его образ, надо быть рационалистом и агностиком одновременно. Пусть они злятся, их злость заранее мне безразлична — они не знают истории, ее методов и герменевтических принципов; лучше, как писал гуманист, неизменно присутствующий в этой книге, «не трогать болота Камаринского, не прикасаться к этому ядовитому растению…»2. Я буду также глух к упрекам, которые могут взбудоражить приверженцев истории, одновременно выдуманной и настоящей, ведь это люди — процитируем все того же гуманиста, — «почитаемые за длинную бороду и широкий плащ, которые себя одних полагают мудрыми, всех же прочих смертных мнят блуждающими во мраке». Немного идеализма — в марксистском смысле — гуманитарной науке не повредит.
Для краткости и чтобы подчеркнуть ограниченный характер моих астрологических познаний и умозаключений относительно подлинности различных изданий «Центурий», а также в стремлении сохранить специфику прошлого и уважить «астрофила» 3 из Салон-де-Кро я заставил себя следовать постулату Альфонса Дюпрона4: «Жить и не отмеривать то, что мы проживаем, — это общая данность бытия; история же милостью своей позволяет нам по прошествии времени обозревать глубины, которые не способны разглядеть современники, притом что ее основная роль — в некотором смысле вести учет рождению сознания из неосознанного. Но нам тем не менее известно, что мы не можем (следовало бы написать — «не должны») стремиться к раскрытию тайны. Тайное описывает себя, осязает, ищет себе место, но не объясняет — иначе перестает быть тайным… Всякое объяснение тайны кажется нам в конечном итоге ее отрицанием…«3 Это «тайное», в котором Альфонс Дюпрон угадывал связующее начало «мифа», чуть позже, как мы увидим, я попытаюсь применить к воображаемому у Нострадамуса.
Пора к нему вернуться. При свете и в сумерках, днем и ночью я проводил трудные нескончаемые часы, поскольку все приходилось переосмысливать, размышлять порой над одним словом, стихом, катреном, и я упирался в бесконечную стену или, скорее, чувствовал, что блуждаю по лабиринту. Нередко я терялся в формулах наполненной символами мысли и в поисках возможных исторических источников. А также задавался вопросом, занят ли я исторической работой или, быть может, потерялся в призрачных эпистемах загадок и ребусов, в меандрах воображения, лишенного видимой логики, изобилующего многозначностью, а то и вовсе таящего в себе исключительно игру. При чем здесь история, если из-за семиологического дробления и рассеивания не выделить смысл? Каким образом придать деятельности Нострадамуса историчность, если приходишь к тому, что это искусство стилистической деконструкции, сфокусированное на обращении к тревожному веку: «ведь милосердие Божие не будет какое-то время на нас распространяться, сын мой, и большая часть моих Пророчеств осуществится и будет исполнена»5. Проблема была в том, что я упорно считал, будто Нострадамус хочет выразить нечто значимое, и целью моих поисков стала разгадка этой сущности, облаченной в слова, казавшиеся ореховой скорлупой, которую можно разбить и открыть. Я упорно в это верил, не подозревая, что сам по себе рассказ как созданная им временнáя протяженность был «циклическим», вписанным в рамки «сивиллической» поэтики, в которой сам принцип символизации имеет «ось вращения» в виде исчислений и повторов; речитативная поэтика хоть и проявляется в ходе чтения, парадоксальным образом скрыта в лукавом varietas6 фактов и выражается в многочисленных разрозненных, независимых друг от друга коротких сюжетах.
Между тем, когда я прочел их, причем не раз, мне показалось, что в попытке постичь загадочный мир Нострадамуса, как и в большинстве случаев, когда речь идет о логике ренессансных рассуждений, не следует поддаваться мании интерпретирования и считать, будто у Нострадамуса было желание столкнуть читателя с тем знанием, которое тот мог бы расшифровать или воспроизвести уверенно и однозначно. Надо не столько прочесть Нострадамуса, сколько выявить сам принцип прочтения, а значит, скрытого знания. В канве письма Нострадамуса выражается «оккультная» философия, но это философия незнания, апорического сознания. Нострадамус сам указывает на это с помощью многочисленных знаков и примет, пунктиром введенных в его тексты. Например, в последних строках «Предисловия», обращенного к сыну Сезару: «Хотя некоторые [из них] как бы скрыты облаком, они будут поняты умными людьми: sed quando sub movenda erit ignorantia7, смысл [их] станет яснее». Нострадамус дает понять своему читателю, что нужно смело заглянуть «по ту сторону» слов. «Quod de futuris non est determinata omnino veritas». — «Ибо что есть в будущем, истинно не определено вовсе». Возможно, путь, по которому идет Нострадамус в своих писаниях, это путь, обозначенный Эразмом, путь «глупости»; Жан-Клод Марголен назвал его «ироническим самовосприятием», обратнонаправленным языком, «механизм которого выявляет в конечном окостеневшем мире явлений и догм другой, бесконечно открытый и свободный мир человека, для которого всякая правда в нем и вне его связана с усилием поиска и углубления». В конечном счете я пришел к тому, что может выступить воссоздающей гипотезой при встрече с бесконечными вероятностями пророческой мысли Нострадамуса. Ведь даже когда катрен кажется чуть более прозрачным, полной ясности он не достигает, и смысл всегда неоднозначен.
Выходит, «ночные и пророческие предвидения, составленные скорее на основе единства природного дара и поэтического вдохновения, чем следуя правилам поэтики», нужно толковать как значащее расширение границ, а история в изложении «астрофила» обретает смысл при единственном условии: если признать, что это история, которая видоизменяется вне языкового поля. За пределами самих слов, а значит, принятых форм анализа. Я начну свое исследование, опираясь на этот тезис.
1 Имеется в виду город Салон-де-Кро в Провансе.
2 Дезидерий Эразм Роттердамский. «Похвала глупости». Здесь и далее перевод П. К. Губера.
3 То есть последователя астрологии. Астрофилом называл себя Нострадамус.
4 Альфонс Дюпрон (1905–1990) — французский историк, специалист по Средним векам и Новому времени.
5 Здесь и далее послания к сыну Сезару и к королю Генриху II представлены в переводе В. Б. Бурбело и Е. А. Соломарской. Ими же был выполнен подстрочный перевод катренов, цитируемых в авторских примечаниях в конце книги.
6 Varietas — многообразие (лат.).
7 Sed quando sub movenda erit ignorantia — а когда уничтожат невежество (лат.).
Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки. Биороман
- Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки. Биороман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 347 с.
В конце сентября в Редакции Елены Шубиной выходит автобиография известного журналиста, писателя, театрального критика Татьяны Москвиной. Книга «Жизнь советской девушки. Биороман» продолжает издательскую серию «На последнем дыхании», которую открыли «100 писем к Сереже» Карины Добротворской. Предельная искренность как обязательное условие мемуаров проявляется здесь и в описании ленинградского быта 1960–1980-х годов, и в трудном пути к самой себе.
Увертюра
Я пишу для тебя
Я не могла понять, зачем и для кого буду писать эту
книгу, пока не увидела её.Случайно на улице, шла мимо. Девушка лет восемнадцати в мешковатом чёрном пальто, длинные русые
волосы, кое-как подстриженная чёлка. Что-то нелепое
в фигуре. И в манерах. Что-то категорически не совпадающее с реальностью, порывистое и ужасно трогательное.Она не видела меня, увлечённая своей книжкой
или своими мечтами.Она смотрела куда-то серо-голубыми северными
глазами, а я замерла в узнавании… Я так хорошо знала
этот зачарованный рассеянный взгляд, эти обкусанные
ногти, эти бедные разбитые туфли.Я всем нутром ощущала, как она талантлива и как
несчастна. И я знала, что ещё долго-долго придётся ей
быть талантливой — неизвестно, в чём, — и несчастной, а это уж слишком ясно, отчего.Это женский мутант.
Это результат жестокого эксперимента по внедрению духа в природу.
Это женщина, которой досталась искорка творческого разума.
Это я.
Это я несколько десятилетий тому назад — с отчаянным туманом в голове, зачитавшаяся до одури, бредущая по городу…
Видимо, такие всегда были, есть и будут — наверное, существует норма в процентах. Я думаю, процентов пять—семь от общего числа…
Или уже больше?
Или всё-таки меньше?
Я не знаю. Но мне хотелось бы написать книгу,
которая помогла бы этой девушке выстоять в жизненной борьбе — выстоять и, быть может, победить.На этом месте многие читатели могут и надуться.
Скажут — а что, если у нас ногти не обкусанные
и взгляд не зачарованный, и если мы вообще мужчины
средних лет, так что же, нам и книжку эту читать не
разрешается?Что вы, что вы. Сегодня я приглашаю всех! Я же
буду рассказывать о своей жизни, а это вызывает
аппетит у многих. Я сама с наслаждением читала
жизнеописания людей, с которыми не имела ничего
общего ни по полу, ни по возрасту, ни по судьбе —
но чем дальше от себя, тем даже лучше, своё-то мы
и так знаем.Пусть ко мне на огонёк приходят самые разные
люди, пожалуйста. Я говорю лишь о внутреннем послании, о письме «неведомой подруге» или ученице, которую никогда, наверное, не встречу в реальности, — это
я сама восемнадцати лет, возродившаяся вновь, сейчас,
в этом мире.Мне кажется, ей сейчас горько, трудно, странно.
Её мысли и намерения путаются. Она не знает, что ей
делать, куда идти, где её путь. Мир жарко и пошло
наваливается на душу, бормочет бредовое и сбивает
с толку — а настоящих друзей мало. Почти нет. Их
может не быть вообще, так бывает…Я окликаю тебя.
— Эй, ты! Да, да, ты, с толстой книжкой в руке,
в стоптанных туфельках, с туманной, гудящей от слов
головой!Тебе кажется, что ты одна — и это так, ты одна,
но… ты не одна.Побудь со мной.
Послушай меня.
Я расскажу, как долго и трудно я шла к самой себе.
И ещё неизвестно, пришла ли. Из моей нелепой жизни
нельзя вывести никакого урока, но что-то понять из
неё — мне кажется — можно.Я вас не боюсь
Моя первая книжка, сборник эссе «Похвала плохому
шоколаду», вышла в 2003 году, из чего, как вы понимаете, следует, что автор удосужился собрать свои
сочинения в книгу, уже «отмотав срок» в сорок пять
лет. В следующем, 2004 году появился мой первый
роман, «Смерть это все мужчины», и я стала считаться
писателем, которым, конечно, была от рождения, чего
мир просто не знал.Но почему так поздно? Что это за литературный
дебют такой — в сорок шесть лет?Я могу предъявить высокому суду всякие черновики, рукописные и машинописные, разных лет —
простите, я писала, писала… только никому не показывала и ничего не завершала.Тут дело, конечно, не в семье (муж, двое детей),
которая брала силы, но уж не настолько, чтоб не смочь
написать книжку.(Каждый день по страничке — через год будет
книжка!)И не в трудностях самого процесса (всё ж таки
молотить на машинке было очень утомительно). Но
вела же я исправную критическую деятельность, сочиняла статьи, иногда довольно большие. Бывало, что
я писала от руки, и рука дико уставала. Тем не менее
я написала за три дня пьесу «Рождение богов», зелёной
шариковой ручкой, в припадке вдохновения. Стало
быть, и это не оправдание. Даже без верной Софьи
Андреевны (жена Толстого переписывала его сочинения, но у меня не может быть жены, я сама жена!) давно
могла бы ты, девушка, написать свою «Войну и мир».Ну, так в чём же дело?
Дело в ужасе перед людьми, перед их мнением.
Я боялась всеми кишочками души оказаться отвергнутой и осмеянной. Это сейчас внутри выросло что-то вроде дерева и оделось корой, правда, не особо прочной. А до «великого одеревенения» моя душевная природа состояла, как тело матерого бойца, из ран, ожогов,
синяков, обморожений и прочих злополучий, в разных
стадиях заживления…В детской жизни было два горестных случая. То
есть их было двести двадцать два, но эти запомнились
острей всех.Меня отдали в школу — ещё семи лет не было —
зачем сидеть в детском саду смышлёному ребёнку,
который свободно читает и пишет. Трудности в общении со сверстниками, некоторую угрюмую отъединённость от мира, чрезмерную ранимость просто не заметили. (Я всегда была скрытной — коренное свойство
натуры.)Так вот, школы я испугалась. Так испугалась, что
несколько раз на людях описалась от страха. Дети смеялись — учительница, добрейшая Тамара Львовна,
взяла меня под защиту. Ничего очень уж страшного не
было, травли там или постоянного издевательства, дети
были неплохие, потом я подружилась с некоторыми
и защитилась ими от стаи. Но забыть ощущение позора трудно.Дома ничего не сказала.
Второй случай. Меня в начальных классах оставляли на продлёнку, часов до шести в школе — делать
уроки, читать под надзором. И кормили ещё какой-то
дрянью. Так ужасна была жареная картошка, отвратительная, горького вкуса — а я-то выросла на гениальной бабушкиной стряпне, — что я не могла это есть
и потихоньку выбрасывала несъедобные дольки под
стол. Кухонная работница заметила самоволку и стала
возмущённо орать. Крупная злая бабища, а я тогда
была маленькая, тихая, с косичками. Она заставила
меня лезть под стол и собирать эту горькую невыносимую картошку, и я не посмела сопротивляться. Через
шесть лет — смогла, всему школьном режиму смогла
дать отпор, о чём расскажу, а тогда сил не набрала ещё.
Полезла под стол, ползала там среди школьниковых
ног, собирала картошку, они смеялись, ух как они смеялись! Помню атомную смесь жаркого красного стыда
и солёных изобильных слёз.Я думаю, надолго остался ужас — сделать что-то
не то, над чем будут смеяться. Но его больше нет.Страх перед насмешками и осуждением людским
ушёл вместе с другими человеческими свойствами, из
которых более всего мне жаль чудесной способности
любить на ровном месте. Она, эта способность, очень
скрасила мне жизнь.Я не боюсь людей. Наверное, я их больше не
люблю — и оттого совсем не боюсь.Я кровно приварена к семье, легко отдам жизнь за
детей, многие люди меня восхищают, есть те, кто дорог
и симпатичен. Но любви больше нет — надорвалась,
устала я любить.(Мне кажется, если быть честными и посмотреть
внимательно и строго вглубь жизни — уходит любовь-
то, утекает от нас…)Ну, об этом мы ещё поговорим, а сейчас важно то,
что отдельная русская женщина совершенно распустилась и осмелела. И собирается рассказать о своей жизни,
дерзко выкрикивая «я вас не боюсь!»И чего мне бояться? Я научилась жить среди равнодушия, без горячей заботы о себе, без подарков судьбы, в беспокойстве и раздражении постоянном. Когда
меня оскорбляют, мне больно, но через два—три дня
всё проходит. Женщины часто воспринимают триаду
«деньги—слава—любовь» как возможную защиту от
холода и боли (любовь тоже боль, но иного рода) —
однако я выучилась жить и с холодом и с болью. Я терплю холод, как почтальон в старину, отправленный в
дальнее поселение с важным письмом, я терплю боль,
как терпит её человек с вылезшим гвоздём в ботинке,
который ежеминутно терзает пятку, — и ботинок
почему-то нельзя снять.Тем более что радость хоть не каждый день, как
солнце на Севере, но согревает душу.Пока что — всё терпимо.
Зря я так боялась.
Я что-то знаю?
Я, я, я, я… Забавно придумала Рената Литвинова имечко для своей глухой героини в сочинении «Обладать
и принадлежать» — Яя. Внутри нас действительно
живёт какая-то «Яя», и любит она про себя сказки сказывать и приговоры приговаривать.Над этим посмеивался гениальный Шварц Евгений Львович в гениальных своих дневниках (которые
до сих пор вроде бы полностью не расшифрованы), где
писал без придумок, с натуры — людей, годы, жизнь.
У него есть пассаж про художника Лебедева, который
любил самые обычные свои движения сопровождать
торжественным «У меня есть такое свойство…».«У меня есть такое свойство — я терпеть не могу
винегрета…»Ох ты батюшки, свойство у него.
Думаю, и вы встречали немало таких людей, важно
сообщающих нам совершенные пустяки, как рельефные, полные смысла личные «свойства».«Я пью только зелёный чай».
«Я плохо сплю в поезде».
«Не люблю печёнку!»
Ну а что, собственно, нам говорят про человека
подобные «свойства»? Ничего. Разве что помогают
притереться к индивиду, если судьба его к вам привела-приткнула. Если он ваш гость, к примеру, — ладно,
заварим ему зелёного чаю. Не дадим печёнки. Мы
гуманисты.Другое дело, если человек заявит что-то из области ментальных пристрастий.
«Почти не читаю художественной литературы, она
меня утомляет, мне скучно».«Русский рок? Нет, не перевариваю, увольте».
«Сейчас хожу только в Студию театрального искусства Женовача — это лучшее, что есть в Москве».
Уже ничего, можно какой-то разговор затеять.
Поспорить хотя бы, правда, те воображаемые фразы,
что я привела, рисуют портрет довольно категоричного, намеренно ограниченного человека, и спорить
с ним будет трудно.Но я веду к чему? К тому, что самоопределение
через набор свойств — чаще всего маленький Яя-театр.
Человеку хочется построить и сыграть цельный художественный образ себя. А потом его ещё и проанализировать! Не только перевоплотиться в образ себя, но
и рассказать о нём. Выполнить одновременно функции художественного творчества и критического анализа!Поразительно, но многие с этим справляются
отлично. (Никто не сообщает только одного — каков
его обычный процент лжи в рассказе о себе, никто
и никогда.) Так что, общаясь с человеком, имеешь дело
с двумя существами: с ним и с его художественным
образом.Крайний вариант такого раздвоения изумительно
сыграл актёр Сергей Русскин в роли Иудушки Головлёва («Господа Г.» по роману Щедрина «Господа Головлёвы», театр «Русская антреприза имени А. Миронова», Петербург). Иудушка — бездушный выродок, он
родился дефективным, бесчувственным к людям, с сильными, хищными первобытными инстинктами, что-то
ужасное есть в этой полной бабьей фигуре с адскими
ледяными глазами, что-то от нелюдя, тролля, болотной
нежити. Но он сам считает себя прилежным христианином, образцовым человеком, близким к ангелу!
Он обирает ближних с неумолимостью насекомого,
и при этом слово «бог» не сходит с его уст, принимаются смиренные позы, он сам себе кажется прекрасным, благородным, справедливым, добродетельным!Ага, скажете вы, но придумка себя идёт изнутри —
есть же «объективные показатели».Хорошо. Я смотрю на себя в зеркало — вижу
немолодую женщину среднего роста, очень крупную,
полную, с огромной грудью и животом. При этом
у меня тонкие запястья, щиколотки и шея. Осветлённые волосы обстрижены и не доходят до плеч, глаза
зелёные, но многие утверждают, что голубые —
странный, не разгаданный мной эффект. Слева в углу
губ большая родинка с явной перспективой на бородавку. В разных странах мира меня принимали только
за русскую. Лишь однажды — за польку! Помню, как
ленфильмовский гример Коля, когда я пришла на
грим для картины «Мания Жизели», посмотрел в зеркало и сказал: «А что её гримировать? Хорошее русское лицо». Подумал и добавил: «Типа Крупской».Хорошее русское лицо типа Крупской. Хорошее,
нормальное русское чудище женского рода.Но там, внутри себя, я же ничего этого не чувствую! Ни веса, ни возраста, ни цвета глаз, ни родинки — ничего…
Внутри меня обитает та, чьего имени я не знаю
и называю её Мать — Тьма, великая Тьмать, и моё тело
нужно только для поддержки её временных границ.Она заперта во мне. Она где-то есть в полной
мере не во мне, как где-то есть океан, но она есть и во
мне — она меня создала, и я не могу не отзываться,
когда она зовёт.Тьмать доходит до головы, но там она всевластия
уже не имеет. Туда она протекает во время сна полностью, а с пробуждением медленно и неохотно утекает,
оставляя густые, тёмные, долго высыхающие следы.
Там, в голове, неравномерный свет — то блистающий
и острый, то спокойный и мерцающий. Иногда он так
разрастается, что чудится, будто заливает он всю Тьмать,
затаившуюся внизу, в родовых глубинах. Но уж оттуда
её не изгонишь, не вытравишь ничем и никогда!А среди борений света и тьмы, кто там поёт
и чирикает?Да так. Какая-то птичка. Вот залетела и поет.
И я её спрашиваю утром: ну что, как дела? Будем жить?
И она отвечает: да-да! Будем жить-жить!Птица моя капризница — то запечалится вдруг, то
развеселится. Но вообще-то она питается радостью
и дарит мне ощущением полёта, хотя где она там летает — уму непостижимо…Но кто же здесь я?
А вот всё это хозяйство вместе и есть я. Всё это
хозяйство, да притом в динамическом развитии от
нуля до наших дней.Об этом и расскажет вам мой «биороман».
Буду писать спокойно и просто.
Занавес, занавес, поднимайте занавес — я готова.