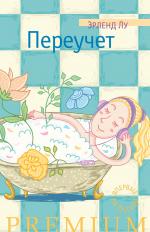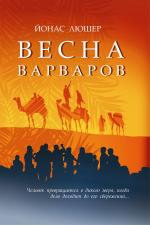- Дорогая редакция. Подлинная история «Ленты.ру», рассказанная ее создателями. — М.: АСТ, 2014. — 340 с.
В издательстве «АСТ» вышла книга «Дорогая редакция. Подлинная история „Ленты.ру“, рассказанная ее создателями», которую составил бывший руководитель отдела специальных корреспондентов журнала Иван Колпаков. «Прочтение» публикует текст Вячеслава Варванина, работавшего в «Ленте.ру» с 1999-го по 2010-й на
разных должностях, последняя из которых — директор по развитию.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Вячеслав ВарванинНедожурналистика Я проработал в «Ленте.ру» больше десяти лет —
с момента запуска в сентябре 1999-го. Если бы пару
лет назад кто-то сказал мне, что я когда-нибудь стану писать про нее мемуары, я бы посмеялся.
Интернет-СМИ — не та отрасль, чтобы ее кухня интересовала широкую публику. Ну кто же знал, что
финал будет таким громким.Чего совершенно точно не хочется делать, так
это писать хронику. Открыли рубрику, запустили
спецпроект, наняли сотого редактора, собрали первый миллион читателей — это никому не нужно. Автобиография «на фоне» и анекдоты из жизни — тем
более. Единственное, что может представлять интерес, — это страшные профессиональные тайны.
Вот ими и поделюсь.Начать, пожалуй, все же следует с объяснения,
чем мы там на самом деле занимались. Нам и самим-то это стало понятно далеко не сразу, а то представление о профессии новостника, которое существует у читателей, вообще довольно слабо соотносится с действительностью.Люди, которые приходят в журналистику, обычно полны самых романтических представлений об этой профессии. Сенсационные репортажи с места
событий, журналистские расследования, интервью
со знаменитыми людьми, командировки в горячие
точки, гражданская позиция, миссия, поиск истины, свобода слова… Короче, не жизнь, а кино. Если
что, в новостной редакции романтиков ждет большой облом.Интернет-новости можно отнести к классической журналистике с очень большой натяжкой.
Новостники почти не имеют дела непосредственно с людьми или событиями, источниками информации для нас являются ленты информагентств,
газеты, телевидение, блоги — или другие такие же
онлайн-издания. Практически все, чем занималась
«Лента.ру» в первые десять лет жизни, это поиск,
выбор и упаковка информации, добытой кем-то
другим.Из этого часто делают ошибочный вывод, полагая работу новостника чем-то второсортным. Даже
вполне компетентные интернетчики периодически называли «Ленту» «агрегатором» и страшно
удивлялись, зачем нужны десятки редакторов. У менее компетентных «агрегатор» иногда заменялся
на «мусоросборник».На самом-то деле хорошее новостное СМИ делать ничуть не проще, чем традиционное. Другие
приоритеты, другой формат, другие проблемы — и
другие критерии оценки. Но ощущение второсортности и ущербности все равно периодически охватывало даже самых стойких сотрудников.Мечта о «настоящей» журналистике, об «эксклюзивах» всплывала за всю историю «Ленты» неоднократно. Впервые мы поддались искушению еще в
2000 году. Был нанят отличный парень Тимофей,
куплен за 200 долларов скутер — и у «Ленты» появился свой стрингер. Как он добывал новостные
поводы, я сейчас уже точно не помню. Помню, как
мы обсуждали план купить на Митинском радиорынке сканер милицейских частот, но, по-моему, он
так и остался в проекте. Тем не менее оперативную
информацию о происшествиях в городе Тимофей
где-то добывал. К сожалению, на выходе чаще всего
появлялись сообщения примерно такого вида: «На
Юго-Востоке Москвы загорелся гараж. Площадь
пожара составила семь квадратных метров. К настоящему моменту очаг возгорания ликвидирован,
ведется проливка и разбор завалов. Тимофей А-в,
специально для «Ленты.ру».Я думаю, наш стрингер в такие моменты был на
вершине счастья, но вклад в общее дело получался
не очень большой.Вялые попытки самостоятельно добывать информацию не прекращались и в последующие годы,
но соотношение усилий и результата каждый раз
оказывалось удручающим. (Настоящие собкоры в
конце концов все же появились в «Ленте» — когда
она повзрослела настолько, что могла позволить
себе расширить формат и стать полноценным изданием. К сожалению, ненадолго. Но эта часть ленточной истории прошла уже без моего участия.)А десять лет назад защитить редакцию от комплекса неполноценности можно было только одним способом — дать ей другую систему ценностей, отличную от журналистской романтической. Тут, конечно,
основная заслуга принадлежит Антону Носику, который научил нас словосочетанию «информационный
фильтр». Это очень удачное определение «Ленты»,
поскольку именно в умном выборе и ранжировании
новостей заключался один из секретов успеха.
Остальные приоритеты следовали просто из названия: новостной лентой, как известно, называется
продукт информационных агентств — поток оперативных сообщений. Разница только в том, что агентские ленты представляют собой полуфабрикат для
профессионалов — газетчиков и телевизионщиков,
а «Лента» с большой буквы была предназначена сразу для конечного пользователя. Поэтому, кроме правильного выбора и оперативности, требовалась еще
качественная подача. Эксклюзивность и художественные достоинства текста в той концепции практически не имели значения.Намного сложнее было понять самому, а потом
объяснить следующим, что еще меньше значения
имеют такие вещи, как точка зрения, позиция, отношение к происходящему. Очень сложно смириться с тем, что ты никак не можешь гарантировать, да
что там гарантировать — повлиять — на достоверность передаваемой тобой информации. В какой-
то момент понимаешь, что, если источник врет, ты
будешь распространять вранье — просто потому,
что единственная альтернатива — промолчать. Разговоры про создание объективной картины в новостях, про написание беспристрастных заметок по
нескольким источникам — это сказки для студентов.
В реальной жизни отсутствие второго источника —
не повод игнорировать новость, а столкновение
двух противоположных точек зрения очень редко
проясняет картинку, скорее уж запутывает ее еще
сильнее. Короче, в какой-то момент на юного новостника обрушивается жуткое, парализующее понимание принципиальной, прямо-таки технической непознаваемости мира.Это очень опасный момент, именно в этом месте
очень хочется совершить большую ошибку: начать
нести людям правду. Самостоятельно интерпретировать скудную и слабодостоверную информацию, додумывать, пытаться объяснить читателю, что происходит «на самом деле». После этого у тебя останется
мнимый выбор: можно стать честным и искренним
объектом чужих манипуляций или честным и искренним городским сумасшедшим, убежденным в собственной правоте, не верящим никому и игнорирующим любую информацию, противоречащую твоим
представлениям. Конечно же, это не «или», а «и».Единственный известный мне способ спасения —
поверить в своего читателя. В этого бестолкового,
поверхностного, некомпетентного и вообще неприятного типа. Каким-то способом допустить невероятное: что он сам сможет разобраться, где
правда, где ложь, где мелкое жульничество из лучших побуждений, — если ты снабдишь его той же
информацией, которой обладаешь сам.Очевидно, что любой мало-мальски опытный новостник способен оценить правдоподобность информации, инстинктивно распознать, когда его
пытаются одурачить. Остается, в общем-то, не так
много: понять, откуда взялось это интуитивное ощущение, вытащить его на поверхность, отряхнуть и
предъявить. Отряхнуть в том числе от своих благих
намерений.По-настоящему честная работа в новостях чем-то
напоминает американскую юриспруденцию из романов Гарднера: свидетель в суде обязан говорить
только о фактах, которые ему непосредственно известны — без выводов, оценок и интерпретаций.
Правда, там еще запрещалось говорить с чужих
слов, а здесь только это и можно. Как бы то ни было,
каждый раз, когда Гамильтон Бергер пытался помочь присяжным разобраться в недоступном их пониманию деле, кончалось все одинаково.Как-то слишком претенциозно для производственных мемуаров, правда? Ну и хватит.
Без запятых Главным фетишем «Ленты» долгое время были
заголовки. Можно только позавидовать сотрудникам печатных изданий, в которых допускается полет фантазии — привлекательность газетных заглавий с размером выручки связана несильно.
А интернет-издания живут исключительно за счет
пользовательских кликов, а значит — «кликабельности» заголовков.Собственно, потребность в хороших заголовках
стала одной из причин моего попадания в «Ленту».
В последних числах августа 1999-го, буквально за
пару дней до запуска, Носик с первой попытки сманил несколько человек из информационного отдела ИД «Коммерсант» — в том числе будущего главного редактора «Ленты» Галину Тимченко. А наша
работа в «Ъ» ровно в том и заключалась, чтобы сортировать ленты информагентств, отбирать важное и озаглавливать покороче и попонятнее — дальше эта выборка уже отправлялась по отделам. По
замыслу Носика, варяги из «Коммерсанта» должны были усилить качество продукта: предполагалось, что мы будем придумывать заголовки и так называемые анонсы — краткое содержание новости в один абзац. Этот полуфабрикат сразу бы выкатывался на сайт, после чего другие редакторы добивали его до полного текста. Такое разделение труда не прижилось, но сама технология быстрой выкладки анонса
сохранилась и в дальнейшем — как и наш непререкаемый «заголовочный» авторитет.Простым и очевидным заголовок новости является только на первый взгляд. На самом деле к этой короткой фразе предъявляется множество требований. Он должен передавать главное, не должен содержать лишних подробностей, должен быть событийным, описывать какое-то изменение, а не просто констатировать факт, должен быть достаточно компактным и собранным, чтобы попадать
читателю в голову с первой попытки. В итоге оказывается, что озаглавливать новости ненамного
проще, чем писать стихи.Предпринимались попытки формализовать требования: обязательно глагол, обязательно совершенного вида, обязательно прошедшего времени, никаких запятых, никаких придаточных предложений и
деепричастных оборотов. Но никакая инструкция
не защищает от перлов вида «Спасший застрявшего
на дереве кота проходивший мимо мужчина получил
в подарок иномарку». Все в порядке, запятых нет. Но
что-то настораживает. А заголовок «Майкрософт в
понедельник запустит Windows-9», наоборот, нарушает одно из ключевых правил, оставаясь при этом
совершенно нормальным заголовком.Иногда попадались действительно сложные случаи — особенно если интересность новости определяется второстепенными деталями или предысторией. Вот что, к примеру, делать с заголовком
«Укравший средства на восстановление храма с помощью дрессированного сурка мужчина приговорен к пяти годам общего режима»? Выкинуть лишние подробности? Но с уходом сурка новость моментально обесценивается. Кучу проблем создавали
несостоявшиеся убийцы, потому что «убийцами»
называть их уже нельзя, слова «покушенец» в русском языке нет, а все человеческие альтернативы
невероятно громоздки. Строго говоря, преступников вообще нельзя называть преступниками до вынесения им приговора, фраза «грабитель пойман
на месте преступления» априори незаконна.Чтобы окончательно испортить жизнь редакторам, у «Ленты» была еще и технологическая
особенность: кроме обычного заголовка, у каждой новости существовал специальный параметр
RamblerTitle — короткий вариант заглавия с ограничением в 35 знаков (он использовался для показа
в рейтинге Rambler Top-100). Тут уже требовались
зачатки гениальности.Сегодня эти проблемы могут показаться смешными: новостные заголовки присутствуют повсюду,
а выросшее за эти годы поколение баннерщиков и
копирайтеров способно на такие чудеса, которые
нам тогда и не снились. Но в каком-нибудь 2005 году
в редакции регулярно случались коллективные мозговые штурмы с подключением тяжелой артиллерии вплоть до главного редактора.
Рубрика: Отрывки
Олег Радзинский. Агафонкин и Время
- Олег Радзинский. Агафонкин и Время. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 576 с.
Роман «Агафонкин и Время» – четвертая книга Олега Радзинского, бывшего владельца «Рамблера», поселившегося в Ницце и посвятившего себя литературному творчеству. Герой романа Алексей Агафонкин – необычный Курьер: он доставляет и забирает Объекты из разных временных эпох. Агафонкин не особенно задумывается над сутью полученных от загадочного В заданий, пока не теряет один из Объектов – детскую юлу. В поиск юлы включаются как земные, так и неземные силы. Кто получит юлу первый и почему она всем нужна, выяснить предстоит Агафонкину. Стоит ли упоминать, что одним из Адресатов является маленький Владимир Путин? Наверное, стоит.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ СОБЫТИЙГлава первая ЛЕНИНГРАДБАСКОВПЕРЕУЛОК-17МАЯ1963ГОДА10:16 Сегодняшняя Доставка не нравилась Агафонкину. Ему было тревожно, словно он делал плохое, за что могут наказать, и скорее всего накажут. Как предчувствие мигрени, что проклевывается слабой пока головной болью, ждущей своего часа, чтобы превратиться в сверлящую мозг дыру у левого виска, куда — словно вода в раковине — закручивающейся воронкой утекут радость и простота существования. Так и агафонкинская тревога: предощущение, в котором прорастала горечь уверенности — быть беде. Непременно быть.
В двух кварталах к востоку начинался Литейный — с большими домами, старыми облупившимися особняками вымершей на чужбине русской аристократии и гулкими трамвайными линиями. Шума Литейного в тихом Басковом переулке слышно не было, и все же Агафонкин ощущал текущую оттуда оживленность большой улицы — непрерывный гул, мерный рокот, словно непрестанно работающий вдали мотор. Все это, конечно, существовало только в его воображении, оттого что до Литейного было идти и идти: сначала до Маяковского, затем до Короленко, свернуть на Некрасова, и уж оттуда можно было выйти на Литейный проспект. Агафонкин хорошо знал эти места, хотя раньше здесь не бывал. Он всегда внимательно изучал карту, перед тем как выбрать Тропу.
«Какое литературное место, — подумал Агафонкин. — Какие улицы — Маяковского, Короленко, Некрасова. В таком районе наш мальчик мог бы стать литератором.
Но не стал, — вздохнул Агафонкин, — а вместо этого пошел работать на Литейный, дом 4».
Сам район назывался Канал Грибоедова. Это Агафонкин тоже помнил.
Он решил не заходить во двор — находится еще. Он знал, что будет часто здесь бывать.
Во дворе же дома 12, куда решил не заходить Агафонкин, тем временем пузырилась местная жизнь. Маленькие, дошкольного возраста дети гоняли незлобных кудлатых собак, собаки пытались поймать облезлых кошек, старики в пахнущих долгой службой пиджаках и кепках сидели на крепких самостроенных лавочках, наполняя сырой воздух дешевым табачным дымом и неторопливой матерной речью, а тетки в наскоро повязанных платках и стареньких домашних халатах выносили ведра на помойку, распугивая рыскающих там крыс, и над всем этим в белесом чухонском небе висело бледное ленинградское солнце, что светило, да не грело.
Стоял холодный и сырой питерский май, переходный месяц от зимы к лету, когда неяркий в этих широтах солнечный свет начинает скапливаться, удерживаясь в небе, борясь с наступающей вечерней тьмой, и позже — в июне — белые ночи, разведенные мосты, Медный всадник, гуляющие по полутемному городу пары, поцелуи на лавочках, стихи и то особое петербургское состояние между светом и тьмой — неясность, зыбкость, ожидание, которым так гордится город. «По сути же, — думал Агафонкин, — никаких белых ночей нет; просто сумерки на время захватывают пространство ночи. Полуфабрикат тьмы. А романтики вокруг развели… Умелый питерский маркетинг: наши сумерки как никакие другие — длятся до утра. Только у нас — победа света над тьмой. На три недели в году».
Двор дома 12 был двор особенный, известный окрестной шпане и криминалу постарше как проходной. Он удобно лежал на пути от Некрасовского рынка к подвалам-лабиринтам Саперного переулка. Агафонкин, впрочем, в подвалы не собирался: его ожидала Доставка, ответственное дело. Он повернул от двора дома 12 и пошел на запад, к зданию школы 193. Идти было пятьдесят два метра.
Агафонкин подготовился к Доставке и мало отличался от советских прохожих 63-го года. Он был одет в темный болоньевый плащ и угольного цвета костюм из дакрона. Агафонкин не мог понять любви советского населения 60-х к искусственным материалам, но признавал их практичность: легко стирается и мало мнется.
Отправитель настоял на узком сером галстуке на резинке с ненавязчивым бордовым узором. «Такие тогда носила фрондирующая интеллигенция, Алексей Дмитриевич, — объяснил Отправитель. — Уж поверьте мне». У Агафонкина не было выхода, и он поверил. Хотя и не понял, отчего должен походить на советскую фрондирующую интеллигенцию 60-х.
«Гагарин уже два года как слетал, — вспоминал Агафонкин, шагая к дому 8 по Баскову переулку, где находилась школа Адресата. — Что там еще, какие памятные вехи? Олимпиада в Токио? Нет, это через год. Надо будет потом еще почитать».
Он свернул к школе. Большая перемена, как и сказал Отправитель, была в полном разгаре. В школьном дворе, словно песчаный вихрь, клубилась однородная масса мальчиков — хаотичное шумное броуновское движение скучных серых суконных форм. Девочки в шоколадных платьях и черных передниках собирались стайками — косички и хвостики, белые банты. Лица детей мелькали и казались Агафонкину одинаковыми.
«Ну, где же ты? — спрашивал себя Агафонкин, вглядываясь в снующих по школьному двору мальчиков. — Перемена скоро закончится, и где тебя искать?»
Агафонкин, понятно, лукавил: он мог найти Адресата в любой момент и в любом месте. Он просто не хотел застревать в Ленинграде 1963 года на целый день.
Агафонкин остановил пробегающего мимо мальчика, по размеру — ровесника Адресата.— Постой-ка, — сказал Агафонкин. — Ты из какого класса?
— Из пятого, — сглотнул мальчик. Левое ухо у него топорщилось больше правого, словно кто-то его за это ухо тянул. Возможно, так оно и было. — Чего вам, дядя? Ищете кого?
— Из пятого, — повторил Агафонкин. — Это нам подходит. Тебя как зовут?
— Сережа, — снова сглотнул мальчик. — Серега Богданов.
Агафонкин назвал имя Адресата.
— Знаешь такого?
— Вовчика? Да это друг мой лучший, — поделился Сережа Богданов. Он посмотрел на Агафонкина и забеспокоился: — А вы, дядя, откуда? Не из милиции?
— Нет, Сережа, я не из милиции, — ответил Агафонкин. — Я с его отцом работаю. Мне ему кое-что передать нужно.
Сережа обдумал ситуацию и сглотнул. Он Агафонкину не верил.
— Пошли бы к ним домой и тете Марусе передали, — предложил он.
— Да я уже заходил, — соврал Агафонкин. — Ее дома нет.
Дело срочное, Сережа. Обещаю: я не из милиции.
Это, кстати, была правда.
Сережа сморщился от напряжения. Агафонкин казался ему странным, и он не верил, что тот работает на Вагоностроительном с Вовкиным отцом. Сережа знал мужиков, которые там работали; они и выглядели, и говорили иначе. На милицейского, однако, дядька тоже не походил. Хотя кто их знает.
Он собрался уже соврать, что Вовки во дворе нет, когда все решилось само собой: Агафонкин вдруг увидел Адресата — словно кто-то навел на него луч света, как делают в театре, высвечивая нужного в этот момент актера. Адресат стоял совсем рядом — маленький, хрупкий, беловолосый, с упрямым немигающим взглядом. Он смотрел на Агафонкина, словно стараясь его припомнить. Он был бледен и почти прозрачен, будто соткан из бледного промозглого ленинградского воздуха — дитя туманов и болотных миазмов. На секунду — лишь на секунду — он показался Агафонкину миражом, галлюцинацией, одной из мансуровских интервенций. «А что, — мелькнуло у Агафонкина в голове, — что если все это — мансуровские придумки; создал галлюцинацию Доставки, а на самом деле я в Москве, в Квартире?» Мысль была тревожной, и Агафонкин поспешил ее отогнать. В остальном, не считая миражной прозрачности, Адресат выглядел точно как его фотография во внутреннем кармане пиджака Агафонкина.
— Так вот же он, — сказал Агафонкин, показывая на Адресата.
— Да какой же это он? — зачастил Сережа Богданов. — Это не он вовсе. Это вовсе другой. Это Левка Камелединов.
Но Агафонкин уже не слушал. Он пошел к Адресату, стараясь выглядеть неопасным, пытаясь улыбаться, хотя веселого в том, что должно было случиться, он видел мало.
Адресат стоял, не мигая, не двигаясь. Агафонкин чувствовал, что тот его не боится, но и не доверяет ему. Адресат выжидал, стараясь не казаться встревоженным. Бежать он, впрочем, не собирался.
— Не бойся, Володя, — сказал Агафонкин, — я не из милиции. Я тебе ничего дурного не сделаю.
В этом он, правда, не был уверен.
Адресат кивнул. Он ждал.
Агафонкин был обязан придерживаться процедуры: каждая Доставка начиналась с идентификации Адресата. Каждая Выемка начиналась с идентификации Отправителя. Он должен был убедиться, что перед ним именно тот, кто нужен, даже когда был в этом уверен. Адресат должен был себя назвать. Отправитель должен был себя назвать.
— Тебя как зовут? — спросил Агафонкин.
Адресат обдумал вопрос и хмыкнул.
— Вы меня ищете, а как зовут, не знаете?
— Я знаю, — терпеливо объяснил Агафонкин. — Просто по правилам ты должен себя назвать. Свое имя.
— По каким правилам?
— По правилам. — Агафонкин понизил голос до шепота. — Я тебе все объясню, когда ты себя назовешь.
Адресат пожал худыми серошкольными плечами.
— Володя.
— Полностью. Фамилия тоже нужна.
Адресат снова пожал плечами:
— Володя Путин.
«Контакт, — подумал Агафонкин. — Начинаю Доставку».
Эта мысль также была частью процедуры. Агафонкин знал, что когда выполняет Назначение, должен думать правильные мысли.
— Очень хорошо, Володя, — улыбнулся Агафонкин. — Очень хорошо, что это ты. — Он нащупал конверт во внутреннем кармане плаща. — Тебе письмо.
Маргарита Арсеньева. Давно, на Ленинской-Дворянской
- Маргарита Арсеньева. Давно, на Ленинской-Дворянской /3-е изд., доп. — СПб.: Геликон Плюс, 2013. – 132 с.
Ассортимент издательства «Геликон» украшают аннотации с пометкой «Дмитрий Быков рекомендует». Самый безотказный, но вместе с тем и взыскательный покровитель молодых авторов обратил внимание на роман Маргариты Арсеньевой, увидев в нем «одно из самых сильных свидетельств о российской жизни, появившихся в последние годы. Замаскированный под семейную хронику, страстный, точный, емкий рассказ о семье и стране, бунте и терпении».
СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ В жестокой семье вырос Василий Дмитриевич. Поговаривали, что отец его забил свою первую жену. Второй тоже жилось несладко. Родили они, однако, шестерых детей. Пять сыновей, на каждого полагался земельный надел, семья считалась зажиточной.
Все были неистовые трудяги. Держали лошадей, это давало какой-то доход, небольшой, не такой, чтобы тратить на них корм. Но много было к лошадям любви, а когда, скажем, на масленицу мчались в санях, запряжённых рысаками, то и гордости.
Жили в большом татарском селе Семёновское. Только двадцать семей в нём было русских, и все Березины. По расхожей легенде какой-то помещик поменял их на породистых собак татарскому баю.
К учёбе тяги ни у кого не было, и выросли полуграмотными. Только Вася хотел учиться. Давали ему каравай хлеба, и он уезжал на неделю в село Кочки-Пожарки, где была школа.
Дальше этого забота об его образовании не пошла, и он пристроился помощником к Семаеву, волостному писарю.
Семаеву парнишка нравился, и тот ввел его в свой дом. Там-то и увидел Вася другой, отличный от их березинского, быт. Домашние говорили негромкими голосами, были приветливы друг с другом. Сдержанно, басовито били напольные часы. Имелся небольшой шкаф с книжками. И очень ему нравилось, что за чаем варенье раскладывали по розеточкам.
Как-то приехал он к своим, да в самый разгар ссоры. Остановился на пороге и неожиданно даже для себя самого сказал: «А у Семаевых никогда не лаются ». — «Неужто?!» — визгливо выкрикнула распалённая скандалом сестра. — И Вася ответил недавно услышанными словами: «Честное благородное!» Все заржали. Так появилось у Васи первое семейное прозвище — «честноблагородное».
Со временем и сам Василий Дмитриевич стал волостным писарем. А затем и секретарём волостного правления. И когда построил, наконец, в Сергаче дом, то не сказать чтобы большая комната величалась у него гостиной; широкими досками отгородили пенальчик, оклеили обоями, назвали спальной; сени так и назывались сенями, но длинное окошко в деревянную клетку считали итальянским.
В гостиной стоял резной буфет почти во всю стену. Между двумя окнами — высокое зеркало в чёрной витой раме; под опять же итальянским окошком на террасу — диванчик с резными спинкой и подлокотниками. Над ним часы с боем. Посредине стол на круглых ножках, а над столом — красавица лампа на цепях и с матовым абажуром. И за чаем — непременные розеточки для варенья.
Однажды во всю эту красоту вторгся старший брат Иван и стал требовать водки — душа горела.
— Да не держим мы водки, — отвечал Василий Дмитриевич.
— Ах ты, честноблагородное! — взревел Иван и бросился брата душить. Был Иван роста небольшого, но силищи недюжинной. Василий Дмитриевич еле сумел разжать его руки, да и то потому, что на Иване повисли жена Марусенька и случившаяся тут Анна Мягкова, соседка.
Ивана скрутили. Марусенька плакала, а Мягчиха разошлась:
— Ты на кой пёс сюда явился! Ходите все, объедаете брата! Как ни придёшь, кто-нибудь да жрёт! Он среди вас — чистый изумруд! Вот вы и пользуетесь! Чистый изумруд! — и удалилась.
Так появилось у Василия Дмитриевича второе прозвище.
На военную службу его долго не брали из-за зрения. Но в шестнадцатом всё-таки велено было явиться в Нижний. Со слезами проводили, стали ждать вестей.
В строю новобранцев только один Василий Дмитриевич светил очками. Вдоль строя шёл какой-то чин со списком и зычно спрашивал каждого:— Иванов! Хочешь служить?
— Рад стараться! — отвечали все как положено.
Дошёл до Василия Дмитриевича:
— Березин! Хочешь служить?
Василий Дмитриевич как-то неопределённо посмотрел на него и, так сказать, под влиянием минуты, негромким мягким своим голосом в ответ:
— Да что-то не хочется, ваше благородие…
Тот усмехнулся, двинулся дальше.
Только два дня длилась его служба. Прибежала Маруся к Мягчихе со своей несказанной радостью:
— Вернулся слепое моё счастье!
— Не было бы слепое, может и не на тебя бы набрело, — ввернула Мягчиха.
Знала Маруся, что соседка немного неравнодушна к Василию Дмитриевичу. Не рассердилась и не обиделась. Просто появилось у него ещё одно семейное прозвище, которое произносили только уста Марии Николаевны.
Она была дочкой священника Светлицкого. Дом их стоял на горе в селе Воскресенском. Уже нет давно этого дома, а название осталось — Светлицкая гора.
Маруся окончила епархиальное училище и готовилась стать учительницей. Но прослышал о ней от своего товарища Василий Дмитриевич, был представлен и стал её навещать на только что купленном велосипеде — редкость в те времена. Двенадцать верст в один конец.Дело кончилось венчанием. В дом молодым духовная родня Маруси даровала икону Вседержителя с раскрытой книгой и словами «Придите ко мне труждающиеся и обремененные, и аз упокою». Икона была в большом узорном окладе, покрытом сусальным золотом, со стеклянной дверкой. Её, конечно, повесили в передний угол.
Были и светские подарки — ножная швейная машина «Зингер», обрамленная ящичками для рукоделия, и грамофон с набором пластинок.Зажили счастливо. Нянюшка Груня, которая всю улицу пестовала, переходя из дома в дом, немного помогала и Марии Николаевне, когда родился первенец. И рассказывала всем: «Такая у них любовь трепетная, такая трепетная. Марусенька — Васенька, Васенька — Марусенька…»
Ну, а в революцию начала подбираться нищета. Дальше — больше. То двадцатые, то тридцатые…
— Что, Вася, наелся? — спрашивала Мария Николаевна.
— Как на Пасху, — неизменно отвечал Василий Дмитриевич. Куда уж там! Пятеро детей, их бы накормить.
По воскресеньям на сергаческий базар приезжала родня, и, зная, что Маруся в этот день печёт пироги, кто-нибудь из них непременно заходил в гости. Она угощала — как не угостить? Да ещё и с собой прихватывали — корзинку с яблоками, с вишней. А детям никто никогда не приносил никакого гостинца.
Приходила сестра Поленька. Была у неё манера всех называть «сладкий мой», «сладкая моя», «сладкие мои», за что и получила прозвище «сладкая Поленька», но и от неё гостинцев не дождёшься.
И опять Мягчиха не стерпела. Призвала Поленьку посовеститься.
— Чай, я не в частом быванье, — ответила та.
— Ты не в частом, другой не в частом, так каждое воскресенье кто-нибудь да разговляется. Марусе бы хоть маленько после трудов отудобеть, так нет, вы тут как тут…
Толку это не возымело.
Бывало, что приезжал и свёкр, сумрачный, с окладистой бородой. Невестке ни здравствуй, ни прощай, да и с сыном не особо беседовал. Внучат по именам не знал, был к ним совершенно равнодушен и внимания на них не обращал. Сидел, молча ел и спасибо за угощение не говорил.
Свой земельный надел Василий Дмитриевич отдал брату Алексею. Уговорились, чтобы тот делился с ним частью урожая. И вот ребятишки играли на печке, открыли вьюшку и увидели там записку от Поленьки: «Алексей, спрячь хлеб, Вася собирается приехать».Маруся плакала, пока не пришёл с работы Василий Дмитриевич. Он знал, что слёзы у жены близкие, и обычно успокаивал её шуткой. А тут и сам расстроился. Но сказал:
— Знаешь, Маруся, давай жить так: нет большой беды — и слава Богу.
В тот вечер, когда шёл он домой, нагнал его в проулке единственный на их Дворянской убеждённый большевик Капезин и шепнул:
— Василий Дмитриевич, за тобой собираются прийти. Я тебе ничего не говорил.
С этим и зашёл Василий Дмитриевич в дом. Записка да слёзы жены будто отвлекли его на этот вечер от капезинского предупреждения. А утром подумалось: «Да на что я им нужен!» И он продолжал жить как жил. А куда деваться.
Оказалось, что все-таки нужен. Через несколько дней произошла, можно сказать, хрестоматийная для тех времён история. Только легли спать — громкий стук. А у них как раз заночевала нянюшка Груня, лечила от простуды травяными настоями мальчишку. Она сразу сообразила: «Василь Дмитрич, это за тобой, спасайся!»
А он уж и сам слышит знакомый голос большевистского вожака Хромова, а с ним сообщники.
Нянюшка кричит:
— Сейчас, сейчас, лапти обую!..
А Василий Дмитриевич в окно и садами скрылся.
Нянюшка нарочно долго ковыляла, подавала голос, наконец открыла дверь: «Нет хозяина дома…» Ушли.
Прожил Василий Дмитриевич тихо дня три-четыре у брата в Семёновском и вернулся. Больше его не трогали.
А когда Алексея решили раскулачивать, тот в свою очередь у Васи пережидал, пока не минует лихо.
Всё же родные.
Родня Марии Николаевны жила подальше от Сергача, но все равно наезжали часто. Брат Леонид был дьяконом, волосы до плеч, волнистая борода, статный, голосище — иерихонская труба. После службы в соборе навещал сестру. Если было венчание, непременно докладывал, какой у невесты был нос:
— Неказистая пара сегодня. Разве это нос — пуговица!..
Или:
— О, сегодня невеста хороша — нос большой…
В общем, чем носовитей, тем красовитей. Народ всегда как-нибудь, да утешит.
Однажды невеста была с распухшим лиловым носом.
— Я уж подумал, не жених ли за что приложил. А Тишка-псаломщик сказал, что нет, что у неё от природы нос чекушкой, и кто-то ей посоветовал на ночь перед свадьбой прищемить его бельевой прищепкой, к утру дескать потоньше станет, покрасивей. Эта дурища так и сделала. Утром — результат на лице. И смех, и грех…
Леонид в Бога не верил и в дьяконы пошёл только по семейной традиции.
Как служителя культа его лишили права голоса. И странно, он стал сипеть, физически потерял голос. Хлопотал — не восстанавливали. Чуть ли не год сипел. А потом как-то явился и еще с порога гаркнул во весь свой бас: «Ну вот, сестра, восстановили!» Сразу и голос вернулся. Такое удивительное совпадение.
Была у Марии Николаевны ещё сестра Евгения, полная ей противоположность: боевая, резкая, вспыльчивая. В молодости полюбила наездника барыни Чегодаевой, родители были против, так она взяла да и вышла замуж за кузнеца — маленького роста, неказистого, и всю жизнь им верховодила.С детства Евгению звали Еня. А пересмешник Витька Зыков, живший напротив березинского дома, заглазно называл «тётя Еня без ж».
Родила она пять сыновей, и все были у Березиных частыми гостями, а то и подбрасывала кого-нибудь из них Еня на время сестре, это в березинскую-то тесноту.
Несмотря на разборчивость Василия Дмитриевича, дом его был самым открытым, самым «гудящим» на всей улице.Бывало, приезжал друг детства Абдулла из Семёновского. В тюбетейке, в ичигах, а жена в шароварах, покрытая шёлковыми шалями, то нежно-кремового цвета, то в алых розах. Оба весёлые, с ворохом гостинцев и подарков для ребятишек. Любимицей у него был подросшая Люсенька. Что ни скажет, он сразу: «Бравильно, Люся, бравильно!» Она одна из всех осмеливалась поправлять его русский, и он тоненько смеялся: «Ай, Абдулла, ошибкам давал!».
Эти его перлы вошли в семейный обиход на годы и цитировались в подходящих случаях.
Летом гостей, к которым благоволил, Василий Дмитриевич усаживал пить чай на террасе, увитой хмелем. Вид с неё был захватывающий душу, словно вознаграждение за тесноту, которую приходилось терпеть в доме.
«Сергач-город, Сергач-город, Сергач-город на горе! Как увижу Сергач-город, не идут ноженьки мое», — так певали. Березинский дом стоял на самой верхней улице, а терраска ещё и на столбах. Поверх низких крыш взгляд простирался дальше, дальше, в простор неба, заливных лугов; то тут, то там блеснёт Пьяна… И так до тёмного лесного клина, из которого вдруг выползала торопливая гусеница — поезд. Шума не слышно — такая даль.
А в самые жаркие дни самовар приносили в сад. Знакомый плотник Кирилыч сделал стол со скамьями и врыл их в землю под вишнями, словно в беседке.
Старались украсить бедную трудную жизнь как могли. И даже уборная-скворечник была увита благоухающей резедой. И тот же Кирилыч, выйдя из неё, объявил:— Ну, так духовито у вас в нужнике, что забыл, зачем вошёл.
Росли башковитые дети, разрастался сад. Тяготы жизни стали привычными для Василия Дмитриевича и Марии Николаевны. Только бы детям выпала другая доля…
Скотт Маккуайр. Медийный город
- Скотт Маккуайр. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство / Пер. с англ. Максима Коробочкина. — М.: Strelka Press, 2014. — 392 c.
Издательство Strelka Press выпустило книгу австралийского медиатеоретика Скотта Маккуайра, изучающего воздействия технологий на город и отношения между людьми. Цифровые сети и электронные медиа существуют повсеместно и уже давно перестали
быть лишь инструментами рекламы и коммуникации — сегодня они сами диктуют
людям образ жизни и представления о времени и пространстве, влияя на
городское планирование и архитектурную моду.СТЕКЛЯННАЯ АРХИТЕКТУРА
Люди изготавливают стекло не одну тысячу лет, но лишь в индустриальную эпоху оно стало распространенным строительным материалом. Большую часть своей истории стекло было настолько дорого, что могло использоваться лишь теми, кто обладал деньгами и властью, — об этом наглядно свидетельствуют витражные окна средневековых соборов. Наиболее распространенные виды окон в частных домах — французские и раздвижные створчатые — появились в эпоху Возрождения. К середине XVIII века процесс полировки стекла был механизирован, и из него начали сооружать большие теплицы. Примечательно, что масштабное применение листового стекла в строительстве началось в конце 1820-х годов при сооружении парижских пассажей. «Внутренние улицы», вдохновившие Беньямина на знаменитый трактат, создавались из железных каркасов, одетых
в стекло. Способность «стеклянной архитектуры» размывать
границы между внутренним и внешним пространством позднее проявилась в создании новых форм публичных изобразительных средств, но также и в том, что частная жизнь вышла на новый уровень зримости.Архитектура «из стекла и стали» вскоре стала достоянием всего мира — благодаря развитию системы международных и всемирных выставок. Эти псевдорелигиозные сборища, которые
Беньямин уместно характеризует как «места паломничества
к товарному фетишу», требовали больших сооружений для показа промышленных товаров и производственных процессов,
а также последних научных изобретений и коммуникационных технологий. Размер этих зданий свидетельствовал о растущем стремлении к контакту с массовой аудиторией, которую
следовало мобилизовать и вести в индустриальное будущее
в качестве рабочих или потребителей. Несомненно, самым
знаменитым сооружением из стекла был Хрустальный дворец Джозефа Пакстона, возведенный для Всемирной выставки
в Лондоне в 1851 году. Уилсон отмечает, что для создания этого
новаторского здания было использовано 400 тонн стекла
— еще десятью годами раньше это составило бы треть от
общего объема его производства в Англии. Значение Хрустального дворца было огромно. В практическом плане он свидетельствовал о формировании интегрированной концепции строительства как системы, занявшей центральное место в современной
архитектуре. В символическом же плане Хрустальный дворец
захватил воображение публики как образец архитектуры будущего. Залитые светом стеклянные структуры, дающие беспрепятственный обзор окружающей местности, обещали рабочему
классу, обитавшему в убогих домишках и грязных городах, грядущее изобилие индустриальной эпохи. В знаменитом романе
Николая Чернышевского «Что делать?», вышедшем в 1865 году,
героиня видит во сне здания, подобающие преобразованному
революцией обществу будущего, прототипом которых стал Хрустальный дворец: «Но это здание, — что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее, — дворец, который стоит на Сайденхемском холме: чугун и стекло».
Подобно тому, как Ленин в 1902 году позаимствовал заголовок
романа для своего труда, где обрисовывались задачи революции,
образ сооружения из стекла раз за разом будет приобретать революционные коннотации в глазах европейских авангардистов.ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЗРАЧНОСТИ
Стеклянный павильон Таута на выставке 1914 года свидетельствовал о символическом потенциале стекла, а о силе послевоенной «стеклянной культуры», как утверждал Адольф Бене,
нужно судить по ее практической способности порождать социальные преобразования: «То, что стеклянная архитектура принесет с собой новую культуру, — не безумная фантазия поэта.
Это факт. Не новые организации социального обеспечения,
больницы, изобретения, технические новшества и усовершенствования — а именно стеклянная архитектура <…>. Поэтому
европейцы правы, опасаясь, что стеклянная архитектура может
стать „неуютной“. Несомненно, такой она и станет. И в этом ее немалое преимущество. Ведь европейца в первую очередь надо вырвать из уюта» (цит. по: Frampton 1982: 116–117).Атаки на «уютное» буржуазное сознание стали одной из излюбленных тем представителей архитектурного авангарда, которые, как и Бене, связывали «стеклянное строительство» с созданием рациональной цивилизации в духе идей Просвещения. По
мнению Бене, «стеклянная архитектура приведет к духовной революции в Европе и превратит тупое, самодовольное животное,
увязшее в своих привычках, в бодрого, четко мыслящего, утонченного человека» (цит. по: Passuth 1985: 23). Подобные попытки
приравнять эстетику современного дизайна к европейской «духовной революции» зачастую звучали сомнительно. Так, нападки архитекторов на орнаменты и «украшательство» с позиций
рационального дизайна зачастую сопровождались обвинениями в «примитивизме».К началу 1920-х годов многие ведущие архитекторы уже разрабатывали «стеклянные» проекты. Вальтер Гропиус утверждал:
«Стеклянная архитектура, еще недавно представлявшая собой
лишь поэтическую утопию, теперь становится реальностью без
всяких ограничений» (цит. по: Blau, Troy 1997: 232). Впрочем,
здесь желаемое выдается за действительное. Хотя в 1920-х в Германии и Голландии было сооружено какое-то количество «модернистских» жилых домов, «стеклянное строительство» в целом
ограничивалось крупными общественными и промышленными зданиями и иногда виллами. Но, несмотря на немногочисленность таких сооружений, «знаковые» объекты вроде здания
«Баухауза» в Дессау, созданного по проекту Гропиуса и законченного в 1925 году — с его необычными стенами сплошь из
стекла, — оцени вались как провозвестники будущего. Для Зигфрида Гидиона размывание границы между внутренним и внешним пространством в этом здании означало «эпохальный разрыв
с пространственностью эпохи Ренессанса» (цит. по: Mertins 1997:
234). Хотя Гидион имел в виду переход от стабильной центрированной перспективы к динамичной точке наблюдения движущегося зрителя, у других прозрачность имела политические
коннотации. Описывая свой проект здания Лиги Наций (оставшийся неосуществленным), преемник Гропиуса на посту директора «Бау хауза» Хеннес Мейер отмечал: «Если намерения Лиги
Наций искренни, нельзя втискивать столь новаторскую социальную организацию в „смирительную рубашку“ традиционной
архитектуры. Здесь должны быть не украшенные колоннами
тронные залы для скучающих монархов, а гигиеничные рабочие
помещения для занятых делом представителей народов. Здесь
должны быть не потаенные коридоры для закулисной дипломатии, а открытые застекленные комнаты для публичных переговоров между честными людьми» (цит. по: Frampton 1982: 134).Для Мейера «гигиена зримости» означает честность и здоровую демократию. Такие же ассоциации, но уже применительно к переустройству домашнего пространства, возникают у Шелдона Чейни в его нашумевшей книге «Архитектура нового мира» (1930): «Я много раз употреблял слово „открытость“ в качестве
идеала нового домостроительства. Для меня оно имеет не только
пространственные коннотации. На мой взгляд, сейчас идет процесс освобождения нашей жизни — как физической, так и духовной. Традиционный дом с глухими стенами — по сути замок-убежище — уступает место не столь замкнутому жилому
пространству, женщины сбрасывают лишнюю одежду, а людские умы постепенно освобождаются от старых суеверий, старых, связывающих по рукам и ногам религий, старых эгоистических мотивов. Идет движение вперед — что, как мне кажется,
сделает человечество здоровее и счастливее» (Cheney 1969: 272).Вера в открытость и прозрачность — одна из опор архитектурного модернизма. Она также поддерживает современный
политический идеал — репрезентативную демократию, где разоблачающие медиа называются «четвертой властью». Тесную
связь между современными медиа и новой архитектурой в деле
формирования «открытого» общества подчеркивал знаменитый
фотограф Эдвард Уэстон: «Нужно приложить большие усилия,
чтобы заставить камеру лгать: по сути, она — честный посредник.
Поэтому фотографу скорее присущ дух общности, исследования,
а не самодовольное хвастовство самопровозглашенного „художника“. И современное видение, новая жизнь основаны на честном подходе ко всем проблемам, будь то нравственность или
искусство. Фальшивые фасады зданий, фальшивые моральные
стандарты, уловки и фиглярство любого толка должны быть и будут отброшены» (цит. по: Sontag 1979: 186).Однако прозрачности и в архитектуре, и в политике по-прежнему мешает неясность целей. Стеклянные стены — способ сломать пространственную иерархию Ренессанса или «устроить демократию»? В этом дуализме видится политическая подоплека.
Если в первом случае обыгрывается нечеткость границы между
частным и общественным и пропагандируется новая сложная пространственность, то во втором случае речь идет о чрезмерной открытости, грозящей гибелью всему частному пространству. Раньше споры о пределах слежения, как правило, заканчивались тем,
что отграничивалась зона частного, связанная с домом, но сейчас
определение этого порога кажется все более проблематичным.ЧАСТНАЯ СФЕРА — ДОМ
«Замкнутость» буржуазного жилища, которая часто была
мишенью для авангардистских проектов «модернизации», необходимо определить точнее. В Европе «уединенность», ассоциирующаяся с частным домом, сходила на нет с развитием капиталистической экономики, по мере того как в доме переставали
заниматься производством. Как выразился Хабермас, в рамках
капиталистических отношений «семья утрачивает свои функции
в производстве» (Habermas 1989: 154). Средневековые функции
семейного жилища — как рабочего места и приюта для гостей —
все больше переходили к специализированным структурам: мастерским, фабрикам, постоялым дворам, гостиницам. Однако
дом, утрачивая одни функции, приобретал другие: некоторые
виды деятельности, прежде осуществлявшиеся на общественном
пространстве, переместились в пространство частное. Результатом стало существенное переустройство интерьера жилища.Как отмечает Льюис Мамфорд, в средневековом доме пространство не было дифференцировано в функциональном плане. «В городах, однако, это отсутствие внутренней специализации
компенсировалось вспомогательными общественными учреждениями, выполнявшими домашние функции. В доме могло
не быть собственной печи для приготовления хлеба, но в близлежащей пекарне или харчевне она была. Собственной бани там
тоже могло не быть, но поблизости обязательно имелась муниципальная баня» (Mumford 1973: 330).Мамфорд считает, что функциональная дифференциация
в жилище началась в XIII веке с появлением у богачей отдельных спален, а затем и туалетов. Это был «первый намек на такую
роскошь, как собственный туалет для каждой семьи в XIX веке,
и такой американский шик, как собственный туалет при каждой
спальне» (Ibid., 328–329). К XVII столетию усовершенствования
отопления и освещения обеспечили дальнейшее разделение
функций. Кухня была отделена от судомойни — то есть приготовление блюд и мытье посуды теперь были разнесены, а «светские»
функции кухни выполняли гостиные. Сон все больше отъединялся от других действий: столовую уже нельзя было использовать как спальню, а в спальне — принимать гостей. К XVIII веку
появилась специализированная приемная для гостей. Если в жилище феодала салон служил «дому» — в нем собирались и семья, и гости, — то салон нового типа представлял собой комнату, предназначенную специально для приема гостей и ведения
публичных бесед внутри частного — в остальном — пространства.Увеличение числа комнат со специальными функциями
привело к возникновению внутреннего пространства нового
типа — коридора. Коридоры способствовали удовлетворению
усиливающегося стремления к уединению. Комнаты впервые
отделялись друг от друга не занавесом, а дверями, которые можно было закрыть, отгородившись от всех. По мере того как общие
пространства феодального жилища, например зал и внутренний
двор, сокращались из-за увеличения числа комнат, принадлежащих отдельным членам семьи, функциональная специализация
дизайна интерьеров усиливалась и начинала отражать классовые
и гендерные роли домашних. Владение домом с набором специализированных комнат стало признаком высокого социального статуса.Хотя подобная функциональная дифференциация присутствовала лишь в домах зажиточных сословий, к XIX столетию ее
движущая сила — стремление к уединению — становилась все
более важной частью общественной жизни. Мамфорд обрисовывает логическую цепочку, ведущую от архитектуры к идеологии: «Приватность во сне, приватность за едой, приватность
религиозных и светских ритуалов и, наконец, приватность мыслей» (Ibid., 328). Аналогичным образом Хабермас утверждает,
что стремление к большему уединению, выразившееся в реструктуризации внутреннего пространства дома, привело и к возникновению «внутренней субъективности» (Habermas 1989: 49).
В культуре проявлением этого феномена стали новые литературные жанры, например дневник и рассказ от первого лица, придавшие новое культурное значение социальным отношениям,
рожденным из-за усилившейся интимности в рамках «парной
семьи». Постепенное появление психологического романа, получившего «вторую жизнь» в качестве основного образца для
нарративного кино, закрепило преобладание этой внутренней
субъективности.Возникновение приватности в ее современном понимании,
связанном с внутренней субъективностью собственнического индивидуализма, соответствует преобразованию «зримых» форм
власти в современное «дисциплинарное общество» по Фуко. Хабермас отмечает: хотя при европейском феодализме отсутствовало характерное для современной эпохи противопоставление
общественного и частного, он все же зависел от «публичности репрезентации» (Ibid., 9). Эта форма власти была укоренена в концепции «двойного тела» монарха, одновременно физического
и символического: правитель выставлял себя напоказ в качестве воплощения высшей власти. Демонстрации величия в присутствии простых людей, которых собирали для этих зрелищ,
придавалось огромное значение. В число этих публичных представлений входили не только придворные церемонии, но и то,
что сейчас воспринимается как «приватное», — пробуждение
и трапеза короля на людях. Как отмечает Влевин, «начиная с Версаля королевская спальня превращается во второй центр дворца.
Если здесь находится кровать, оформленная как сцена и поставленная на возвышение, этакий „лежачий трон“, отделенный
барьером от „зрительного зала“, то лишь потому, что эта комната — арена ежедневных церемоний отхода ко сну и пробуждения, где самое интимное приобретает общественное значение» (цит. по: Habermas 1989: 10).
Феликс Х. Пальма. Карта неба
Феликс Х. Пальма. Карта неба. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 783 с.
В октябре в издательстве Corpus выходит остросюжетный роман «Карта неба» испанского писателя Феликса Пальмы. Действие книги происходит в Лондоне в XIX веке в эпоху великих научных открытий, которые раздвигали границы возможного и внушали людям мысль о том, что самые смелые их мечты и надежды могут осуществиться. В основу «Карты неба» положен роман Г. Дж. Уэллса «Война миров», более того — сам фантаст оказывается одним из действующих персонажей.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Джереми Рейнольдсу хотелось бы быть влюбленным, чтобы иметь возможность окрестить женским именем ледяную глыбину, в которую уперся его корабль, этот антарктический пейзаж, расстилавшийся перед ним. Или горную цепь, на горизонте к югу, или бухту, открывавшуюся справа в снежном тумане, или даже любую из многочисленных льдин. Но Рейнольдс никогда не испытывал чувств, похожих на любовь, и единственным именем, которое он мог бы использовать в этих целях, было имя Джозефины, богатой девушки из Балтимора, за которой он ухаживал, влекомый совершенно иными интересами. Откровенно говоря, он не мог представить себя, обращающегося к ней во время чаепития, под неусыпным взглядом ее матери, со словами: «Кстати, дорогая, я назвал твоим именем континент, лежащий далеко за Полярным кругом. Надеюсь, это тебя обрадует». Нет, Джозефина не сумела бы оценить такой подарок. Она ценила только то, что можно носить на пальцах, запястьях или шее. Какой прок от подарка, которого она никогда не увидит и не потрогает? Это чересчур изысканный презент для девушки, чуждой всякой изысканности. И вот теперь, очутившись во льдах, на сорокаградусном морозе, Рейнольдс принял решение, какого не смог бы принять, находись он в любом другом месте: прекратить ухаживать за Джозефиной. Да, именно так он и поступит. Весьма маловероятно, что ему удастся вернуться живым в Нью-Йорк, но он дает себе торжественный обет: если с помощью какого-то чуда это произойдет, его избранницей станет лишь та, кто обладает тонкими чувствами и способна испытать волнение оттого, что на Южном полюсе есть закованный в лед утес, носящий ее имя. Хотя было бы неплохо, про себя добавил он, подчиняясь своему неизменному здравому смыслу, чтобы такая девушка располагала к тому же достаточными средствами и в случае, если фортуна ему не улыбнется, не корила бы его за то, что та далекая скала — единственное, что он может ей предложить.
Он тряхнул головой, чтобы прогнать эти романтические мысли, уносившие в далекий мир, который отсюда казался неправдоподобным, и устремил свой взор на бесприютный край, лежащий в такой дали от цивилизации, что Творец не стал украшать его приметами жизни. Кроме того, кому захочется окрестить именем жены, своим собственным, корабля, доставившего их туда, или организатора экспедиции этот кусок льда, который, возможно, в конце концов станет его могилой? Да, он приехал сюда, обуреваемый стремлением вписать свое имя в Историю, но, как становится очевидным, единственное, что ему удастся написать, будет его эпитафией.
Они отплыли из Нью-Йорка в октябре с намерением достичь Южного полюса через три месяца, когда лето в Южном полушарии в разгаре, однако из-за целого ряда неблагоприятных обстоятельств и неудач, преследовавших их с самого начала экспедиции, путешествие безнадежно затянулось. К тому времени, когда они миновали Южные Сандвичевы острова и направились к острову Буве, этому ускользающему от глаз наблюдателя островку, который с таким трудом нанесли на карту предыдущие исследователи, даже помощник кока и тот знал, что удача ждет их только в том случае, если они достигнут цели до конца лета. При этом экспедиция вышла очень дорогостоящей, и они уже проделали слишком большой путь, чтобы возвращение могло устроить хоть кого-нибудь, а потому капитан Макреди приказал держать курс на острова Кергелен, надеясь, что кроличьи лапки, которые захватили с собой матросы, окажутся более действенными у Полярного круга, чем в Америке. Оттуда они проследовали на юго-запад и вскоре начали встречать на своем пути первые плавающие льдины, которые словно охраняют берега Антарктиды, как отважные часовые. Используя проходы между льдами и огромными айсбергами, они сумели без особых помех продвинуться довольно далеко, пока почти полностью скованное ледяным саваном море не объявило им, что в этом году зима решила прийти на месяц раньше, в середине февраля. Невзирая на это, они с энтузиазмом принялись раскалывать лед, наивно уповая на двойную обшивку из африканского дуба, которую Рейнольдс приказал поставить, дабы усилить корпус старого китобойца. Это были долгие и отчаянные попытки, но в конце концов появление огромного айсберга превратило схватку со льдом в мираж. Но капитан Макреди проявил себя весьма изобретательным человеком: он распорядился сыпать угольную пыль на державший их в тисках лед, чтобы побыстрее растопить его, приготовил свечи и даже отправил нескольких человек раскалывать лед с помощью любых колющих инструментов, какие только отыскались в трюме. Единственное, что ему оставалось, это попробовать собственноручно перенести корабль на другое место, подобно какому-нибудь богу с Олимпа. А так все эти усилия ни к чему не привели, разве что добавили ситуации патетики. Они были обречены с того самого мгновения, когда решились войти в это море, усеянное ледяными капканами, а может быть, даже с момента, когда Рейнольдс замыслил свою экспедицию. Вскоре судно слегка накренилось на правый борт, и им удалось спуститься на лед, где Макреди приказал кому-то подняться на вершину ближайшего айсберга и сообщить, что он оттуда увидит. Вырубив с помощью кирки небольшие ступеньки во льду, дозорный вытащил латунную подзорную трубу и подтвердил то, что уже давно подозревал Рейнольдс: мир для них теперь ограничивался бескрайним ледяным полем, ощетинившимся скалами и айсбергами, белым небытием, где они вдруг стали жалкими, ничего не значащими букашками, не важно, живыми или мертвыми.
Спустя две недели положение не улучшилось, и глупо было это отрицать. Ледяные клещи, державшие в плену «Аннаван», не разжались ни на миллиметр. Наоборот, тревожное потрескивание льда свидетельствовало о том, что его давление на корпус судна только усиливается. И ослабления этой хватки можно было ожидать разве что через восемь-девять месяцев или даже позже, когда сюда снова придет лето, и это еще если им повезет, ибо Рейнольдсу было известно слишком много похожих историй, когда желанное таяние льдов так и не наступало. На самом деле, каким бы опытом ты ни обладал, все становилось непредсказуемым, едва ты отваживался вступить в царство льда. Достаточно вспомнить хотя бы экспедицию сэра Джона Франклина, предпринятую в 1822 году на север Канады с целью отыскать Северо-Западный проход. Участники экспедиции столько времени блуждали во льдах, что Франклину пришлось даже съесть собственную обувь, чтобы хоть как-то заглушить страшный голод. Но Франклин все же вернулся домой, что удавалось далеко не всем. «Не пополнят ли и они длинный перечень неудавшихся экспедиций, пропавших кораблей, мечтаний, канувших в неизвестность, который заботливо составляют в Адмиралтействе?» — подумал Рейнольдс, с отвращением разглядывая свои заиндевелые сапоги. Пока что им остается только молиться, чтобы 1830 год не был указан на их надгробных плитах вслед за датой рождения.
Он бросил грустный взгляд на «Аннаван». Это было китобойное судно тридцатиметровой длины, знававшее лучшие времена, когда оно промышляло кашалотов и китов-горбачей в южной Атлантике. От того славного прошлого осталось лишь полдюжины гарпунов и дротиков, хранившихся в арсенале. Теперь же «Аннаван» представлял собой довольно нелепое зрелище: он опирался на подобие мраморного пьедестала, накренившись набок и немного задрав носовую часть. Желая свести к минимуму вероятность того, что судно опрокинется, Макреди распорядился спустить паруса на обеих мачтах и навалить гору снега по правому борту, которая служила бы одновременно подпоркой и склоном для спуска. Солнце висело над самым горизонтом, где ему предстояло пробыть еще несколько недель, перед тем как окончательно погаснуть в апреле, уступив место долгой полярной ночи, и освещало «Аннаван» слабым и тусклым светом.
Устав от тесноты корабельных помещений, по которым приходилось передвигаться, то и дело задевая головой свисавшие сверху, как грозди винограда, орудия и инструменты, натыкаясь на койки и громоздившиеся повсюду съестные припасы, немногочисленные члены команды сгрудились у подножия судна, бросая вызов жестокому морозу, который забавлялся тем, что превращал в поблескивающие облачка дыхание, вырывавшееся из их ртов. Кроме него, Джереми Рейнольдса, фигурировавшего в бумагах в качестве начальника экспедиции, экипаж под командованием капитана Макреди составляли два офицера, боцман, два артиллериста, хирург, кок и два поваренка, два плотника и дюжина матросов, один из которых, приставленный к ездовым собакам, был огромный молчаливый метис, плод кощунственной связи индеанки из племени упшароков с белым. И насколько мог заметить Рейнольдс, пока никто из них за свою судьбу особенно не тревожился. Но не потому, что на борту было достаточно провизии, а запасов угляхватало, чтобы поддерживать тепло внутри судна до наступления лета. Такая беззаботность порождалась опытом, что был у них за плечами, многочисленными трудностями, которые им пришлось пережить в подобных и даже гораздо худших переделках. Либо так предпочитал думать Рейнольдс, не мог же он считать, что безоговорочное смирение, с которым они встречали невзгоды, объясняется тем, что их несчастные жизни значат для них не больше мушиного укуса, это было бы слишком ужасно, так как собственная жизнь была ему по-прежнему дорога, по крайней мере пока. Как бы то ни было, он надеялся, что такое положение вещей долго не продлится и не подтвердятся известные разговоры в портовых тавернах насчет того, что в условиях, подобных нынешнему, не стоит ни о чем беспокоиться, пока достаточны запасы рома. Вот когда они иссякнут, все резко изменится: безумие, которое до сих пор, словно робкий поклонник, витало где-то поодаль, начнет искушать экипаж и в конце концов обольстит наиболее слабых, и те не замедлят поднести пистолет к виску и спустить курок. Рейнольдс прикинул, сколько галлонов рома может храниться в винном погребке судна. Макреди, у которого имелись собственные запасы бренди, приказал Симмонсу, одному из помощников кока, выдавать ром разбавленным водой, что обычно практиковалось, дабы растянуть его запасы на возможно более длительный срок. И никто из матросов не возмутился, словно они тоже знали, что, пока у них будет ежедневная порция спиртного, они будут спасены от самих себя.
Рейнольдс перевел взгляд на капитана Макреди. Тот тоже покинул судно и теперь сидел на каком-то тюке, рядом с железной клеткой, которую метис Петерс установил на снегу для собак. Капитан был укутан в несколько шерстяных плащей, поверх которых надел непромокаемую накидку, а на голове у него красовалась шапка с наушниками, одна из тех шапок, какие в шутку называли «валлийскими париками». Наблюдая за мощной фигурой капитана, сидевшего совершенно неподвижно, как будто он позировал художнику, Рейнольдс понял, что должен немедленно вывести всех их из этого оцепенения, пока экипаж в полном составе не погрузился в беспробудную спячку. Пришла пора просить Макреди, чтобы он выделил людей для обследования местности, после чего они могли бы продолжить путь к цели, сулившей им в случае успеха такую славу и такое богатство, о которых они не могли и мечтать: найти проход к центру Земли.
Жан-Мишель Генассия. Удивительная жизнь Эрнесто Че
- Жан-Мишель Генассия. Удивительная жизнь Эрнесто Че. — М.: Азбука-Аттикус, 2014. — 416 с.
Французский писатель и сценарист Жан-Мишель Генассия, автор романа «Клуб неисправимых оптимистов», отмеченного французскими лицеистами Гонкуровской премией, создал вторую книгу — «Удивительная жизнь Эрнесто Че». Главный герой повествования — врач по имени Йозеф. Хотя молодому медику, по воле случая оказавшемуся в Алжире, удается лечить местных крестьян и даже бороться с эпидемией чумы, при столкновении с коричневой чумой, обескровившей Европу, он оказывается бессилен. Единственное, что не поддается коррозии в насквозь больном веке, — это любовь.
На второй год жизни в Париже Йозефу пришлось решать моральную проблему исключительной важности. В охваченной пожаром гражданской войны Испании лилась кровь. Генерал Франко твердо вознамерился вернуть утраченные позиции и на всех фронтах теснил войска республиканского правительства, погрязшего во внутренних распрях. Нацистская Германия и фашистская Италия поддерживали франкистов, а демократические державы препирались друг с другом и уклонялись от реальной помощи. Возглавляемое Леоном Блюмом1 правительство Народного фронта, у которого было много проблем в собственной стране, пошло на поводу у пацифистов и заняло позицию «невмешательства во внутренние дела другого государства», развязав фашистам руки.
Пятьдесят тысяч добровольцев из разных уголков мира стали членами интербригад2, воевавших за Республику. Большинство никогда не держали в руках оружия, и тем удивительнее был их смелый порыв отправиться в незнакомую страну и бросить вызов смерти. Все пребывали в возбуждении и только что не соревновались за право уехать раньше остальных. У каждого имелся собственный канал и проводники. Друзья Йозефа не сомневались, что он будет в числе первых волонтеров, а он думал, вступить ему в одну из французских бригад или присоединиться к батальону Домбровского3, где сражались поляки, чехи и венгры.
Вивиан определенно оказывала дурное влияние на Йозефа. Когда он сказал, что поедет в Испанию и будет сражаться, она спросила, что заставило его принять такое решение. Йозеф объяснил, что гражданская война в Испании не обычная братоубийственная война, а смертельное противоборство двух мировоззрений. От исхода зависят фундаментальные свободы.
— Какое тебе дело до страны, где ты ни разу не был? — не успокаивалась Вивиан.
Йозеф попытался объяснить по-другому:
— Фашисты сражаются с демократами. Если они возьмут верх, все будет кончено. Церковь и капитализм победят.
Вивиан ничего не понимала в политике.
— Думаешь, испанцы придут сражаться за чехов, если русские нападут на вас?
Йозеф решил дождаться конца учебного года, объяснив друзьям, что его временное отсутствие не решит исхода войны, зато он получит диплом биолога и будет гораздо полезней общему делу. Йозеф говорил уверенным тоном, давая понять, что никому не позволит усомниться в себе. Все его время занимали исследования, лекции в Институте Пастера и Вивиан. Он перестал ходить на собрания и демонстрации и весьма скептически высказывался о безрассудном энтузиазме товарищей, выдававших желаемое за действительное.
По-настоящему Йозефа интересовали только патогенные факторы4, грядущее выделение вируса оспы, использование пенициллина для лечения бактериальных инфекций и работа по поиску противотуберкулезного антибиотика.
Ну и диссертация — в свое время. Фундаментальный труд о сипункулидах5.
Кое-кто поглядывал на Йозефа с недоверием, другие перестали с ним разговаривать, узнав, что он ночи напролет танцует с Вивиан на балах на площади Бастилии. Витиеватые объяснения Йозефа — мол, можно быть социалистом и обожать вальс (одно совсем не противоречит другому) — никого не убеждали.
Товарищи отправились в Испанию без него. Эрнест тоже поехал, но это само собой разумелось — у него ведь была депрессия.
Йозеф отказывался признавать, что он, как и все остальное население, заразился фатализмом и покорностью судьбе. Каждый день приходили дурные вести, подтверждавшие, что Республика обречена. Потерял Йозеф и дружбу Марселена: когда он заявил, что его призвание — лечить, а не убивать, тот ответил взглядом, исполненным немыслимого презрения, и ушел — не сказав ни слова, не пожав ему на прощание руки. Позже Йозеф узнал, что Марселен вступил в батальон анархистов, сражавшихся в Барселоне. Там было очень жарко.
А потом, однажды вечером, Йозеф забыл Вивиан. Невероятно, но факт…
Любовь как будто стерли ластиком.
Может, привязанность растворяется в воздухе, не оставляя после себя ни малейшего следа? Если так, она — плод нашего воображения.
Их ужины, вечера в Ножане, ночи любви… все исчезло, испарилось. Он вспомнил о Вивиан, танцуя томное танго в «Элизе-Монмартр» с бретонкой из Лорьяна, которая ужасно нервничала и все время хихикала, но извиняться не пошел, сказав себе: будет правильней подождать — пусть остынет. Он придумывал всяческие отговорки и объяснения, потом решил сослаться на сложную операцию в клинике. Прошел день, другой, суббота и воскресенье, но Вивиан не появилась. Не пришла она и в понедельник. Никто ничего о ней не знал. Йозеф чувствовал досаду, гадал, не попала ли она в аварию на машине, не случилось ли несчастье у нее в семье? А может, она просто потеряла память?
Он больше никогда не встречал Вивиан ни в одном из тех мест, где они когда-то бывали.
Странный способ расставания. Странный, но, возможно, лучший? Расставание по взаимному согласию, в котором нет ни победителя, ни побежденного.
Получается, нас не было?
Вскоре после защиты диссертации Йозеф получил предложение занять должность в алжирском филиале Института Пастера.
Таких престижных предложений два раза не делают.
Йозеф не помнил, кто из философов сказал, что удача не стучится в дверь человека дважды. Не ухватишь ее за хвост, это сделает кто-нибудь другой. Немногие оставшиеся у него друзья заметили, что он в конечном итоге ничем от них не отличается, раз пожертвовал убеждениями ради карьеры. Он отвечал, что Испанской республике уже не поможешь, победа Франко неизбежна, так что нет никакого резона ввязываться в схватку чести — о да, полную величия и героизма, но совершенно бессмысленную и самоубийственную. Он продолжит борьбу на свой манер, в Алжире.
Это было бурное время. Проглотив Австрию, Гитлер решил присоединить к Германии Судетскую область, которая по Версальскому договору принадлежала Чехословакии. Франция и Великобритания были связаны с Чехословакией союзническим договором, и угроза новой мировой войны стала реальностью. Все страны начали мобилизацию. В Мюнхене, на конференции последнего шанса6, премьер-министр Соединенного Королевства и председатель правительства Франции спасли мир, отдав Чехословакию на растерзание фюреру. Войны удалось избежать, все испытали облегчение и сделали вид, что забыли о нарушенных обязательствах и не заметили, что совершили стратегический просчет. Благодарные народы приветствовали своих руководителей, а те чувствовали стыд за сговор.
Йозеф позвонил отцу, спросил, как он поживает, и поинтересовался его мнением касательно полученного предложения. Жалованье ему пообещали небольшое, события на родине приобрели угрожающий оборот, так что он бы предпочел вернуться в Прагу. Эдуард принялся разубеждать сына: его присутствие в Чехословакии хода истории не изменит, а упустить представившийся исключительный шанс нельзя ни в коем случае. Лучшая лаборатория мира выбрала Йозефа среди множества других претендентов, и отцовское сердце полнится счастьем: честь, оказанная Каплану-младшему, оправдывает все жертвы, принесенные Капланом-старшим. Эдуард заставил Йозефа поклясться, что он уедет в Алжир.
Четыре дня спустя он должен был сесть на корабль в Марселе, чтобы через двадцать шесть часов оказаться в Африке.
В ночь перед отправлением Йозефу приснился кошмар, он проснулся в холодном поту, дрожа всем телом. Во сне он брел по бойне, вокруг лежали горы трупов — мужчины с перерезанным горлом, женщины со вспоротыми животами. По пятам за ним следовал мясник с выколотыми глазами, в затылок ему дышали мертвецы. Потом на него прыгнул монстр — и тут же исчез, как по волшебству. Наступила леденящая душу тишина. С потолка лилась кровь, Йозеф был весь липкий и постепенно погружался в красный зыбучий песок, размахивал руками, пытаясь удержаться на поверхности.
Утром Йозеф кинулся в почтовое отделение на авеню Сент-Антуан и три часа прождал вызова, рискуя опоздать на пароход. Наконец его соединили, отец как раз собирался уходить из кабинета. Йозеф стал уговаривать его бежать, пока еще есть время, но Эдуард ничего не хотел слышать. Йозеф раз десять повторил, что умоляет отца покинуть Чехословакию, но тот твердо решил остаться. Да, десятки тысяч чехов собирают чемоданы, но он не уедет, потому что не чувствует никакой угрозы. Большинство здравомыслящих пражан считают, что Гитлер не идиот и не нападет на союзников, что рано или поздно он в поисках жизненного пространства вторгнется в Россию, она — его главный враг. Чехам бояться нечего: единственное, что нужно фюреру, — это их военные заводы.
По пути в Алжир была сильная качка, шумели двигатели, и Йозеф провел ночь на палубе, наблюдая за тремя чайками, летавшими над форштевнем. Еще до захода солнца в воздухе разлился молочно-голубоватый свет. Чайки скрылись из виду. Йозеф проводил их взглядом и вдруг заметил вдалеке слева по борту неясные очертания суши.
«Нет, это не Испания! — подумал он. — Здесь нет никакой земли».
Далеко на горизонте, между небом и морем, змеилась багровая линия, едва освещенная пробивающимся сквозь облака светом.
«Если бы я поддался движению души, был бы сейчас мертв».
1 Блюм, Андре Леон (1872–1950) — французский политик, первый социалист и первый еврей во главе французского правительства.
2 Интербригады — вооруженные подразделения, сформированные из иностранных добровольцев, участвовавшие в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев в 1936–1938 гг.
3 Батальон Домбровского — XIII интернациональная бригада имени Я. Домбровского — воинская часть, составленная в основном из поляков, участвовавшая в гражданской войне в Испании на стороне республиканских войск.
4 Патогенный фактор — болезнетворный возбудитель.
5 Сипункулиды — тип морских червеобразных организмов.
6 Конференция проходила в конце сентября 1938 г. В Мюнхене встретились политики западных держав — Англии и Франции, с одной стороны, и Германии и Италии — с другой. Соглашение, подписанное 30 сентября, касалось передачи Германии Судетской области Чехословакии.
Эрленд Лу. Переучет
- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, 2014. — 160 с.
В издательстве «Азбука» выходит новый роман Эрленда Лу «Переучет». Поэтесса Нина Фабер, чья «тактичная лирика была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента», была не замечена жюри главной в Скандинавии литературной премией. Уехав в Стамбул, Нина долго хранила молчание и лишь десятилетие спустя решилась выпустить новый сборник стихов «Босфор». Но разгромная и вопиюще несправедливая рецензия в университетской газете лишила поэтессу терпения: теперь кто-то должен заплатить по всем счетам.
Бытовало мнение, что в семидесятых Нину Фабер обошли главной на всю Скандинавию литературной премией. Тактичная лирика Нины была
по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном,
крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия,
вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом
доставалась другим. Ее получали датчане, финны, шведы, неловко сказать, исландцы. Деньги и
признание не были бы Нине лишними. Другим,
видимо, тоже.В восьмидесятые у тонкой, ломкой лиричности
не было шанса тягаться с формализмом и экспериментом, не говоря уже о втором-третьем-пятом уровнях в мегатексте девяностых.Начало нового тысячелетия вернуло Нине
шанс, но ее вера в себя ослабела, а в ближайшем
кругу ее списали с поэтических счетов. Нине не
работалось, у нее все подряд не клеилось. Она собачилась с сыном, переругалась с друзьями и в целом была разочарована в жизни, баловавшей ее
не больше мачехи.Нина пустилась во все тяжкие. Старые приятели из Совета по делам литературы выбили ей
трехлетнюю творческую стипендию. Нина расплакалась от радости. И пропала с радаров на несколько лет. Поговаривали, что она пьет, вроде пишет,
кажется, завела роман в Стамбуле. Внезапно она
вернулась, сняла домик с тремя сотками в городском садовом товариществе (она полжизни значилась в листе ожидания) и помирилась с сыном
Людвигом. Умерила питейный раж и отпраздновала шестьдесят пять без шума и пыли.Четырнадцать месяцев подряд она писала, обложившись сотнями страниц черновиков и записей, привезенных из Стамбула. Сочинялось на
одном дыхании, совестно работой назвать. Нина
цвела. Сто семьдесят стихотворений представила она на суд прежнего своего редактора, найдя
его после двенадцатилетнего перерыва. Они ровесники, Като Волд был женат, но, естественно,
развелся, снова женился и опять развелся, он
обладатель завидной должности в престижном
издательстве, хотя в своем цеху далеко не главный гений. Было время, Като трепетал перед литературой, но те дни давно миновали. Зато человек Като приличный. Часто ходит в театр и на
лыжах и не рвется облапошить человека без повода. В основу стихотворного цикла, названного
Ниной «Босфор», легли ее впечатления от пейзажа за окном стамбульской квартиры. Вдохновляясь импрессионистами, она описывала один и
тот же вид из окна, город, мост, улочки, в зависимости от погоды и настроения пробуждающие час от часу и тем более день ото дня несхожие ассоциации.Като Волд прочел, и ему понравилось. Он не
ждал от Нины ничего, тем более такого уровня.
Вместе они отобрали восемьдесят стихотворений.
Книга откроет перед Ниной двери, закрытые десятки лет, и вернет ей уверенность в себе. Сообщит читателю, что Нина не только жива, но и пишет как никогда хорошо. Так, по крайней мере, показалось Като. Он не преминул даже сказать, что
и «Книжный клуб» не устоит перед таким соблазном, и хотя на деле тот устоял, восторгов и ожиданий насчет «Босфора» поначалу было много.Сама Нина книгой была довольна, но не разделяла уверенности Като и издательства в том,
что успех предрешен. Мир очень изменился. Авторитетные литературные критики, частью знакомые ей по альковным делам, вышли в тираж,
их заменили юные законодатели мод завтрашнего дня, а с ними как-то и не переспишь. Не то чтобы
Нина в постели добывала восторженные рецензии на свои книги, но она тепло вспоминала то
фантастическое время, когда граница между пишущей братией и критиками была приятно эфемерной и люди с обеих сторон, да что там, со всех
сторон составляли одну, как говорится, большую
семью. Практично и душевно было все устроено.
Но этот поезд ушел, давно и безвозвратно, и сентябрьским утром в начале второго десятилетия
нового века, в день выхода «Босфора» в свет, Нина Фабер начеку и на взводе, даром что и так была вся на нервах последние недели. Срывалась и
раздражалась по любому пустяку. Впрочем, последние лет десять это ее привычное состояние.
Она давно все про себя поняла. Когда-то ей были
открыты все пути. Она могла получить любую
специальность, стать медицинским работником
например. Эта мысль преследует Нину. Ее жизнь
могла быть иной. Доктор Фабер. Сам по себе титул неизбежно вызывал бы трепет и уважение
окружающих. Не говоря уже о наполнении пенсии в те же ее шестьдесят семь лет. Или стала бы
окружным судьей. Да мало ли прекрасных работ.
Хоть бы и совсем скромно — учителем. Жила
бы, как люди обычно живут, на обычные деньги,
плюс оплаченный отпуск и соцпакет. А так стала
дилетантом, считает Нина. Раньше не была, а теперь стала. Она полагала, что с возрастом и опытом придут основательность и спокойствие, но
все наоборот, сильнее становятся только стресс и
страх не оказаться в отличницах. Чувство, что она
обязана что-то доказать, стало гораздо сильнее.*
Себя Нина считает никчемной. Да, у нее бывали счастливые минуты, слова легко подчинялись
ей, и она сочиняла из них тексты, издавала, но
механика этого дела недоступна рациональному
объяснению, Нина ею не владеет. Кое-что ей в
жизни удалось, свидетельством тому книги, но
как она умудрилась написать их, неизвестно. Нина не приручила стихи, они рождаются сами,
когда вздумают, отчего не чреватое ни деньгами,
ни всеобщими восторгами стихоплетство легко
обесценивается, особенно в глазах самой Нины,
тем более в мрачный период, из коих ее жизнь по
преимуществу и состоит.Нина судит себя беспристрастно и видит, что
иногда преуспевает в незачетных активностях, но
все анкетно-статусное не дается ей, вся эта конкретная сторона жизни, практическая, межличностная. Нина всегда ненавидела вопрос, где она
работает. Люди в основном имеют нормальную
работу, некоторые служат даже экспертами. Услуги, предлагаемые ими, востребованы, за них платят серьезные деньги. Господи, не раз думала Нина, в самый тучный свой год я зарабатываю в несколько раз меньше простого электрика, а они
учатся совсем недолго и на всю жизнь обретают
хлебную профессию. Поменять провода, поставить розетки или распределительный щиток —
нужда в этом есть всегда. А ее стихи игнорируют
законы электромагнетизма, не способствуют росту ВВП, рассчитаны на фантазеров и мечтателей. В свое время у нее был круг читателей, но ее
ровесники, когда-то бредившие стихами, давно
стали как все и переключились на биографии политиков.*
Вначале Нина гордилась принадлежностью к
насту, к тонкой прослойке рисковых и бедовых
идеалистов, они выгрызают истинную сущность
жизни из каждого мгновения, данного остальным
лишь для забот о размере будущей пенсии, но уже
много лет как она презирает всех писак, включая
себя, а также все, что написала или пишет. Хотя
машинально то и дело мысленно ставит метку,
собирая впрок всякий сор для будущих стихов.
А они прут и прут, сами, почему так происходит,
неизвестно, но они рвутся наружу, как бы Нина
ни артачилась. Аж тошно. Хотя теперь-то уж что,
столько лет она таким манером жила, теперь только зубы стиснуть и дотерпеть. Еще два года, и она
получит пенсию. Да, минимальную, социальную,
а все же стабильность. Деньги каждый месяц. Если питаться разваренным горохом, а иногда разводить из него супчик с беконом, то можно жить
неделями на несколько сотенных, главное пить не
начать, но с этим она почти завязала. Отсутствие
планомерности и дотошности — вот что Нина
всерьез в себе презирает. С ранней молодости мечтала она, например, сдать на пилота легкого самолета, но упорно отодвигала мечту покружить над пустыней на потом, когда появятся лишние
деньги, отчего-то она всегда видела себя в кабине
кукурузника именно над барханами: ветер собрал
пески в причудливые зыбкие звезды, и Нина с
воздуха фотографирует их для престижного журнала. Из этого ничего не вышло, Нина сдалась, и
не столько из-за денег, хотя и это оставалось проблемой, но признав, что ей не хватит дотошности
и четкости. Она никогда не учтет всех нюансов,
что подлежат учету. К гадалке не ходи, не совсем
оптимальные погодные условия не удержат ее от
полета. И станет она новостью в разделе происшествий, типа: спортивный самолет потерпел аварию, врезавшись в тумане в горный склон или
выработав в ноль топливо где-то в северном Хельгеланне. В царстве поэзии интуиция изредка помогает ей, но в реальном мире дефицит четкости
означает смерть. Эта нехватка дотошности давно
породила в Нине презрение к себе, для избавления от него она с переменным успехом практиковала работы в саду, чтение, хождение босиком по
росе, временами алкоголь. В это сентябрьское утро страх и напряжение достигли апогея. Что, если
вновь фиаско? Сможет ли она жить дальше с тем
же ощущением приниженности? Она хочет опять
расправить плечи, вовремя оплачивать счета, а в
глубине души мечтает, конечно же, что взойдет ее звезда.
Йонас Люшер. Весна варваров
- Йонас Люшер. Весна варваров. — М.: РИПОЛ классик, 2014.
В октябре в издательстве «РИПОЛ классик» выходит роман швейцарского писателя и философа Йонаса Люшера. Главный герой «Весны варваров» — обленившийся богатый швейцарец — отдыхает в роскошном отеле-оазисе Туниса, где в то же время молодые англичане из финансовых кругов играют свадьбу. Внезапное наступление кризиса влечет за собой банкротство Англии, свадебный пир оборачивается вакханалией, «весной варваров», вмиг отказавшихся от устоев цивилизации и всех приличий. Герой-швейцарец делает для себя целый ряд жутких открытий и в итоге оказывается в сумасшедшем доме, где и рассказывает на прогулке о своих отпускных впечатлениях. Диагноз, поставленный писателем современному обществу, звучит ужасно, но в книге он зафиксирован стильно, необычно и смешно.
— Нет, — сказал Прейзинг, — не о том ты спрашиваешь. Он встал посреди дорожки, чтобы подчеркнуть серьезность своего упрека. Невыносимая его привычка… Из-за нее мы гуляем по этой посыпанной гравием дорожке, как две старые, страдающие одышкой и избыточным весом таксы. И все же каждый день я именно с Прейзингом выхожу на прогулку, ведь он, несмотря на все досадные черты характера, для меня здесь лучший товарищ.
— Нет, — повторил Прейзинг, наконец тронувшись с места, — ты спрашиваешь не о том. Прейзинг говорил уж очень много, к тому же высказываниям своим он придавал чрезвычайное значение, да еще и знал наперед, как следовало бы поставить вопрос, дабы поток его словес устремлялся в нужное русло. Мне — в известной степени узнику здешних мест — ничего почти не оставалось, как только следовать намеченному им курсу.
— Погоди-ка, — продолжал он, — я сумею подыскать тому доказательства и ради исполнения такового намерения поведаю тебе некоторую историю.
Вот опять одна из привычек: использовать такие обороты речи, которые сохранились, как он доподлинно знал, единственно в его репертуаре. Подозреваю, впрочем, что эту дурь за последние недели волей-неволей позаимствовал у него и я сам. Порой возникали веские причины усомниться в том, что общение шло и ему, и мне на пользу.
— История весьма поучительная, — пообещал он. — История, сплошь состоящая из невероятных поворотов, опасных приключений и экзотических соблазнов.
Тот, кто ожидает теперь скабрезного рассказа, глубочайшим образом ошибается. Прейзинг никогда не упоминал о своей интимной жизни. Тут мне и опасаться не стоило — я слишком хорошо его знал. Да была ли та жизнь? Остается лишь строить предположения, с трудом воображая эдакое. Хотя и обмануться легко. Ведь я сам иногда удивляюсь, глядя в зеркало, что человек, в котором так мало жизни, способен был отдать кому-то ее частичку. Прейзинг, готовясь приступить к рассказу, задержал шаг, как будто бросая взгляд в прошлое, вроде бы представшее ему на горизонте, а горизонт у нас тут совсем неподалеку, ибо он образован верхним краем желтой стены. Еще Прейзинг прищуривал глаза, задирал повышенос и складывал трубочкой свои тонкие губы.
— Возможно, — завел он наконец рассказ, — вовсе ничего бы и не случилось, когда бы Проданович не отправил меня в отпуск.
Проданович — это не домашний врач, хотя именно он поместил сюда Прейзинга. Проданович — это некогда молодой и все еще блестящий сотрудник Прейзинга, тот самый, кто изобрел вольфрамовую схему CBC — электронный элемент, без которого во всем мире ни одна антенна радиосвязи не могла бы осуществлять свою работу и который спас унаследованное Прейзингом коммандитное товарищество по приему телевизионного сигнала и наружным антеннам от грозящего банкротства, а далее вывел его на немыслимые высоты лидерства в производстве схем-СВС на мировом рынке. Отец Прейзинга, повременив с уходом в иной мир ровно столько времени, сколько понадобилось самому Прейзингу, чтобы завершить экономическое образование, прерванное полуторагодовой учебой в частной школе вокального искусства в Париже, завещал сыну производство телевизионных антенн с тридцатью пятью работниками в то время, когда кабельное телевидение давно уже вступило в свои права. Фирма, выросшая из дедовской мануфактуры «Дроссель & Потенциометр», где предки Прейзинга ранили пальцы в кровь, перематывая тонкую медную проволоку, обеспечивала тогда едва ли не весь свой оборот производством многометровых, но почти безусых, а оттого действительно недорогих антенн, которые радиолюбители — увы, тоже вымирающая порода — имели обыкновение ставить на крышах.
Прейзинг, лично ни в чем не повинный, возглавил гиблую ту фирму, когда требовалось принять ряд действенных решений, то есть и сомневаться не стоит, что предприятие не дожило бы доныне, если бы тот самый Проданович, молодой специалист-метролог, не разработал вольфрамовую схему-СВС и не взял бразды правления в свои руки. Значит, Проданович был в ответе и за то, что Прейзинг со временем стал не просто состоятельным собственником, но еще и генеральным директором общества с полутора тысячами сотрудников и филиалами на пяти континентах. Для видимости хотя бы, ведь операционную деятельность динамичного предприятия, ныне носившего динамичное название Prixxing, давно вел Проданович вместе с командой успешных людей, готовых к принятию решений и созданию ценностей. Однако и Прейзинг как лицо фирмы был пока востребован, ибо Проданович знал, что одного у Прейзинга не отнять: он умеет внушить ощущение надежности, твердости духа семейной фирмы в четвертом поколении. Лишь в этом одном отказывал себе Проданович, сын боснийского буфетчика, ибо сам придерживался мнения, что балканщина символизирует нестабильность, а уж такого впечатления следует избегать любой ценой. Проданович, когда только позволял плотный график, с удовольствием проводил по городским школам непродолжительные встречи с трудновоспитуемыми, являя собой пример успешной интеграции в общество. Итак, этот самый Проданович, обладатель всех полномочий, отправил Прейзинга в отпуск. Именно так он поступал, когда назревала необходимость важных решений.
Прейзингу удалось, как я сразу догадался, с самых первых слов своего рассказа увильнуть от ответственности: мол, виновник последующих событий вовсе не он сам. Не пришлось ему и решать, куда ехать. Проданович, сама эффективность, всегда старался совместить приятное с полезным. В данном случае это означало, что Прейзингу надо слетать в Тунис, где в низеньком строеньице из гофрированной стали в промышленной зоне, каких немало вокруг Сфакса, прямо на дороге в столицу размещается одно из их предприятий-поставщиков. Хозяин сборочного завода Слим Малук — оборотистый делец, развернувший деятельность в таких несходных областях, как изготовление электронных приборов, торговля фосфатами и эксклюзивный туризм. Ему принадлежит целый ряд элитных отелей, Прейзинг станет его гостем. Малук искал сближения со всеми, кто имел какое-то отношение к телекоммуникациям, но не просто оттого, что за телекоммуникациями он видел будущее, теперь это каждый видит, а ради спасения фамильного предприятия. Четырем своим умным и, как заверял Прейзинг, внешне весьма приглядным дочерям он не мог передать — к великому сожалению, но таковы тунисские порядки — управление семейным холдингом, так что ответственность ложилась полностью на плечи его сына. На плечи Фуада Малука, преждевременно согбенные под моральной тяжестью изучения геоэкологии в Париже, что не позволяло ему возглавить фирму, где основной оборот делают фосфаты, которые впоследствии в виде искусственных удобрений лежат на салатных полях Европы. Фуад даже грозил отцу попытать счастья в каком то экологически чистом крестьянском хозяйстве департамента Ло. Слим Малук, человек не просто порядочный (Прейзинг полагал, что составил о нем верное представление), но еще и разумный, намеревался отойти от фосфатов и сделать упор на телекоммуникации, отчего и возлагал надежды на знакомство с Прейзингом.
Итак, Прейзингу предстояло бегство из туманного Зееланда прямиком в тунисскую весну. Твидовый пиджак и вельветовые брюки цвета бургундского вина он сменил на пиджак в мелкую клетку цвета яичного ликера и свободные хлопковые штаны с заутюженной складкой — костюм, с его точки зрения, недопустимый, однако подготовленный для него экономкой, которую он побоялся обидеть, а потому лишь мягко улыбнулся и уселся в ее машину (ведь собственной машины Прейзинг не имел), чтобы та отвезла его в аэропорт.
— Полет прошел на редкость приятно, — уверял меня Прейзинг. — Против обыкновения, я употреблял спиртное. Стюардесса меня не расслышала и вместо заказанного сока подала виски, но я не стал отказываться, я расчувствовался из-за того, что ее нескладная фигура столь резко не соответствовала бесчисленным стилизованным газелям, украшавшим ее униформу. Стюардесса была действительно нехороша собой, а пассажиры, считая себя лишенными одного из удовольствий, которое якобы оплатили вместе с приобретенным авиабилетом, пытались на ней отыграться. Справедливости ради следовало использовать любую возможность быть с нею полюбезнее, поэтому за первой порцией виски последовала вторая, а за второй порцией последовала третья. Слим Малук в сопровождении старшей из дочерей встречал Прейзинга в прохладном зале аэропорта Тунис-Карфаген, и, когда Прейзинг увидел, каким на зависть величавым взмахом руки Малук отогнал по жаре водителя такси от здания аэропорта и пригнал на его место своего шофера, он на миг едва не поверил сплетне, будто Малук является внебрачным сыном Роже Тринкье, автора пособия «La Guerre Moderne«1, и его алжирской любовницы, которая в ту ночь, когда французы оставили Магриб, с малюткой Слимом на руках бежала в Тунис через пустыню. Благодаря своим прелестям и освоенной машинописи, она вскоре устроилась здесь на место секретарши, а далее жены некоего второразрядного депутата из партии Неодестур, замышлявшего покушение на президента Бургибу, осуществить которое не позволил лишь инфаркт, разбивший парламентария посреди заседания и заодно принесший ему, погибшему при несении службы отечеству, посмертный орден, а его вдове, бывшей любовнице французского палача алжирцев, изрядную пенсию.
Но источник, как помнилось Прейзингу, недостоверен. Этот сюжет поведал ему некий человек по имени Монсеф Даг фус, который не просто был злейшим конкурентом Малука, но еще и предлагал Прейзингу сборку схем-СВС на своем заводе в пригороде Туниса по значительно более выгодной цене, причем откровенно признавался, что эта исключительно выгодная цена объясняется в первую очередь использованием труда беженцев из Дарфура, малолетних динка. Да еще и называл их ловкими ребятами. Прейзинг рад бы сразу отказаться, но ведь с детским трудом все не так-то просто.
Вспомнилось ему, как однажды они с Продановичем ужинали в клубе либералов-предпринимателей, а сосед по столу объяснял, насколько сложна вся история с этим детским трудом. Намного сложнее, чем того желал бы любой доброхот, да ведь дело-то совсем не простое, а при определенных обстоятельствах оно, может, и не худшее из зол. Сейчас Прейзинг не был уверен, что столкнулся с теми самыми определенными обстоятельствами, ведь тогда он с большим усилием вникал в пояснения молодого человека. Но на всякий случай он отложил решение, ведь хорошо бы сначала посоветоваться с Продановичем, так что Монсеф Дагфус, услышав весьма смутные отговорки, остался не при делах. Но в оценке он ошибся. Он принял Прейзинга за крупного игрока. Скомпрометировав Слима Малука, своего конкурента, сомнительным его происхождением, завлекая Прейзинга невероятно низкими ценами, но все равно не став ему деловым партнером, он пустил в ход тяжелую артиллерию и вызвал шестерых своих дочерей. Мол, предоставляется возможность выбора, бери любую, а по возрасту все они на выданье, правда, вторая слева уже помолвлена, но в случае необходимости отчего же не устроить жениху дорожную аварию, хотя дело это деликатное, да вдобавок и пять остальных ничем не уступают шестой, нареченной. «Voila!» — сказал он, указав на своих дочерей и разведя руками. «Voila!» — отозвался Прейзинг, ибо не знал, что сказать. Разумеется, Прейзинг был шокирован, но ведь он — убежденный сторонник культурного релятивизма, причем весьма далекого от шовинизма толка. Его либеральные взгляды — тепленький, как вода в детской ванночке, релятивизм. Тем не менее он всегда готов вынести перед собой на прогулку, подобно хоругви, этику добродетелей. Прейзинга, большого поклонника Аристотелева учения о «мезотес», всегда утешало, что эту самую «середину» не вычислить арифметическим способом, она определяется — да, вот именно — в каждом случае отдельно. А тут сталкивались миры. Тут следовало быть поосторожней. Труднейший для него случай, когда надо всерьез пораскинуть умом.
Я уж было испугался, что его рассказ клонится к магрибской Шехерезаде. Вот он, экзотический соблазн: Прейзинг перед лицом шести тунисских малолеток, предложенных ему отцом как choix de fromage, как сыр на выбор в ресторане «Кроненхалле». История все-таки грозила стать скабрезной.
— Но именно тогда, когда стало совсем невмоготу, — продолжал Прейзинг, — когда этот человек принялся мне пенять, что если дочери недостаточно хороши, то нет ли смысла выпроводить их отсюда, а взамен пригласить троих его сыновей, когда я приложил все усилия, заверяя его, что выбор мучителен, ибо каждая из шести неповторима в своей привлекательности, а сам внутренне пытался найти выход, чтобы вовсе отказаться от предложения, но не обидеть его смертельно, именно тут явился за ним прислужник, на лице — лихорадочные красные пятна. Пожар на одном из фосфатных заводов! Монсеф Дагфус, оставляя меня на попечение дочерей, которые трогательнейшим образом за мною ухаживали, пообещал вскоре вернуться, чтобы узнать о моем решении.
Однако этого не случилось. Покуда дочери под надзором старухи подносили мне чай и сладости, Монсеф Дагфус размахивал руками и дико орал, пытаясь загнать рабочих обратно в очаг пожара, чтобы те вступили в битву с огнем. Но ни взмахи, ни стращание не возымели действия, и тогда он схватил ведро песка с лопатой и шагнул, подавая пример личного мужества, прямиком к горящему складу, навстречу порожденной мощным взрывом ударной волне, оторвавшей Дагфусу голову, а его фосфатный завод, гофрированную сталь, допотопные конвейеры, французские экскаваторы и американские погрузчики разметавшей широким радиусом по каменистому ландшафту.
— Тот же слуга принес печальную весть, и я настроился на фольклорный траурный обряд. Громкие стенания, вырывание волос пучками, картинное расцарапывание искаженных горем лиц, обмороки и все такое прочее. Вместо этого шесть дочерей молча переглянулись, унесли стаканы и серебряный чайник, а меня выставили за дверь с недоеденной пахлавой в руке.
Правду ли рассказывал Прейзинг, нет ли — нипочем не разберешь, но суть не в том. Для Прейзинга суть в морали. По его мнению, в любой истории, достойной пересказа, содержится мораль. Обычно эти истории свидетельствуют о собственной его благоразумности, которую он столь высоко превозносит. Благоразумности, которую доктор Бечарт считает подлежащей лечению, но для которой даже через три недели после поступления Прейзинга все еще не подыскала точного определения в психопатологии.
Диагностика затрудненная, симптоматика неявная, к тому же нежелание пациента признать свою болезнь, проявлявшееся то вдруг в любезности и доброжелательности, то опять в твердолобом упрямстве, нисколько не упрощало дела.
Моя заурядная депрессия несравненно проще поддавалась диагностике и тем самым не представляла особого интереса. Хотя оба мы — что Прейзинг, что я — не могли признать себя способными к самостоятельным действиям. Ему удалось приписать этот явный порок к своим добродетелям. Я же, напротив, очень от него страдаю. Но попытка что-либо зменить означала бы действие.
— Так или иначе, — продолжал Прейзинг, — сведения поступили из недостоверного источника, да и без того поведение Слима Малука не давало ни малейшего повода усомниться в безупречном его происхождении. По всей форме усадил он меня рядом с дочерью Саидой на заднее сиденье французского лимузина, чьи мореходные качества на разбитых мостовых Туниса вызвали у меня в памяти скачку на верблюде — впрочем, о верблюдах несколько позже, — перебил Прейзинг сам себя. — Слим Малук захлопнул за мною дверцу, а сам сел за руль стоявшего совсем рядом, но не замеченного мною внедорожника. Прижав трубку к уху и обворожительно сделав нам ручкой, он умчался прочь. Мы увидимся снова лишь вечером. К глубочайшему сожалению, как он меня уверял, ссылаясь на исключительную занятость, но зато Саида позаботится обо мне и проводит в один из находящихся в ее ведении отелей, предоставив мне там кров на первую ночь. Жестом, исполненным достоинства и развеявшим мои последние сомнения относительно семейства Малук, указывала мне Саида на достопримечательности, которые проплывали за тонированными автомобильными стеклами. Краешек Тунисского озера, несколько метров авеню Хабиба Бургибы, супермаркет Magasin General, какие-то диковинные двери. Я с интересом крутил головой. Так, будто вижу все это впервые. Малуку необязательно знать, что около года назад я уже провел несколько дней в Тунисе по приглашению Монсефа Дагфуса, его конкурента.
Машина остановилась на одной из улочек близ Place de la Victoire перед выбеленным известью четырехэтажным зданием с синими оконными ставнями, со множеством стройных колонн и узорной кладкой в мавританском стиле. Дверца автомобиля открылась, и Саида объявила: L`Hôtel d`Elisha. Ах, Элисса, известная также под римским именем Дидона, основательница и правительница Карфагена…
1 «Современная война» (франц.).
Ханна Ротшильд. Баронесса
- Ханна Ротшильд. Баронесса / Пер. с англ. Любови Сумм. — М.: Фантом Пресс, 2014.
В середине октября в издательстве «Фантом Пресс» выйдет «Баронесса» – история жанра нон-фикшн о самом богатом семействе мира. В центре повествования Ника Ротшильд, которая, влюбившись в джаз, бросила мужа и пятерых детей и посвятила жизнь спасению нищих чернокожих музыкантов, за что была лишена наследства. Автор книги – внучатая племянница героини. Этот факт позволяет ощутить максимальную документальность описанного. «Баронесса» доказывает, что деньги не способны сделать нас ни счастливыми, ни привлекательными. Главное – вовремя это понять.
ТА, ДРУГАЯ
Первым при мне упомянул о ней дедушка Виктор. Он пытался научить меня простенькому блюзу в двенадцать тактов, но мои одиннадцатилетние пальцы оказались неуклюжи, и слишком малы.
— Ты как моя сестрица, — проворчал дед. — Любить ты джаз любишь, но учиться терпения нет.
— Какая сестрица? Мириам или Либерти? — спросила я, сделав вид, будто не услышала критику.
— Нет — та, другая.
— Какая — другая?
В тот же день я отыскала ее имя на родословном древе Ротшильдов: Панноника.
— Кто такая Панноника? — спросила я своего отца Джейкоба (как-никак, она приходилась ему тетей).
— В семье ее звали Ника, а больше я ничего не знаю, — ответил он. — О ней никогда не говорят.
Наше огромное семейство рассеяно по всему свету, и отца, видимо, нисколько не смущало, что он мало что знает про одну из ближайших родственниц.
Но меня было уже не остановить. Я обратилась к своей двоюродной бабушке Мириам, сестре Ники, известному ученому, и та сообщила мне: «Ника живет в Нью-Йорке» — а после захлопнулась, как устрица. Еще один информатор добавил:
— Она — покровительница искусства, своего рода Медичи или Пегги Гуггенхайм джаза.
И перешептывания:
Ее прозвали «баронессой джаза». Она живет с чернокожим пианистом. Во время войны летала на бомбардировщике «Ланкастер». Тот наркоман, что прославился игрой на саксофоне — Чарли Паркер — умер в ее апартаментах. У нее пятеро детей и 306 кошек. Семья порвала с ней (вовсе нет, запротестовал кто-то). Ей посвящено двадцать песен (подымай выше, двадцать четыре). Она носилась по Пятой авеню наперегонки с Майлзом Дэвисом. Про наркотики слыхали? Она села в тюрьму вместо него. Вместо кого? Телониуса Монка. История подлинной великой любви.
— Какая она — Ника? — вновь пристала я к Мириам.
— Вульгарная. Она вульгарная! — сердито ответила моя двоюродная бабушка.
— Что это значит? — настаивала я.
Мириам объяснять не стала, но дала мне номер телефона сестры. И вот, в 1984 году, впервые отправляясь в Нью-Йорк, я за несколько часов до прибытия позвонила Нике.
— Хотите встретиться? — неуверенно предложила я.
— Охренеть как, — ответила она. Не очень-то похоже на то, как обычно выражаются семидесятилетние двоюродные бабушки. — Подъезжай в клуб к полуночи.
Этот район еще не затронула цивилизация. Полно наркоманских лежбищ и на улице в любой момент жди ограбления.
— Как найти клуб? — спросила я.
Ника расхохоталась:
— Увидишь мой автомобиль! — и повесила трубку.
Пропустить этот автомобиль мог бы разве что слепой. Огромной голубой «бентли», припаркованный посреди дороги. Внутри на кожаных сидениях обжимались двое пьянчуг.
— Пусть себе — зато присмотрят, чтобы тачку не угнали, — пояснила потом Ника.
Маленькую дверь в подвал найти было труднее. Я громко постучала. Спустя пару минут в двери отворилась форточка и за решеткой возникло смуглое лицо.
— Чего?
— Я ищу Паннонику, — сказала я.
— Кого?
— Паннонику, — повторила я, проклиная свой английский акцент. — Ее обычно Никой зовут.
— А, Баронессу! Так бы сразу и сказала.
Дверь распахнулась, за ней обнаружилось небольшое подвальное помещение — убогое, прокуренное, тесное. Немногочисленная публика слушала пианиста.
— Она за своим столиком.
Высмотреть Нику, единственного белого человека в этой компании, было нетрудно, тем более что сидела она прямо у сцены.
На снимки из нашего семейного альбома она походила мало. На фото была прелестная дебютантка, волосы цвета воронового крыла укрощены и зачесаны, выщипанным бровям придана модная изогнутая форма, рот накрашен — надутые губки, «укус пчелы». На другой фотографии Ника представала не столь элегантной — волосы распущены, ни намека на косметику, и все же вылитая голливудская звезда в роли шпионки времен Второй мировой. Но эта Ника нисколько не напоминала молодые свои ипостаси; яркая красота померкла, точеное лицо огрубело, сделавшись почти мужским. Голос ее я не спутаю теперь ни с каким иным: голос, который виски, сигареты и бессонные ночи размыли, как волны размывают берег, голос и рычащий, и рокочущий, речь, то и дела прерываемая задыхающимся смехом.
Во рту сигарета с длинным черным фильтром, шуба небрежно брошена на спинку узкого стула. Рукой Ника указала мне на свободное место и, взяв со стола чайник, разлила какую-то жидкость по двум надтреснутым фарфоровым чашкам. Мы молча чокнулись. В чайнике, по моим представлениям, должен был находиться чай. В горло хлынуло неразбавленное виски. Я поперхнулась, на глазах выступили слезы. Ника, запрокинув голову, хохотала.
— Спасибо, — пробормотала я.
Приложив палец к губам, она кивнула в сторону сцены:
— Шш! Слушай музыку, Ханна. Слушай!
Мне только что исполнилось двадцать два. Ожидания своего достойного семейства — и подлинные, и воображаемые — я как-то не сумела оправдать. Чувствовала себя несостоятельной: сама ничего не достигла, и свое привилегированное положение, открывавшиеся передо мной возможности, тоже использовала мало. Меня, как и Нику, не взяли на работу в семейный банк: отец-основатель, Натан Майер Ротшильд, закрыл для женщин из нашего рода все должности, кроме бухгалтера и архивариуса. После университета я пыталась найти работу и попала, как многие выпускники, в зазор: мечтала работать на BBC, но пока что получала отказы. Отец, по семейной традиции занимавший видное положение в банке, благодаря своим связям находил мне то одно, то другое место, но у меня не вышло ни руководить книжным магазином, ни заниматься недвижимостью, ни составлять каталоги предметов искусства. Ситуация для меня сложилась мрачная, и я искала — не то, чтобы образец для подражания, но какие-то новые возможности. По сути дела, искала ответа на вопрос: можно ли уйти от прошлого или мы навеки — заложники унаследованных взглядов и устаревших понятий?
Поглядывая через стол на внезапно обретенную двоюродную тетушку, я почувствовала прилив надежды. Зайди в клуб посторонний человек, он бы увидел всего лишь старуху, курящую сигарету и наслаждающуюся музыкой. Наверное, ему бы показалась чудной эта дама, при шубе, в жемчужном ожерелье — одобрительно дергая головой, она раскачивалась в такт фортепианному соло. Но я видела женщину, которая была сама собой, которая знала, где она и зачем. Я усвоила ее главный совет: «Жизнь только одна — не забывай».
Вскоре после той встречи я вернулась в Англию, получила, наконец, вожделенную работу на BBC и взялась за документальные съемки. Вновь и вновь мои мысли обращались к Нике. В ту пору, до Интернета и дешевых трансатлантических перелетов, путешествие в Америку было делом нечастым и поддерживать отношения через океан было нелегко. Как-то раз мы встретились в Англии, в доме ее сестры Мириам, в Эштон Уолд, потом я снова попала в Нью-Йорк. Я посылала Нике открытки, она мне — пластинки, в том числе «Телонику» — альбом Томми Фланагана, посвященный ее долгой дружбе с музыкантом Телониусом Монком. В альбом вошел и трек «Панноника». На конверте она надписала: «Дорогой Ханне, с любовью, Панноника». Я часто думала о Телониусе и Паннонике: каким образом встретились эти двое, люди столь разного происхождения? Что у них было общего, кроме вычурных имен?
Ника просила меня поставить эту пластинку моему деду Виктору. Тот сказал, что ему «вполне нравится» и только. «Он и Монка не понимал», — заметила Ника. Мне понравилась роль музыкального гонца между братом и сестрой. В другой раз Ника попросила меня передать деду пластинку пианиста Барри Харриса. Он отозвался о ней примерно с таким же энтузиазмом. Так я и сообщила Нике при очередной встрече.
— Сдаюсь, — махнула она рукой. — Ему лишь классику подавай. — И расхохоталась.
С Никой было весело. Она жила настоящим, не рассуждала, не читала мораль, не нагружала собеседника своим знанием и опытом. Какое облегчение после разговоров с ее братом Виктором и ее сестрой Мириам — с ними любой обмен репликами превращался в поединок умов, в интеллектуальное десятиборье, где от тебя требовалось немедленно предъявить и все, что выучила, и как ты умеешь распорядиться этими знаниями, логикой, риторикой, как подаешь себя. Когда я поступила в Оксфорд, дед позвонил мне и спросил: «Какую ты получила стипендию?» Мне-то повезло, что вообще приняли. Разочарованный, он тут же повесил трубку. Мириам на девяносто четвертом году жизни спрашивала меня, сколько книг я пишу. «Пока ни одной», — призналась я, но зато я снимала уже второй фильм. «Фильмов я сняла столько, что уже не считаю. Сейчас я пишу десять книг, в том числе одну про хайку». И она тоже повесила трубку.
В джазе я разбиралась плохо, но Ника никогда не заставляла меня почувствовать себя «не в теме», «неклевой», ее нисколько не огорчало, что я не знаю таких слов, как «хаза, чувак, зут, жирдяй, обдолбаться», а «Джек» для меня просто имя. Лишь в одном вопросе она проявляла непоколебимую твердость: Телониус Монк был гений, в одном ряду с Бетховеном. «Эйнштейном музыки» называла она его. И восьмым чудом света, раз уж принято насчитывать семь.
На декабрь 1988 года я запланировала командировку в Нью-Йорк, снять эпизод для документального фильма по искусству. Три вечера я собиралась провести с Никой, заготовила вопросы. Но 30-го ноября 1988 она внезапно умерла после операции по шунтированию. Я упустила эту возможность. Так и не познакомилась ближе с моей замечательной двоюродной бабушкой.
Вопросы, незаданные ей, преследовали меня. Повсюду я натыкалась на непрошенные напоминания: то мелькнет в фильме линия нью-йоркских небоскребов, то прозвучит припев из песни Монка, то поговорю с ее дочерью Кари — даже запах виски напоминал мне о ней. Моя работа заключалась в том, чтобы снимать документальные фильмы о людях, живых и мертвых. И во всех фильмах на заднем плане проступал силуэт Ники: я рассказывала о коллекционерах искусства и о людях искусства, а это темы, близкие Нике. Ее неожиданная смерть не оборвала нашу связь. Я решила, что вопросы и теперь можно задать пусть не самой Нике, но пережившим ее друзьям и родственникам.
Постепенно начал складываться рисунок ее жизни. Панноника родилась в 1913 году, накануне Первой мировой войны. Тогда наше семейство находилось на вершине могущества. Богатое, балованное детство в особняках, набитых предметами искусства. Потом Ника вышла замуж за красавца-барона, родила пятерых детей. У нее имелось великолепное шато во Франции, она одевалась в дизайнерские наряды, носила уникальные украшения, летала на аэропланах, гоняла на спортивных авто, ездила верхом. Она была частью космополитической элиты, состоявшей из олигархов, членов царствующих династий, интеллектуалов, политиков и плейбоев. Ника могла познакомиться с кем угодно, отправиться путешествовать куда вздумается — и часто так и делала. Неимущему человеку ее существование показалось бы райским, но в один прекрасный день 1951 года, как гром с ясного неба: Ника все бросила, укатила в Нью-Йорк и променяла высшее общество на компанию странствующих чернокожих музыкантов.
В Англии ее почти что забыли, она поддерживала связь только с детьми и с ближайшими родственниками. Публика вспоминала Нику лишь тогда, когда ее чудачества выплескивались на страницы газет. «Король бибопа умер в будуаре баронессы», — вопили таблоиды по обе стороны Атлантики. Потом стало известно, что она сядет в тюрьму за наркотики. Она вернулась — ее роль в биографическом фильме Клинта Иствуда «Птица«1 сыграла актриса, а затем Ника сыграла саму себя в документальном фильме «Неразбавленный виски» (Straight, No Chaser). Эту ленту сняли в 1968 году два брата, Кристиан и Майкл Блэквуды: с ручной камерой они следовали по пятам за Монком от его постели до концертного зала, в аэропорт и по темным переулкам, запечатлели на целлулоиде все подробности его повседневной жизни. Сохранились на пленке и эпизоды с сердечным другом Телониуса, баронессой Никой де Кенигсвартер, урожденной Ротшильд.
В этом фильме я впервые увидела Телониуса Монка. На заднем плане разглядела свою двоюродную бабушку.
— Знаете, кто это? — спрашивает Первосвященник Джаза оператора, танцуя по тесному подвалу. Он весил за 90 килограмм, ростом был метр девяносто, и казался громоздким и вместе с тем грациозным, когда вот так кружил, в безупречном костюме, бисерины пота на темной коже. Напевая, Монк перемещается от раковины к столу, тяжелые золотые перстни постукивают по стакану с виски. И вдруг он решительно оборачивается к камере:
— Я вас спрашиваю: знаете, кто она?
В ответ молчание. Монк жестом указывает в дальний конец комнаты. Камера, следуя его указанию, ловит в объектив белую женщину. Ника в окружении четырех чернокожих сидит в этой не то кухне, не то гардеробной, в этом преддверии, отделяющем улицу от сцены. Камера фиксирует детали: никакого гламура, нагая лампочка под потолком, груда немытой посуды в раковине. И женщина, отнюдь не похожая на «цыпочек», подружек рок-музыкантов: уже за сорок, неприбранные волосы падают на плечи, полосатая футболка и пиджак не слишком выигрышно смотрятся на пышной фигуре. Никакого сходства ни с наследницей большого состояния, ни с роковой женщиной.
— Она из Ротшильдов, — гнет свое Монк. — Ее семейство поставило на то, что король побьет Наполеона. — И, обернувшись к Нике, говорит:
— Я всем про тебя рассказываю. Я тобой горжусь.
— И про Суэцкий канал не забудь, — вставляет она слегка пьяным уже голосом. Ее взгляд, устремленный на Монка, полон обожания. — Они купили для Англии Суэцкий канал.
— Ну, с этим уже покончено, — уточняет музыкант помоложе.
— Вот вам Суэцкий канал! — Ника зажимает зубами сигарету и протягивает руку с воображаемым каналом на ладони.
— Ну и дела! — комментирует молодой.
— Я всем говорю, кто ты такая! — повторяет Монк. Для человека, который должен бы общаться с помощью музыки, он на удивление любит поговорить.
— Знаете, кто она? — еще раз спрашивает он и вплотную приближается к камере, чтобы заставить всех прислушаться. — Она миллионерша, она — Ротшильд.
Много раз я смотрела эту запись, пыталась лучше понять Нику, а также угадать, как реагировали на подобную откровенность старые друзья и все семейство. Об этом я спрашивала и моего отца Джейкоба.
— Мы о ней почти не вспоминали, — признался он.
— Даже когда узнали, что она попала в тюрьму? Что в ее квартире умер знаменитый саксофонист? — приставала я.
Отец запнулся в поисках точного ответа.
— Полагаю, все мы были огорчены и несколько шокированы.
Постепенно я превращалась в детектива-любителя. Что увело Нику из этих роскошных гостиных — в тот жалкий подвал? В те времена развод был непростым делом. За ним следовал общественный приговор, да и детей почти никогда не оставляли блудной матери. Ни образования, ни профессии Ника не имела, а значит, полностью зависела от семьи. Может быть, какая-то мрачная тайна, некая скрытая от всех причина побудила ее бежать из страны, прятаться в чуждом ей мире?
Или она сошла с ума? Иной раз она делала довольно странные заявления на публику. На вопрос, из-за чего рухнул ее брак, Ника ответила журналисту: «Мой муж предпочитал барабан». Кинорежиссеру Брюсу Рикеру она сказала, что переехать в Нью-Йорк ее побудила пластинка: «Я прослушала ее раз двадцать подряд, а потом еще и еще. Опоздала на самолет и так и не вернулась домой».
1 Фильм о джазовой легенде, саксофонисте Чарли Паркер по прозвищу Птица.
Мо Янь. Устал рождаться и умирать
- Мо Янь. Устал рождаться и умирать / Пер. с кит., примеч. И. Егорова. — СПб.: Амфора, 2014. — 703 с.
В книге «Устал рождаться и умирать» выдающийся китайский романист современности Мо Янь продолжает летописание истории Китая XX века, уникальным
образом сочетая грубый натурализм и высокую трагичность, хлесткую политическую сатиру и волшебный вымысел редкой художественной красоты.
Во время земельной реформы 1950 года расстреляли невинного человека — с работящими руками, сильной волей, добрым сердцем и незапятнанным прошлым. Гордую душу, вознегодовавшую на своих убийц не примут в преисподней —
и герой вновь и вновь возвратится в мир, в разных обличиях
будет ненавидеть и любить, драться за свою
правду, любоваться в лунном свете цветением абрикоса…КНИГА ПЕРВАЯ
ОСЛИНЫЕ МУЧЕНИЯ ГЛАВА 1
Пытки и неприятие вины перед владыкой ада.
Надувательство с перерождением
в осла с белыми копытамиИстория моя начинается с первого дня первого месяца тысяча девятьсот пятидесятого года. Два года до этого
длились мои муки в загробном царстве, да такие, что
представить трудно. Всякий раз, когда меня притаскивали на судилище, я жаловался, что со мной поступили несправедливо. Исполненные скорби, мои слова достигали
всех уголков тронного зала владыки ада и раскатывались
многократным эхом. Несмотря на пытки, я ни в чем не
раскаялся и прослыл несгибаемым. Знаю, что немало
служителей правителя преисподней втайне восхищались
мной. Знаю и то, что надоел старине Ло-вану1
до чертиков. И вот, чтобы заставить признать вину и сломить,
меня подвергли самой страшной пытке: швырнули в чан
с кипящим маслом, где я барахтался около часа, шкворча, как жареная курица, и испытывая невыразимые мучения. Затем один из служителей поддел меня на вилы,
высоко поднял и понес к ступеням тронного зала. По бокам от служителя пронзительно верещали, словно целая
стая летучих мышей-кровососов, еще двое демонов. Стекающие с моего тела капли масла с желтоватым дымком
падали на ступени… Демон осторожно опустил меня на
зеленоватые плитки перед троном и склонился в глубоком поклоне:— Поджарили, о владыка.
Зажаренный до хруста, я мог рассыпаться на кусочки от легкого толчка. И тут откуда-то из-под высоких
сводов, из ослепительного света свечей раздался чуть
насмешливый голос владыки Ло-вана:— Все бесчинствуешь, Симэнь Нао?2
По правде сказать, в тот миг я заколебался. Лежа в лужице масла, стекавшего с еще потрескивавшего тела, я
понимал, что сил выносить мучения почти нет и, если
продолжать упорствовать, неизвестно, каким еще жестоким пыткам могут подвергнуть меня эти продажные служители. Но если покориться, значит, все муки, которые
я вытерпел, напрасны? Я с усилием поднял голову — казалось, в любой момент она может отломиться от шеи —
и посмотрел на свет свечей, туда, где восседал Ло-ван,
а рядом с ним его паньгуани3
— все с хитрыми улыбочками на лицах. Тут меня обуял гнев. Была не была, решил
я, пусть сотрут меня в порошок каменными жерновами,
пусть истолкут в мясную подливу в железной ступке…— Нет на мне вины! — возопил я, разбрызгивая вокруг капли вонючего масла, а в голове крутилось: «Тридцать лет ты прожил в мире людей, Симэнь Нао, любил
трудиться, был рачительным хозяином, старался для общего блага, чинил мосты, устраивал дороги, добрых дел
совершил немало. Жертвовал на обновление образов
святых в каждом храме дунбэйского4
Гаоми 5, и все бедняки в округе вкусили твоей благотворительной еды. На
каждом зернышке в твоем амбаре капли твоего пота, на
каждом медяке в твоем сундуке — твоя кровь. Твое богатство добыто трудом, ты стал хозяином благодаря своему
уму. Ты был уверен в своих силах и за всю жизнь не совершил ничего постыдного. Но — тут мой внутренний
голос сорвался на пронзительный крик — такого доброго
и порядочного человека, такого честного и прямодушного, такого замечательного обратали пятилепестковым
узлом 6, вытолкали на мост и расстреляли! Стреляли всего с половины чи 7, из допотопного ружья, начиненного порохом на полтыквы-горлянки8
и дробью на полчашки.
Прогремел выстрел — и половина головы превратилась
в кровавое месиво, а сероватые голыши на мосту и под
ним окрасились кровью…»— Нет моей вины, оговор это все! Дозвольте вернуться, чтобы спросить этих людей в лицо: в чем я провинился перед ними?
Когда я выпаливал все это, как из пулемета, лоснящееся лицо Ло-вана беспрестанно менялось. Паньгуани,
стоявшие с обеих сторон, отводили от него глаза, но и со
мной боялись встретиться взглядом. Я понимал: им абсолютно ясно, что я невиновен; они с самого начала прекрасно знали: перед ними душа безвинно погибшего, —
но по неведомым мне причинам делали вид, будто ничего не понимают. Я продолжал громко взывать, и мои
слова повторялись бесконечно, словно перерождения
в колесе бытия. Ло-ван вполголоса посовещался с паньгуанями и ударил своей колотушкой, как судья, оглашающий приговор:— Довольно, Симэнь Нао, мы поняли, что на тебя
возвели напраслину. В мире столько людей заслуживает
смерти, но вот не умирают!.. А те, кому бы жить да жить,
уходят в мир иной. Но нам такого положения дел изменить не дано. И все же, в виде исключения и милосердию нашему, отпускаем тебя в мир живых.Это неожиданное радостное известие обрушилось
на меня, будто тяжеленный мельничный жернов, и я
чуть не рассыпался на мелкие кусочки. А владыка ада
швырнул наземь алый треугольник линпай9
и нетерпеливо распорядился:— А ну, Бычья Голова и Лошадиная Морда, верните-ка его обратно!
И, взмахнув рукавами, покинул зал. Толпа паньгуаней потянулась за ним, и от потоков воздуха, поднятых
широкими рукавами, заколебалось пламя свечей. С разных концов зала ко мне приблизились два адских служителя в черных одеяниях, перехваченных широкими
оранжево-красными поясами. Один нагнулся, поднял
линпай и заткнул себе за пояс, другой схватил меня за
руку, чтобы поднять на ноги. Раздался хруст, мне показалось, что кости вот-вот рассыплются, и я завопил что
было мочи. Демон, засунувший за пояс линпай, дернул
напарника за рукав и тоном многоопытного старика, поучающего зеленого юнца, сказал:— У тебя, мать-перемать, водянка в мозгах, что ли?
Или черный гриф глаза выклевал? Не видишь, что он зажарен до хруста, как тяньцзиньский хворост «шибацзе»?10Молодой демон растерянно закатил глаза, но старший прикрикнул:
— Ну что застыл? Ослиную кровь неси!
Молодой хлопнул себя по лбу, лицо его просветлело,
словно прозрел. Он бросился из зала и очень скоро вернулся с заляпанным кровью ведром, похоже, тяжелым,
потому что тащил он его, еле переставляя ноги и изогнувшись в поясе, — казалось, вот-вот свалится.Ведро тяжело хлопнулось рядом, и меня тряхнуло.
Окатило жаркой волной тошнотворной вони, которая,
казалось, еще хранит тепло ослиного тела… В сознании
мелькнула туша забитого осла и тут же исчезла. Демон
с линпаем достал кисть из свиной щетины, окунул в густую темно-красную кровь и мазнул меня по голове. От
странного ощущения — боль, онемение и покалывание,
будто тысячами иголок, — я невольно взвыл. Послышалось негромкое потрескивание, и я ощутил, как кровь
смачивает мою прожаренную плоть, будто хлынувший
на иссохшую землю долгожданный дождь. Меня охватило смятение и целый сонм переживаний. Демон орудовал кистью быстро, как искусный маляр, и вскоре я был
в ослиной крови с головы до ног. Под конец он поднял
ведро и вылил на меня остатки. Жизнь снова закипела
во мне, вернулись силы и мужество. На ноги я встал уже
без помощи служителей.Хоть этих демонов и звали Бычья Голова и Лошадиная Морда, они ничуть не походили на те фигуры с бычьими головами и лошадиными мордами, которые мы
привыкли видеть на картинках, изображающих преисподнюю. От людей их отличала лишь отливающая ослепительной голубизной кожа, словно обработанная ка-
кой-то волшебной краской. В мире людей не бывает ни
ткани такой благородной голубизны, ни подобной листвы деревьев. Хотя цветы есть, маленькие такие, растут на
болотах у нас в Гаоми: утром раскрываются, а к вечеру
лепестки вянут и осыпаются…Долговязые демоны подхватили меня под руки, и мы
зашагали по мрачному тоннелю, которому, казалось, не
будет конца. С обеих сторон на стенах через каждые несколько чжанов11
висели бра причудливой формы, похожие на кораллы, с блюдечками светильников, заправленных соевым маслом. Запах горелого масла становился то
насыщеннее, то слабее, голова от него то затуманивалась,
то прояснялась. В тусклом свете виднелись полчища огромных летучих мышей, висевших под сводами тоннеля.
Их глаза поблескивали в полумраке, а на голову мне то
и дело падали зернышки вонючего помета.Дойдя до конца тоннеля, мы вышли на высокий помост. Седовласая старуха протянула к грязному железному котлу белую и пухлую ручку с гладкой кожей совсем
не по возрасту, зачерпнула черной деревянной ложкой
вонючей жидкости, тоже черного цвета, и налила в большую алую глазурованную чашку. Принявший чашку демон поднес ее к моему лицу и недобро усмехнулся:— Пей. Выпьешь, и оставят тебя все горести, тревоги и озлобление твое.
Но я отшвырнул чашку и заявил:
— Ну уж нет, пусть все горести, тревоги и озлобление остаются в моем сердце, иначе возвращение в мир людей теряет всякий смысл.
И с гордым видом спустился с помоста. Доски, из которых он был сколочен, подрагивали под моей поступью. Демоны, выкрикивая мое имя, бросились за мной.
В следующий миг мы уже шагали по земле дунбэйского Гаоми. Тут мне знакомы каждая горка и речушка,
каждое деревце и каждая травинка. Новостью оказались
вбитые в землю белые деревянные колышки, на которых черной тушью были выведены имена — одни знакомые, другие нет. Таких колышков было полно и на моих
плодородных полях. Землю раздали безземельным беднякам, и моя, конечно, не стала исключением. В династийных историях полно таких примеров, но об этом
перераспределении земли я узнал только сейчас. Земельную реформу в мире людей провели, пока я твердил о своей невиновности в преисподней. Ну поделили
все большие земельные угодья и поделили, меня-то зачем нужно было расстреливать!Демоны, похоже, опасались, что я сбегу, и конвоировали меня, крепко ухватив ледяными руками, а вернее,
когтями за предплечья. Ярко сияло солнце, воздух был
чист и свеж, в небе щебетали птицы, по земле прыгали
кролики, глаза резало от белизны снега, оставшегося по
краям канав и берегам речушек. Я глянул на своих конвоиров, и мне вдруг пришло в голову, что они похожи на
актеров в гриме синего цвета.Дорога шла по берегу реки. Мы миновали несколько
деревенек, навстречу попалось немало знакомых, но
всякий раз, когда я раскрывал рот, чтобы поздороваться,
демоны привычным движением сжимали мне горло
так, что я и пикнуть не мог. Крайне недовольный этим,
я лягал их, но они не издавали ни звука, будто ноги у них
ничего не чувствовали. Пытался боднуть головой, тоже
напрасно: лица как резиновые. Руки с моего горла они
снимали, лишь когда вокруг не было ни души.Подняв облако пыли, мимо промчалась коляска на
резиновых шинах. Пахнуло лошадиным потом, который
показался знакомым. Возница — его звали Ма Вэньдоу, — поигрывая плетью, восседал на облучке в куртке из белой овчины. За воротник он заткнул связанные
вместе длинную трубку и кисет, который болтался, как
вывеска на винной лавке. Коляска моя, лошадь тоже, но
возница моим батраком не был. Я хотел броситься вслед,
чтобы выяснить, в чем дело, но руки демонов опутали
меня, как лианы. Этот Ма Вэньдоу наверняка заметил
меня, наверняка слышал, как я кряхтел, изо всех сил пытаясь вырваться, не говоря уж об исходившем от меня
странном запахе — такого не встретишь в мире людей.
Но он пронесся мимо во весь опор, будто спасаясь от
беды. Потом встретилась группа людей на ходулях, они
представляли историю о Тансэне12
и его путешествии за
буддийскими сутрами. Все, в том числе Сунь Укун с Чжу
Бацзе — мои односельчане. По лозунгам на плакатах,
которые они несли, и по разговорам я понял, что сегодня первый день тысяча девятьсот пятидесятого года.Мы почти достигли маленького каменного мостика
на краю деревни, и тут меня вдруг охватила безотчетная
тревога. Еще немного — и вот они, залитые моей кровью, поменявшие цвет голыши под мостом. От налипших на них обрывков ткани и грязных комков волос исходил густой смрад. Под щербатым пролетом моста собралась троица одичавших собак. Две разлеглись, одна
стоит. Две черные, одна рыжая. Шерсть блестит, языки
красные, зубы белые, глаза горят…Об этом мостике упоминает Мо Янь в своих «Записках о желчном пузыре». Он пишет об этих собаках — они
наелись мертвечины и взбесились. Пишет также о почтительном сыне, который вырезал желчный пузырь
у только что расстрелянного и отнес домой — вылечить
глаза матери. О том, что используют медвежий желчный пузырь, я слышал не раз, но чтобы человеческий…
Еще одна выдумка этого сумасброда. Пишет в своих рассказах чушь всякую, верить никак нельзя.Пока мы шагали от мостика до ворот моего дома, я
снова вспомнил, как меня вели на расстрел: руки связаны за спиной, за воротник заткнута табличка приговоренного к смерти. Шел двадцать третий день последнего
лунного месяца, до Нового года оставалось всего семь
дней. Дул пронизывающий холодный ветер, все небо застилали багровые тучи. За шиворот горстями сыпалась
ледяная крупа. Чуть поодаль с громкими рыданиями
следовала моя жена, урожденная Бай. Наложниц Инчунь и Цюсян не видать. Инчунь ждала ребенка и вскорости должна была разрешиться от бремени, ей простительно. А вот то, что не пришла попрощаться Цюсян, не
беременная и молодая, сильно расстроило. Уже на мосту
я повернулся к находившемуся рядом командиру ополченцев Хуан Туну и его бойцам: «Мы ведь односельчане,
почтенные, вражды между нами не было, ни прежде, ни
теперь. Скажите, если даже обидел чем, стоит ли так поступать?» Хуан Тун зыркнул на меня и тут же отвел
взгляд. Золотистые зрачки посверкивают, как звезды на
небе. Эх, Хуан Тун, Хуан Тун, подходящее же имечко выбрали тебе родители!13
«Поменьше бы трепал языком! —
бросил он. — Политика есть политика!» — «Если вы меня
убить собрались, почтенные, то хоть объясните, какой такой закон я нарушил?» — не сдавался я. «Вот у владыки
преисподней всё и выяснишь», — сказал он и приставил
ружье почти вплотную к моей голове. Голова будто улетела, перед глазами рассыпались огненные искры. Слов-
но издалека донесся грохот, и повис запах пороха…Ворота моего дома были приоткрыты, и я увидел во
дворе множество людей. Неужели они знали о моем
возвращении?— Спасибо, братцы, что проводили! — обратился я
к спутникам.На их лицах играли хитрые улыбочки, и не успел я
поразмыслить, что эти улыбочки означают, как меня
схватили за руки и швырнули вперед. В глазах потемнело, казалось, я тону. И тут прозвенел радостный человеческий возглас:— Родился!
Я разлепил глаза. Весь в какой-то липкой жидкости, лежу между ног ослицы. Силы небесные! Кто бы
мог подумать, что я, Симэнь Нао, воспитанный и образованный, достойный деревенский шэньши 14, стану
осленком с белыми копытами и нежными губами!
1 Яньло-ван (Ло-ван) — владыка ада в китайском фольклоре.
2 «Нао» — букв. «требовать со скандалом», «бесчинствовать».
3 Паньгуань — чиновник при владыке подземного царства, ведущий учёт жизни и смерти.
4 Дунбэй — собирательное название северо-востока Китая.
5 Гаоми — уезд в пров. Шаньдун, родина Мо Яня, место действия
многих его произведений.6 Пятилепестковый узел — узел, связывающий руки и шею.
7 Чи — мера длины, ок. 30 см.
8 Высушенные тыквы-горлянки использовались как пороховницы.
9 Линпай — даосская дощечка с текстами заклинаний.
10 «Шибацзé» — фирменный продукт портового города Тяньцзиня. Долго хранится благодаря хорошей прожарке и отсутствию воды.
11 Чжан — мера длины, ок. 3,2 м.
12 Тансэн — одно из имен монаха Сюаньцзана, героя классического
романа «Путешествие на Запад». Сунь Укун и Чжу Бацзе — его спутники.13 Фамилия и имя Хуан Туна дословно означают «желтый зрачок».
14 Шэньши — одно из сословий императорского Китая, семьи
сдавших экзамены и получивших государственные должности; зд.
«состоятельный человек».