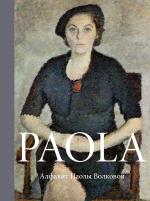- Василий Голованов. Каспийская книга. Приглашение к путешествию. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 832 с.
В издательстве «НЛО» вышла книга Василия Голованова, автора парадоксальных литературных исследований «Нестор Махно» и «К развалинам Чевенгура». Новый сборник хоть и посвящен путешествию вокруг Каспия, но не вмещается в рамки тревелога, затрагивая злободневные вопросы большой политики и общественного уклада разных стран. Погружение в экзотические ландшафты Апшерона, горного Дагестана, иранской Туркмении чередуется с поиском общечеловеческого понимания.
ХЛЕБНИКОВ И ПТИЦЫ
…Мое мнение о стихах сводится
к напоминанию о родстве
стиха и стихии…Велимир Хлебников
I Есть вещи, понять которые невозможно, не разглядев некоторые весьма истонченные временем нити, связующие явления.
В поисках таких взаимосвязей литературоведение вгрызается в текст и в контекст, этот текст порождающий. Степень расширения контекста неограниченна и зависит от желания и умения интерпретатора работать со специфическими косвенными свидетельствами, с бедными сведениями рудами или почти порожней породой, содержащей иногда лишь пыль драгоценного знания о предмете исследования.Нечаянно контекстом оказался остров. Небольшой заповедный остров, со всех сторон охваченный медлительными мутными водами. Заросший по окоему ивами, шиповником и тамариском, внутри — тростником, жесткой, как жесть, травой, полынью, коноплей, вьюнками. Был исход осени. Днем в пещеристой сердцевине разваленных временем древних ив роились осы, радуясь последнему солнцу. Ночью, в час шепота ив, под холодными безмолвными звездами шелесты тростника и гулкие всплески сомов в черной
воде казались шорохами и пульсациями космоса.Ночь, полная созвездий,
Какой судьбы, каких известий,
Ты широко сияешь, книга?
Свободы или ига?
Какой прочесть мне должно жребий
На полночью широком небе?Текст — стихотворение Хлебникова — проклюнулся сам собою
из контекста, что показалось закономерным: остров принадлежал
месту встречи Волги и Каспия-моря, которому «принадлежал»
и Хлебников, по своей человеческой воле впадавший то в Неву,
то в Днепр, то в Горынь, но волею судьбы от рожденья до смерти влекомый мощным течением Волги к чаше Каспия. И этой чашей завороженный. Ибо в ней, как в волшебном котле, до поры покрытом кипящим туманом, поэт, сдунув завесу, провидит мир насквозь: от заледенелых тундр Сибири, где жаворонок ночует в пространном черепе мамонта, до калмыцких степей, где кочевники
пьют черную водку бозо; от заброшенных храмов Индии, оплетенных корнями джунглей, до алых цветов в садах Персии и раскаленных песков Египта, сжимающих букет пышной растительности, распустившийся дельтой Нила. Котел Каспия — это чечевица, линза, в фокусе которой, как лучи или как траектории птичьих перелетов, соединяющих Север с Югом, сходятся силовые линии множества культур, каждая из которых, даже забытая, погребенная песком пустыни, как столица хазар Итиль, или столица Золотой Орды Сарай, или вообще ничем вещественным не явленный, только в предании сохранившийся разбойничий уструг Разина, — ждет своего воплощения в слове, ждет гения, способного облечь словом и выразить все это напластованное друг на друга разнообразие исторических обстоятельств, природных форм, живых
и мертвых языков, преданий и символов.«Я был спрятанным сокровищем, и Я желал быть узнанным,
посему Я сотворил мир», — говорит Господь суфиев. Подразумевая, должно быть, тем самым, что богопознанием станет бесконечное распаковывание запечатанных в мире смыслов, раскапывание
драгоценных кладов, предназначенных каждому, кто окажется достаточно упорным, чтобы искать. Не поместив себя сознательно
в систему координат, которой принадлежал поэт, невозможно составить представление о сокровищах, которые были ему завещаны. Вот почему контекстом, непременным для понимания Хлебникова, становится само пространство, содержащее в себе все,
из чего лепятся (Хлебников именно лепил, ничего не выдумывая)
его стихи и проза, его «законы времени» и словотворчество, которое может казаться совершенно искусственной, головной выдумкой, но которое на самом деле не выдумка, а лишь проекция динамических свойств пространства на язык. В мире нет более изменчивых природных систем, чем дельты больших рек. Дельта Волги к тому же (знаменитый «коридор» между Уралом и Каспием,
по которому вплоть до XV века из лона Азии в Европу изливались
волны кочевников, и древнейший прямой торговый транзит, соединяющий все четыре стороны света) — одно из самых продувных мест истории, ее меловая доска, с которой каждая последующая волна переселенцев начисто стирала все предварительные наброски построения цивилизации, сделанные волной предыдущей.
Дельта — неустанная в пробах творения — вот контекст, породивший Хлебникова.В этом смысле значимо, что отец поэта, Владимир Алексеевич,
был основателем Астраханского заповедника. То есть охранителем
того всеобъемлющего контекста, с которого Хлебников считывал
свой текст, изыскивая завещанные ему словесные клады. Благодаря
этому, очутившись в заповеднике, еще и сегодня можно убедиться, что «времышиамыши» — не поэтический изыск, а такая же
реальность, как «старые ивы, покрытые рыжим ивовым волосом»,
«сонные черепахи», «красно-золотистые ужи» и весь этот странный край, «где дышит Африкой Россия». При этом Владимир Алексеевич не поощрял поэтических занятий сына и, видимо, до самой
его смерти не понимал масштаба его дарования. Ни о каких «контекстах» он не думал. Он был позитивист, естествоиспытатель, редкостный знаток птиц. Как мы увидим, это тоже сыграло в судьбе
поэта не последнюю роль…II Семь сот уст цедят воду сквозь фильтры отмелей и сплошных зарослей, протянувшихся по взморью на сто пятьдесят верст
от Бахтемира (главного волжского рукава) до Бузана и Кигача, бесконечно дробящихся на протоки, ручьи и почти затянувшиеся тиной ерики. Пресной, зеленой, мутной остается вода еще километров тридцать-сорок, до свала глубин, где резко обрывается дельтовая отмель и сразу ощущается в воде соль. А до этого не река,
не море — раскаты. То есть и не река уже — ибо без берегов — раскатилась, — но и не море тоже, только блещет волна по-морскому,
но по-речному желта на просвет.В нетронутой природе правомерно чувство вечности, потому было ощущение, что я «совпал» с Хлебниковым в пространстве/времени. Был октябрь 1918-го, паровое судно «Почин». Хлебников и Рюрик Ивнев выходили на взморье осматривать облюбованный отцом Велимира под заповедник участок на Дамчике. Вечером «Почин» поглотил туман. Рано утром поэты вышли на палубу и в хрустальном холоде осветлевающей ночи увидели над
головой… Звездный провал неба. Бездну. Миры. Может быть, самым ненарочным и важным совпадением было «чувство замороженности», неподвижности, чувство «листа, застрявшего в тысячелетних камнях», которое охватило и меня в первую же ночь
на острове, когда выходил курить на берег и под полной луною видел и слышал напротив шуршащую живую стену тростника. Ну и,
разумеется, принадлежали времени вечности птицы. Голубой быстрый огонь крыла зимородка, пронзающего воду, и воздух, и тень
берегового куста. Белохвостый орлан, медленно шагнув с черной
ветки обугленного пожаром дерева, сделав несколько мощных
взмахов меж роскошными кулисами зелени над зеркальной водою,
исчезает за ивою, оставляя тебя в лодке со счастливым ощущением,
что ты следуешь древней, вольной и верной дорогой. Cам язык орнитологии — напряженный, подвижный, силящийся уловить оттенки признаков, отличающих одну пичугу от другой по цвету перьев, времени первой трели, излюбленным семечкам или по особым морфологическим различиям (орел, орлан, подорлик), сделавшись насущным, засверкал вдруг драгоценной россыпью названий. В «Списке птиц Астраханского края», составленном отцом
Хлебникова, упомянут 341 вид птиц. Баклан, пеликан, чепура красная, кваква, колпица, савка, турпан, хархаль, выпь, пустельга, кречет, лунь, осоед, чеглок, сапсан, балобан, стриж, сыч, удод, филин,
рябок копытка, горлинка, авдотка, дупель, бекас, ястреб… Фонетически это такое богатство, что близкий к колдовству, к выкапыванию древних корней и мертвых семян опыт создания поэтически разверстого во все стороны языка, предпринятый сыном, кажется
совершенно естественной и, более того, само собою разумеющейся
попыткой*. Только в том уникальной, что это попытка одинокого гения за краткое время своей жизни проделать ту титаническую
работу, которую язык сам по себе, без поэта-алхимика, торопящегося ускорить «созревание» языка, проделывает за сотни лет благоприятного для себя развития.В Астрахани я побывал в музее Хлебникова. Так в руки мои
попал еще один ключ, или даже связка ключей. Во всяком случае — право на вход. Пропуском к Председателю Земного Шара
был билет в музей № 29632. Запомнилась книга из библиотеки
отца — G. F. Chambers — The story of the stars. Основательнейший
позитивистский фундамент удерживает на весу все самые фантастические проекты Хлебникова. Изменяется, быть может, лишь
сам характер вовлеченности — поэт относится к звездам не с ученым интересом, а со священным трепетом, как индейцы-инки, полагая, что звездами вычерчены на небе судьбы грядущего. «Понять
волю звезд, это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами слишком черной ночью, эти
доски грядущих законов, и не в том ли путь… чтобы избавиться
от проволоки правительств между вечными звездами и слухом человечества…» Об отношениях Хлебникова с отцом известно, что
они были неровны и непросты («родителями изгнан» — записывает он в дневнике 1914 года). Отец, несомненно, предполагал, что
сын унаследует его дело ученого-натуралиста, орнитолога, и тот
студентом как будто даже подавал надежды (экспедиция на Павдинский Камень Урала в 1906-м), но впоследствии, видимо, отца
разочаровал и, во всяком случае, надежд его не оправдал — всем
образом своей жизни и никому, конечно, из близких (кроме сестры
Веры) непонятным творчеством. Между тем он был сыном благодарным и прилежным учеником, что заметил еще Тынянов в предисловии к первому (и единственному полному) собранию сочинений Хлебникова: «Поэзия близка науке по методам — этому учит
Хлебников. Она должна быть раскрыта, как наука, навстречу явлениям… Хлебников смотрит на вещи как на явления, взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание… Он не коллекционер слов, не собственник, не эпатирующий ловкач. Он, как ученый,
переоценивает языковые измерения…»Нет сомнения, что Гений Языка должен был явиться именно
здесь, в русской столице татарского ханства, в перекрестье кочевых
и караванных дорог, фантастической геологии (аммониты — дно
древнего моря — плиты известняка, органика и лесс дельты, пески,
грязи, лидийский камень, кристаллическая соль) и столь же фантастической ботаники и орнитологии, на границе земли-воды-неба,
реки-моря, Старой Волги и Камызяка, Черных Земель и песков Сулгаши, Европы и Азии, православия, принесенного русскими ратниками, буддизма перекочевавших на запад от Волги взбунтовавшихся монгольских племен и магометанства степняков, замешанного на верблюжьем молоке, наваристом, с молоком, чае, на блинчиках с бараньими потрошками и жареном боку пудового сазана. В любом столичном городе ничего, кроме зауми, не вышло бы
из языковой алхимии (и не вышло). Здесь же алхимия — имманентное свойство окружающего, — кристаллизация не произошла
и произойти не может, ветер дует из Персии, из Китая, из Индии,
из Европы, море наступает и отступает, волны кочевников проносятся, словно стаи птиц, водоросли набухают и умирают в зеле-ном котле дельты, пульсация безостановочна, творение непрерывно… «В деревне, около рек и лесов до сих пор язык творится каждое мгновение, создавая слова, которые то умирают, то получают
право на жизнь…» — так ощущал это Хлебников.В «Словаре неологизмов» Хлебникова 6130 слов. По какой-
то непонятной причине в нем нет слова «лебедия», объемлющего своеобразным, детски-наивным смыслом мир волжской дельты, в который так по-разному и так самозабвенно были влюблены отец, и сын, естествоиспытатель и поэт. Парадокс же, отмыкающийся ключом к родовому гнезду, ныне музею, заключается
в том, что именно отец наделил его талант тем смертельно опасным
и не поддающимся подражанию свойством, которое еще при жизни не позволило Хлебникову «войти» в литературу, ибо унаследованный от отца естественнонаучный взгляд на мир, будучи примененным в поэзии сыном, человеком необычайно тонкого поэтического слуха и чувствования, и пылким романтиком к тому же, превращался в опыт совершенно запредельного исследования, которое ни тогда, ни теперь, ни когда-либо впредь невозможно было
(будет) втиснуть в рамки обычного литературного «сочинительства».
* Более того, некоторые неологизмы из рукописей Хлебникова
в свою очередь фонетически очень напоминают названия птиц: блазунья, блуждянка, богаш, богва, братуга, грезняк, грезютка, грозок.
Рубрика: Отрывки
Данила Зайцев. Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева
- Данила Зайцев. Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015. — 708 с.
Данила Зайцев – русский старообрядец-часовенный из Аргентины, родившийся в 1959 году в Китае. В его «Повести…» отражена история многих старообрядческих родов, их бегства из большевистской России в Китай, а оттуда – в Южную Америку. В центре повествования – жизнь автора и его семьи, с подробным рассказом о неудавшейся попытке переселения в Россию в 2008-м. Зайцев пишет о непростых отношениях в общинах: возникающих ссорах, недопонимании и личных трагедиях. Но в центре книги – повседневная жизнь русских людей, следующих стародавним заветам, ради соблюдения которых они готовы переносить страдания, нищету и лишения.
ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ 1 ПРЕДКИ моего отца. Прадед Сергей Зайцев из Томска, прозвища кержаки. Хто и в како время выехали из Керженса1, не знаю. Дед Мануйла Сергеявич родился в Томске в 1898 году, в 1906 году переехали в Горный Алтай, а в 1918 году переехали в деревню Надон.
Предки моего отца с материнной стороны. Прадед Агап Пантелеяв из Алтая, Бухтармы. Баба Федора Агаповна родилась в 1903 году, в 1919 году переехали в деревню Надон, и в тем же году вышла замуж за деда Мануйла. В 1921 году родилась Елена, 10 апреля 1922 года родился тятя Терентий Мануйлович. Баба Федора родила шестнадцать детей, но в живых остались семеро: Елена, Терентий, Капитолина, Григорий, Харитинья, Александра и Прокопий.
Семья Зайцевы были умеренно религивозны. Весёлы, голосисты, музыканты, в доме водилась гармонь, балалайка. Вели жизнь спокойну, жили в достатках, имели скота, сеяли зерно, были хорóши рыбаки и охотники, жили умирённо, не захватывали и не завидовали, к религии относились благожелательно, но не аскетами, хотя деда Мануйла брат Егор был наставником. Жили очень дружно и весело, в деревне имели дружбу со всеми, и за ето их любили, часто их дом был забит гостями, играла гармонь и балалайка, и пели песни.
Предки моей матери. Прадед Корнилий Захарьев, по прозвищу кержаки. В како время выехали из Керженса — неизвестно, как попали в Алтай — не знам. Мой деда Мартивьян Корнилович родился в 1902 году в деревне Чинкур. Предки моей материнной стороны. Прапрадеда Иларивон Шутов с Урала, потом стали называть Шутовскя заимка, а впоследствии переименовали в Шутовские заводы. Был очень богат и очень религивозной, соблюдал все заповеди Господни, был добр и милостив. Но смерть его страшна и чудна. Когда пришли красны к власти, раскулачили и нашего прапрадеда. Казнили как могли, вырезали ремни, жгли, били, топили, издевались, томили в тюрме. Бог знат что только ни делали, и в консы консах2 повели их на расстрел. Поставили их к стене, дали команду «огонь». После выстрела все пали, а наш прапрадеда Иларивон как стоял, так и стоит. Подошли, в упор ишо выстрелили — он всё стоит. Подбежал старшина, хотел сашкой зарубить. Сашка переломилась — он всё стоит. Все обезумели. Он попросил пить. Подали ему напиться, он пивнул трижды, вообразил на себе крестное знамя, ляг и скончался. Ето всем было ужасно.
Прадед Савелий Иларивонович скитался со своей семьёй и как-то попал в Алтай, деревню Чинкур. Наша баба Евдокея Савельевна родилась в 1905 году, в Чинкур попала девкой, от 1924 по 1926 год. Попали зимой — голодны, холодны, оборванны, настрадавшись, обратились к прадеду Корнилию Захарьеву за помощью. Захарьевы жили по-богатому. Прадед был очень религивозной аскет, но не милостив, за любую провинку детей избивал до полусмерти. Деда Мартивьян был старший, от все етих побояв получился травмирован, стал полудикóй и боялся всего. Даже, когда приходили из моленной, прадед спрашивал, какоя сегодня было поучения, у детей поочерёдно. Увы, ежлив подробно не расскажет!
Вот прадед Савелий Иларивонович когда обратился к прадеду Корнилу, тот посмотрел на семью и сказал: «Отдашь Кейкю за Мартьянку — помогу, нет — как хошь». Родители погоревали, потужили. Что делать? Холодно, голодно, дочь жалко, жених пугливый — потужили да и отдали. Баба Евдокея его не любила, но что поделашь: родители просют, да и ситуация заставляет, а пойти против родителей — ето Бога оскорбить.
Сколь прожили и когда женились — не знаю, но мать моя Настасья Мартивьяновна родилась 29 ноября 1933 года.
2 1933 год — начин войны, дунганы с Китаям. У дунганов план был завоевать у китайцев провинцию Синьцзян, особенно Горный Алтай. Стали наступать на город Шарасума, по пути к городу каки деревни попадали китайски, вырезали всех, женчин и детей. Ето грозило и русским. Начальник города, дутун, знал, что китайцам с дунганами не справиться, так как оне невоисты. Обратился к нашим старообрядцам отстоять свой город, так как оне хорошие охотники, только оне могут помогчи. Послал отряд к русским старообрядцам с просьбой подать руку в беде. Наши боялись ввязываться в такие конфликты. Етот отряд китайцев, который шёл к нашим, — в пути их перехватили дунганы и всех перебили. Один раненый коя-как добрался до нас и сообчил, что дунганы за своим следом ничего не оставляют.
— Дутун с просьбой к вам: помогите прогнать дунган. Ежлив оне нас победят, всему населению будет беда и вам, русским, ета же судьба.
Тогда наши задумались и решили послать отряд в сорок человек хороших охотников. В пути сорвали один пост, взяли три пленника и указали: «Проводите нас в город Шарасуму, и мы вас убивать не будем, а нет — тут и положим, а в дороге все равно найдём провожатого». Пленники знали, что ето не пустые слова и разговор идет с честными людьми, повинились и ночами провели в город, наши их не тронули и отпустили.
Дутун с радостью принял наших бородачей, и всему городу была большая радость: знали, что к ним пришли славные охотники, которы их кормили мясом.
Тут наши организовались и пошли в наступление. Дунганы почувствовали силу русских, пошли на отступление. Русски сняли осаду с города и погнались за ними вместе с китайцами, прогнали и вернулись в город. Их встретили с великой радостью. Дутун просил наших остаться в полку, но наши не захотели и уехали домой.
После етого время стало неспокойно. Банды дунганов набегали на деревни и грабили, жгли, казнили и так далея, появлялись советские шпионы и разжигали дунганов. У дунганов было хорошее оружие, откуда оно — конечно, советское, а у наших самоделашно, вот и отбивайся как хошь.
3 Однажды советские пригласили наших старообрядцев на охоту, в ету группу попали троя наших — наш деда Мартивьян и ишо два мужика. Ушли и больше никогда не вернулись, и советские также — вот и догадывайся, что с ними получилось. Маме было шесть месяцав, осталась сироткой. Бабе Евдокее пришлось пахать и сеять, но она была си льна и здорóва, крóтка, богобоязна, добрая, её все любили и всегда называли Савельевной. Как-то раз в праздник на речке шутили и здумали бабу Евдокею сбросить в речкю, но не смогли. Было их трое, баба всех сбросала в воду; свёклу одной рукой сжимала. Многи сватали вдовуху, но она ни за кого не выходила.
Так прошло десять лет. Тут появился Демид Шарыпов и давай сватать прилежно — баба Евдокея никак не выходила. Тут посторонние стали сватать: дескать, ты одна, тебе трудно, жених богатой. Но все знали: Демид Шарыпов злой, первая жена ушла в могилу лично от его рук, оставила ему дочь Наталью. Баба Евдокея погоревала да и вышла замуж за него. Ето вышло за то, что в ето время жила с мамой ни кола ни двора.
Почему так получилось. Было ето в 1934 году, маме был год, дунганы начали мстить русским, за то что русски освободили китайцев. И вот набегают дунганы на деревню Чинкур. Баба Евдокея высаживала хлеб в печь, увидела сдалека пыль и догадалась, что ето дунганы, схватила коня, маму под мышку и убегать, за ней ишо один дед. А остальных в деревне всех заказнили, больших и маленьких, и всё сожгли. Русские за ето обиделись и давай их выслеживать и бить. Обчим, спокойно не жили: хлеб сеяли, а винтовки всегда под боком были.
Баба Евдокея родила Демиду сына Степана и дочь Марью, маме было уже двенадцать лет. Демид Шарыпов правды очутился очень злой. Когда едет с работы, вороты должны быть открыты и на столе пища подана не горяча, не холодна. Не дай бог что не так — всем будет беда. Маме доставалось всех больше, так как она ему была чужая, за ето он её ненавидел и издевался как мог, бил как хотел.
У бабе Евдокеи окрóмя отца было двоя дядяв и одна тётка — Анатолий и Егор и Парасковья. Дядя Анатолий и тётка Парасковья остались в России, но судьба их неизвестна, а дядя Егор был в Китае. У бабе было два брата — Михаил и Ефим. Отца Савелия и брата Михаила убили на войне, а Ефим служил допоследу.
Как толькя затихла с дунганами война, народ стал обживаться. Ета тишина стояла всего четыре года. Тут появился вождь Кабий — мусульман, но пошёл на китайцев и собирал войско, хто попадёт. Зашёл и к русским, хотел и русских забрать, но русски отказали: мол, оружие у нас нету и с китайцами не хочем враждовать. Кабий сказал: «Хорошо, мы у вас возмём двух заложников и поишем оружие. Ежлив найдём, то всех вас перережем». Вот тут-то было переживанья. Но слава Богу, не нашли, спрятано было очень хорошо, тогда заложников отпустили, и кабиевцы пошли на китайцев одне. Китайцы их поджидали город Канас, у них стоял 10-й полк. Как толькя кабиевцы подошли, китайцы ударили с миномётов, кабиевцы стали отступать, а китайцы за ними. Ета война продолжалась не больше трех месяцев, и опять стала тишина два года с половиной.
Тут появился новый вождь, Оспан-батур, каргызин3, и собирал войско — всех, хто попадал под руки. Хто не шёл, того казнил, так что и русским пришлось пойти служить Оспану. Опять же политика была советская, советские дали Оспану оружие и дали флаг красный со звездой и полумесяцем. Ето было от 1940 года по 1950 год. Советская политика была такая: китайцев с мусульманами сразить, а русских вернуть в Россию, Оспану внушали: «Завоюешь провинцию Синьцзян — будет ваша».
На ету войну попали дядя Ефим Шутов, деда Мануйла Сергеевич Зайцев, хотя оне и были на дунганской войне. Тяте было восемнадцать лет, он тоже попал на службу, прослужил один год и пошёл на войну. Ета война была нечестна, Оспан был не главнокомандующим, а как бандит, грабил, казнил, насиловал, сжигал, вёл всяки несправедливости, в полку имел шпионов советских. Ето притесняло наших старообрядцев, но некуда было податься.
Советские открыли експедицию в Китай, и добровольсов принимали хорошо и платили хорошо. Тятю в 1946 году ранили, и он попал в больницу, пролежал в больнице три месяца. За ето время оне списывались с отсом, и дед Мануйла внушал тяте: не вёртывайся в отряды, потому что нет справедливости, убили тóго-другого-третьяго. Тогда тятя ушёл на експедицию и работал у советских, и много русских так же поступили, Оспан из рук советских не мог никого забрать. А в деревнях появились советские консула и стали агитировать, чтобы вернулись на родину, сулили горы: «Ничто вам не будет, нарежут вам земли, и будете жить спокойно, в России свободно». Но мало хто им верил. Слухи были противоположны: в России народ голодовал и жили нищими.
Однажды к Оспану подъезжает с отрядом вышняго рангу чиновник и друг Оспану — Жёлбарс, и стал при всем войске внушать Оспану:
— Друг, брось оружие, ето кончится нехорошим. Советские стравляют вас с китайцами и весь Китай объединяют, всех нас ждёт одно уништожение, и ето кончится нехорошим.
Оспан отвечает другу:
— Ха, я здесь хозяин, всё ето моё. Никого не допушшу, всех вырежу, но землю не отдам.
Тогда Жёлбарс другу:
— Но, друг, как хошь, — и громким голосом крикнул: — Хто за мной? — Тишина, и двадцать пять солдат вышли вперёд, все русски. В етим отряде был наш дед Мануйла. Жёлбарс сказал: — Хорошо, на таким-то месте буду ждать двадцать четыре часа, подумайте хорошень.
Тут наши старообрядцы задумались и решили все уйти с Жёлбарсом. Но советский шпион Осип предупредил Оспана не пускать русских солдат к Жёлбарсу:
«А то обессилешь». Утром, когда русские были готовы выехать, Оспан приказал всех обезоружить, а хто побежит, того казнить. Тогда русские потихонькю стали уходить на експедицию к советским.
В деревнях получились две партии: красные и белые. У красных была власть, и оне творили что хотели, грабили, били, издевались — над своими же. Мужики были на войне, жёны одне дома, и красны что хотели, то и творили. Много таких было, но лично нам запомнился — фамилия Шарыповы. Сам отец, Василий Васильевич Шарыпов, был спасовского согласия наставником, а сынок Яков Васильевич — красный атеист, изъедуга, кровопивец. Ниже узнам о етой фамилии. Все ети красны имели советские паспорта.
На одной из деревень жила и баба Евдокея и рассказывала, как красные поступали с местным населением: садили на лёд, вымогали золото, грабили, уводили коров, забирали всё — продукт, посуду, оставляли голых. И слова не скажи — сразу казнить. Пошёл голод. Хто посмелея, побежали на юг в Илийский округ за тысяча вёрст, в город Кульджу: там было тихо.Баба Евдокея жила за Демидом Шарыповым — однофамильсами, но не родственниками с теми Шарыповыми. Были александровского прихода часовенного согласия, жили в достатках, у Демида всё было клеймёно, он был мастер на все руки. У бабе всё расташили: баню, городьбу4, дословно всё.
У Оспана было два русских офицера: Никифор Студенко и Лаврен Рыжков. Лаврен был идивот, трус и так далея, Никифор был герой, любимый солдатами и так далея. Впоследствии Лаврен Рыжков очутился в Бразилии и Никифор Студенко очутился в Парагвае. А ето получилось вот так. Всё предвиделось, что с Оспаном всё кончится плохо, ночью собрались триста русских солдат и ушли от Оспана; в етой группе был и Демид Шарыпов.
1949 год. Тятя и все мужики вернулись с експедиции с документами и взялись за красных — вёртывать всё. Тут и баба Евдокея всё своё вернула, так как у них было всё клеймёно. Тут был большой позор красным изменникам, и советские не вмешивались: знали, что изменники поступал неправильно.
Тятя в 1949 году посватал маму. Маме было семнадцать лет, а тяте двадцать семь лет. Баба не отдавала, говорила: парень разбалованной, семья слаба. Тут сватали молодыя ребята и религиозны, но маме тятя понравился: красивый, весёлой, сапоги хромовы. Не послушала бабу: пойду да пойду. Но баба со слезами отдала и говорила: «Настькя, будешь слёзы лить».
Расскажем маленькя об Ивановых. Фёдор Иванов с России попал до революции, в каки годы — неизвестно. Когда наши бежали с России после революции, то Ивановы уже жили очень богаты. На речке Сандырык копали золото, то Ивановы его скупали. Фёдор Иванов был грамотный и умный, все его любили и все к нему шли на работу охотно, потому что он платил очень хорошо, за хорошу работу всегда переплачивал и был милостив, часто ставил обеды бедным; хто приходил с просьбой, всегда шёл навстречу, никогда не отказывал. Популярность его всегда росла, и выбрали его губернатором. Служил он честно, все его любили. Был у него один сын Сидор Фёдорович, а у Сидора пять сыновей и три дочери. Живут в Бразилии.
1950 год. Комиссия властей — китайцев и советских — приехали проверить, что же войско Оспана, и решили, что ето просто банда, и решили заплатить хорошу цену, хто выдаст Оспана. Тут нашлись свои же каргызы и, связанного, отдали его китайцам, а остальным власти китайски объявили сдаться. Русски сразу сдались, их посадили, на слабым режиме — кого как, по-разному.
Про деда Мануйла никаких новостей, но знали, что он ушёл с Жёлбарсом. Но ето был очень умный человек. Он прождал двадцать четыре часа; так как нихто к нему больше не пришёл, он отправился со своим отрядом мирным путём, никого не обижал, с нём шёл американский консул. Оне через Монголию и Тибет попали в Индию, там оружие сдали, им дали свободу. Наши русски, двадцать пять человек, через американскоя консульство попали в Америку, в Нью-Йорк. А те триста человек, в которым дед Демид Шарыпов, отступали, шли пакостили, громили, местное население обижали. Их окружили, всех пословили, кого ка знили, кого расстреляли, так что баба Евдокея опять осталась вдовой.
Тут появился советский какой-то Лескин. Но ето политика уже была — русских вернуть в Россию, а китайцев усилить во всем регионе. У каргызов на флагу убрали полумесяц, и стал китайский красный флаг со звездой. Русских старообрядцев стали притеснять, чтобы вернулись на родину. Хто сумел заполнить анкеты — запрос в ООН, тот сумел спастись, а хто не сделал запрос, те все вернулись — но не на родину, а на целину: в Киргизстан и Казахстан. На границе их обобрали и оставили без ничего. Вот тебе и земли и свобода!
1 Керженец — один из ранних старообрядческих центров в глухих лесах по левому притоку Волги реке Керженец и ее притоку речке Бельбаш (Нижегородская губерния). Массовое переселение старообрядцев-кержаков на Урал и в Сибирь началось в результате разгрома керженского центра в 1710–1729 годах.
2 В конце концов.
3 Киргиз.
4 Ограду.
Полина Барскова. Живые картины
- Полина Барскова. Живые картины. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 176 с.
В Издательстве Ивана Лимбаха выходит первая книга прозы поэта Полины Барсковой. Сборник «Живые картины», двенадцать произведений которого объединены темой памяти, — результат многолетних архивных изысканий автора по истории блокады. Основанные на материалах дневников и писем тексты в некотором роде продолжают поэтический цикл Барсковой «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков: 1941–1945».
В книге, написанной «между прозой и поэзией, между вымыслом и документом, на территории травмы и стыда, голода и безумия блокады», литература становится не только исследованием, но способом освобождения персонажей от проклятия исторической амнезии.ПРОЩАТЕЛЬ
I
Снежные хлопья всё росли и обратились под конец в белых куриц. Одна из них, отряхнувшись,
оказалась небольшим пьяницей с пластиковым
пакетом в руках. Из мешка торчала герань.Подойдя к девочке, прохожий стал заглядывать ей в лицо. Совершенно размокшее, оно было раскрашено как будто для подслеповатых взглядов оперного райка: огромные брови, огромные губы, тяжёлые собачьи глаза, преувеличенные
жирными чёрными тенями. — А тепло ли тебе,
милая? А не жениха ли ты здесь ждёшь? — Мне
бы спичек. — А меня жена из дома выгнала. А давай я тебе скажу. — Он рыгнул и монотонно
страшно зашептал, не глядя: — Cмотри…Смотри: так хищник силы копит:
Сейчас — больным крылом взмахнёт,
На луг опустится бесшумно
И будет пить живую кровь…— Ого, — почти не удивившись, засмеялась
она. — Прямо греческий хор. Мне бы спичек?
Не были бы Вы так любезны? Не найдётся ли у
Вас случайно?Было ясно, что Морозко поддаётся только
на избыточную вежливость.За три часа под снегом её карманный коробок совсем сник.
— А нету, вот цветок бери.
Она рассеянно, послушно ухватила полный
снега мешок и стала идти.Справа из светло-бурого неба на неё вывалился клодтовский конь, весь выгнутый, но уже
готовый поддаться, злой.II
Пока его очередная мучка-мушка отдыхала, пытаясь отдышаться, покрытая лёгким потом,
Профессор, прислонясь лицом к стеклу, вспоминал и вспомнил до слова (уникальная па-
мять!):«Невдалеке от эстрады в проходе стоял человек.
Крепко сбитый, выше среднего роста, он
держал руки скрещёнными на груди.Он был странно одет, почти неприлично для
тех времён, для довоенного 13-го года: на нём
был шерстяной, белый, безукоризненной чистоты свитер: лыжник, пришедший прямо из снегов, это впечатление усиливалось обветренным
цветом лица и слегка кудрявыми тускло-рыжеватыми волосами; светлые, почти стеклянные,
как у птицы, глаза.Все проходили мимо него, слегка даже задевая его в тесноте, никто не подозревал, что
они проходят мимо самого Блока.Фотография поэта оповестила всю Россию
о его облике — фотография передержанная: чёрные кудри, чувственный рот, полузакрытые,
с прищуром чёрные глаза, образ демона в бархатной куртке, с отложным воротником, а главное — этот демон вторил ещё каким-то ранее
виденным оперным образам!»Профессору нравилось представлять его
себе — белоглазого, с обветренной кожей неузнаваемого невидимку, не того, кого они все ждут.Он и сам себе казался таким невидимкой,
никто не знал ни его, ни его настоящего голоса,
и это незнание было его смыслом и утешением.III
Тоска — томление — прелесть архива: ощущение головоломки, мозаики, как будто все эти
голоса могут составить единый голос, и тогда
сделается единый смысл, и можно будет вынырнуть из морока, в котором нет ни прошлого,
ни будущего, а только стыдотоска — никто не
забыт ничто не забыто — никому не помочь, а
забыты все.Кто я, не Харон ли я?
Ночной кораблик в Питере, стайка резвых
иностранок: — А Вы нас покатаете? — Покатаем? — А Вы насколько пьяны? — Да пошла ты! —
ласково-удивлённый клёкот. Мы заходим на
кораблик, и я вижу возле рулька початую бутылищу, даже скорее жбан. Харону трудно на трезвую голову: души ропщут.Архивист перевозит души из одной папки в
другую, из такой папки, откуда никто никогда
не услышит, в такую, откуда кто-нибудь — ну
хоть совсем ненадолго.Читатель становится архивом для того, чтобы произвести новых читателей, это уже физиология, остановиться читать нельзя.
Иногда казалось, что единственный способ
снова сделать это читаемым — переписать всё
заново, как башмачкин, букву за буквой, язычок
старательно высунут: как у котика, как у ботика.
Обвести блёкнущие каракули, таким образом их
обновив, привнеся в сегодня сам этот акт по-над-писывания.Слово за словом, исчезающие, как жир и сахар в ноябре, склонения спряжений. Запятые и
тире бледнеют и падают, перестают делать смысл,
не дышат и тают. Знаки препинания умерли в
блокадных дневниках первыми, лишние знаки,
как лишние люди, бескарточные беженцы из
Луги и Гатчины.Главное — противостоять времени: время будет давить на тебя.
Но смысл всей затеи — не дать чужому времени смешаться с временем, которое ты несёшь себе, в себе.
IV
Вот и ещё один голос высовывается, выплывает,
расправляется и раздаётся.Катя Лазарева, шести лет в 1941 году, сероглазая суровая насмешливая.
Играли с мамой в буриме. Мама начинала:
Шёл дистрофик с тусклым взглядом,
Нёс корзинку с мёртвым задом.Катя заканчивала:
Шёл дистрофик по дороге.
У него распухли ноги.Или так:
Идёт дистроф, качается, вздыхает на ходу:
Сейчас стена кончается, сейчас я упаду.
А по вечерам они устраивали шарады.«Первая часть слова: поэт — чёрные кудри, чувственный рот, полузакрытые, с прищуром чёрные глаза, образ демона в бархатной куртке.
Вторая часть слова: папа в длинной ночной
рубашке изображает грешника, которого чертовка-мама жарит на сковороде».Как было сыграно междометие «А», Катя Лазарева не помнит, но всё слово в целом было
представлено так: саночки с ведром воды и
баночками для столовской каши, которые тащил спотыкающийся от голода дистрофик.
БЛОКАДА.V
А вот и ещё один голос.
Всю жизнь итальянский еврей Примо Леви с
упорством бестактного вредоносного насекомого
сумасшедшего писал о выпавшей ему неудаче.Смущённое мировое сообщество выдавало
ему премии и призы, благо теперь это было совсем легко. Получая приз, он ещё полгода его
переваривал, как удав, а потом выпускал из себя
новый том.Ни о чём другом он ни писать, ни говорить
не мог, и сны видел про это, и в болезненную
безликую жену входил про это, и истерики долго умирающей матери устраивал про это.В его случае продвижение от одного текста
к следующему означало укрупнение кадра, уточнение детали:
при пытке ощущение скорее таково нежели
воняло теперь более так чем двухнедельная
дизентерияКак и все наделённые природой и историей
таким тембром, он не смог хорошо приклеиться
к быстрому течению времени, оно его отторгло
и выбросило — в пролёт лестницы.Смущённая мировая общественность постановила, что это был несчастный случай, и присудила ещё одну премию — за изящество и скорость полёта, за то, что освободил он их всех от своих воспоминаний.
Донна Тартт. Щегол
- Донна Тартт. Щегол / Пер. с английского А. Завозовой. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 827 с.
В издательстве Corpus в конце ноября выходит новая книга «Щегол» лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт. Роман, расхваленный англоязычной критикой, создавался более 10 лет — это огромное эпическое полотно о силе искусства и о его способности перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса. Единственным утешением мальчика становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.
глава седьмая
Магазин в магазине
1.
Когда меня разбудил грохот мусоровозов, чувство было такое, будто меня катапультировало в другую вселенную. Горло саднило. Замерев под пуховым одеялом, я вдыхал темный запах подсохших ароматических саше и обугленных поленьев
в камине, к которому примешивались слабенькие, но неувядающие нотки скипидара, смолы и лака.Так я пролежал какое-то время. Поппер, который спал, свернувшись клубочком у меня в ногах, теперь куда-то пропал. Я заснул
прямо в одежде, которая была грязной донельзя. Наконец — меня
подкинуло приступом чихания — я сел, натянул свитер поверх
рубашки, пошарил под подушкой, убедился, что наволочка с картиной на месте и пошлепал по холодному полу в ванную. Волосы
у меня ссохлись в колтуны, которые гребенкой было никак не разодрать, и даже после того, как я смочил их водой и расчесал снова,
один клок так спутался, что я не выдержал и в конце концов старательно отпилил его заржавленными маникюрными ножницами,
которые отыскал в шкафчике.Господи, подумал я, крутнувшись от зеркала, чтобы чихнуть.
Зеркала мне давно не попадались, и теперь я с трудом себя узнал:
на челюсти синяк, на подбородке — россыпь прыщей, из-за простуды лицо отекло и раздулось — даже глаза опухли, набрякли
сонно веки: лицо какого-то сдвинутого туповатого надомника.
Я был точь-в-точь ребенок сектантов, которого местные правоохранительные органы только что спасли, вытащили его, сожмуренного, из какого-нибудь подвала, набитого огнестрельным оружием и сухим молоком.Я заспался: было уже девять. Выходя из комнаты, я расслышал
звуки популярнейшей утренней программы на WNYC, до нереального знакомый голос диктора, номера по Кёхелю, дурманное спокойствие, все то же теплое мурлыканье утреннего радио, под которое я так часто просыпался дома, на Саттон-плейс. Хоби сидел
с книгой за столом на кухне.Но он не читал — уставился в другой конец комнаты. Увидев
меня, вздрогнул.— А, вот и ты, — он вскочил, неуклюже сгребая в сторону гору писем и счетов, чтобы освободить мне место. Одет он был для работы в мастерской — в вельветовые штаны с пузырями на коленях
и старый суглинисто-коричневый побитый молью свитер в дырах,
а залысины и коротко остриженные волосы делали его похожим
на обложку учебника латыни Хэдли — грузный мраморный сенатор с оголившимися висками. — Ну, как самочувствие?— Нормально, спасибо, — голос был сиплый, скрипучий.
Он снова сдвинул брови, пристально поглядел на меня.— Господи боже, — сказал он, — да ты у нас нынче, как ворон, каркаешь.
Это он к чему? Сгорая со стыда, я протиснулся на стул, который
он для меня расчистил — стесняясь даже глаза на него поднять,
и потому уставился на книгу: растрескавшаяся кожа, “Жизнеописание и письма” лорда такого-то, старинный том, который, вероятно, попал сюда с какой-нибудь распродажи имущества, старенькая миссис имярек из Покипси, перелом шейки бедра, детей нет,
все очень печально.Он наливал мне чаю, пододвигал тарелку. Пытаясь как-то скрыть
свое замешательство, я нагнул голову и вгрызся в тост — и чуть
не подавился: горло драло так, что и куска нельзя было проглотить.
Я так поспешно потянулся за чаем, что расплескал его на скатерть
и неуклюже кинулся вытирать.— Нет, нет, да ладно тебе, вот…
Салфетка моя промокла насквозь, я не знал, что с ней делать,
растерявшись, уронил ее на свой же тост и принялся тереть глаза
под очками.— Простите, — выпалил я.
— Простить? — он глядел на меня так, будто я спрашивал, как добраться в какое-то не слишком ему знакомое место. — Ой, да ну
что ты…— Пожалуйста, не выгоняйте меня.
— Это еще что? Тебя — выгнать? Куда я тебя выгоню? — Он сдвинул
очки-половинки на кончик носа, поглядел на меня поверх стекол. —
Ну-ка, не глупи, — сказал он веселым и слегка раздраженным тоном. — Если тебя куда и надо выгнать, так это обратно в кровать. У тебя голос, будто ты чуму подхватил.Но говорил он неубедительно. Оцепенев от неловкости, изо всех
сил стараясь не разреветься, я уперся взглядом в осиротевшее место возле плиты, где когда-то стояла корзинка Космо.— А, да, — сказал Хоби, когда заметил, что я смотрю в пустой
угол. — Да. Видишь вот. И ведь уже глухой был как пень, и по
три-четыре приступа за неделю, а мы все равно хотели, чтоб он
жил вечно. Я рассопливился тогда, как ребенок. Если б мне кто
сказал, что Космо переживет Велти… а он полжизни протаскал
этого пса по ветеринарам. Слушай-ка, — сказал он переменившимся голосом, наклонившись ко мне и пытаясь заглянуть мне,
жалкому, онемевшему, в глаза. — Ну, ты чего? Понимаю, тебе много всего пришлось пережить, но сейчас-то не стоит обо всем этом
думать. Вид у тебя убитый — да, да, именно такой, — твердо прибавил он. — Убитый и, прости Господи, — он слегка поморщился, — уж какой-то дряни ты наелся, это видно. Но ты не волнуйся,
все нормально. Иди-ка, поспи еще, давай, правда, а потом мы все
с тобой обговорим.— Я знаю, но… — я отвернулся, пытаясь удержать сопливое, щекотное апчхи. — Мне некуда идти.
Он откинулся на спинку стула: деликатный, осторожный, чуток
пропыленный.— Тео, — он забарабанил пальцем по нижней губе, — сколько тебе лет?
— Пятнадцать. Пятнадцать с половиной.
— И, — казалось, он пытается понять, как бы это половчее спросить, — что там с твоим дедушкой?
— А-а, — беспомощно отозвался я, помолчав.
— Ты с ним говорил? Он знает, что тебе некуда податься?
— Ой, пизд… — это само вырвалось, Хоби поднял руку, все нормально, мол, — вы не понимаете. Ну, то есть не знаю, Альцгеймер
у него там или что, но когда ему позвонили, он даже не попросил
меня к телефону позвать.— И, — Хоби оперся подбородком на кулак и глядел на меня, будто
скептически настроенный препод, — ты с ним так и не поговорил?— Нет, ну то есть лично — нет, там была одна тетенька, помогала
нам…Лиза, Ксандрина подружка (участливая такая, все таскалась
за мной и мягко так, но все настойчивее и настойчивее напирала
на то, что надо известить “семью”), в какой-то момент устроилась
в уголке с телефоном, набрала номер, который я ей продиктовал —
и положила трубку с таким лицом, что, увидев его, Ксандра единственный раз за весь вечер рассмеялась.— Тетенька? — переспросил Хоби в наступившей тишине, таким
голосом, каким сподручно, наверное, разговаривать с умственно
отсталыми.— Ну да. То есть, — я заслонил лицо рукой, цвета в кухне были
слишком уж яркими, голова у меня кружилась, держался я с трудом, — Дороти, наверное, взяла трубку, и Лиза сказала, она типа
такая — “щас, подождите”, никаких тебе: “О нет!”, или “Да как же
это случилось?”, или там “Ужас какой!”, просто: “Ща, секунду, я его
позову”, а потом трубку взял дед, и Лиза ему все рассказала про аварию, он выслушал и говорит: ясно, очень жалко, но таким, знаете,
тоном, как Лиза сказала. Никаких там: “Чем мы можем помочь?”,
ни “Когда похороны?”, ничего подобного. Просто, типа, спасибо
вам за звонок, он очень важен для нас, пока-пока. Ну, то есть я бы
это и так ей сказал, — взволнованно прибавил я, когда Хоби промолчал и ничего не ответил. — Потому что, ну правда, отца-то они
не любили — на самом деле не любили: Дороти ему мачеха, они
друг друга с самого первого дня возненавидели, а с дедом Декером
он вообще никогда не ладил…— Ясно, ясно. Тише, тише…
— … и да, конечно, с отцом, когда он был подростком, много проблем было, наверное, потому он с ним так — его арестовывали,
не знаю, правда, за что, честно, не знаю почему, но они вообще,
сколько я себя помню, знать его не желали и меня тоже…— Да успокойся ты! Я же не говорю, что…
— … потому что, вот честное слово, я с ними даже почти и не виделся никогда, я совсем их не знаю, но у них же нет никаких причин меня ненавидеть, хотя дед мой не то чтобы весь такой приятный дядька, отцу от него здорово доставалось…
— Шшшш, ну-ну, хватит! Я вовсе не стараюсь на тебя надавить,
просто хотел узнать… нет, вот что, слушай, — сказал он, когда
я попытался перебить его, он отмахнулся от моих слов, будто сгоняя со стола муху.— Юрист моей матери здесь. Здесь, в городе. Вы сходите со мной
к нему? Нет, — объяснил я, заметив, что он недоуменно сдвинул
брови, — не прямо юрист-юрист, а этот, который деньгами заведует? Я с ним по телефону говорил. Перед отъездом.— Так, — вошла Пиппа — хохоча, разрумянившись от холода, — да
что такое с этим псом? Он что, машины никогда не видел?Ярко-рыжие волосы, зеленая вязаная шапка, увидеть ее вот так,
при свете дня — как ледяной водой в лицо прыснуть. Она слегка приволакивала ногу, это у нее, скорее всего, со взрыва осталось, но то
была легкость кузнечика, диковатое, грациозное начало танцевальной фигуры, и на ней было наверчено столько слоев теплой одежды,
что она вся была как крохотный цветастый кокон на ножках.— Он мяукал, как кошка, — сказала она, раскручивая один из своих пестрых шарфов, Попчик пританцовывал у ее ног, закусив
поводок. — А он всегда так чудно пищит? Представляете, такси
проедет, и он — ввууух! Аж взлетает! Парусил на поводке, как воздушный змей! Все просто со смеху покатывались. Да-да, — она
нагнулась к псу и чиркнула его костяшками пальцев по голове, —
а кому-то вот надо искупаться, правда? Он ведь мальтиец? — спросила она, глянув на меня.Я рьяно закивал головой, зажав рукой рот, чтоб не чихнуть.
— Я люблю собак. — Я едва слышал, что она там говорит, так заворожило меня то, что она глядит прямо мне в глаза. — У меня есть
книжка про собак, и я выучила все-все породы. Если бы у меня
была большая собака, то ньюфаундленд, как Нэна в “Питере Пэне”,
а если маленькая — не знаю даже, никак не могу определиться.
Мне нравятся все маленькие терьерчики — особенно джек-расселы, на улице они всегда самые общительные и забавные. Но я вот
еще знаю одного очень славного басенджи. А недавно познакомилась с замечательным пекинесом. Он совсем-совсем крошечный,
но такой умница. В Китае их могли держать только аристократы.
Очень древняя порода.— Мальтийцы тоже древние, — просипел я, радуясь, что могу ввернуть интересный факт. — Эта порода еще в Древней Греции была
известна.— Ты поэтому мальтийца выбрал? Потому что порода древняя?
— Эхммм… — я давился кашлем.
Она что-то еще стала говорить — не мне, собаке, но меня скрутил очередной приступ чихания. Хоби быстро нашарил первое,
что под руку попалось — полотняную салфетку со стола, — и сунул
ее мне.— Так, ну хватит, — сказал он. — Марш обратно в кровать. Не надо,
не надо, — отмахнулся он, когда я попытался вернуть ему салфетку, — оставь себе. И скажи-ка, — он оглядел мою жалкую тарелку:
пролитый чай и разбухший тост, — что тебе приготовить на завтрак?В перерывах между чихами я выразительно, по-русски, в Борисовом духе передернул плечами: да что угодно.
— Ладно, тогда, если не возражаешь, сварю тебе овсянки. Она для
горла полегче. А носков у тебя, что, нет?— Эээ… — Пиппа — горчично-желтый свитер, волосы цвета осенней листвы — была поглощена собакой, и цвета ее смешивались
и мешались с яркими красками кухни: сияют в желтой миске полосатые яблоки, посверкивает игольчатым серебром жестянка изпод кофе, куда Хоби ставит кисти.— А пижама? — спрашивал Хоби. — Тоже нет? Ладно, поищем
что-нибудь у Велти. Когда переоденешься, я это все в стирку брошу.
Так, иди, давай-ка, — сказал он, хлопнув меня по плечу так неожиданно, что я аж подпрыгнул.— Я…
— Можешь здесь оставаться. Столько, сколько захочешь. И не волнуйся, к поверенному твоему я с тобой схожу, все будет хорошо.
Ирина Поволоцкая. Пациент и гомеопат
- Ирина Поволоцкая. Пациент и гомеопат: Совецкая повесть. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014. — 192 с.
В своих повестях и рассказах российский режиссер и сценарист Ирина Поволоцкая продолжает лучшие традиции русской прозы с ярко выраженной стилистической составляющей. Для каждого произведения писательница изобретает свой язык, стиль и неповторимую интонацию, поэтому они так не похожи друг на друга и пишутся подолгу. Повесть «Пациент и гомеопат» была удостоена премии Ивана Петровича Белкина в 2012 году.
I — Лю-чин! Лю-чин! — повторяла счастливо маленькая девочка, скача на одной ножке вкруг него, толстого, круглого, втиснувшегося в плюшевое, обтертое на подлокотниках кресло, а потом
вздохнувшего после такой работы, но все равно щеголеватость была в Лючине, элегантность
непонятная холеного тела в рыжих веснушках,
так заметных на белых до синевы ручках, прямо
женских, с тонкими пальчиками и ногтями аккуратными, полированными.— Лю-чин! — прыгала девочка, поворачиваясь к нему то стриженым затылком, то короткою
челкою с подвешенным бантом. — Лю-чин! Ты
китаец?— Нет, — сказал он и засмеялся.
— Китаец! — Она потянула веки к вискам. —
Вот, китаец!— Ксана! Иди сюда! — позвал из-за двери
женский голос.— Не пойду! — капризничала девочка, пристально заглядывая в глаза. — Не хочу к ним! Хочу с тобою! Китайчики веселые, хорошие, у меня
книжка есть. Мальчик Ли! Девочка Лю! Лю-чин!
А я хах-лу-шка, хах-лу-шка Ксаночка!Она все прыгала в своем байковом платьице,
а он, Лючин Евгений Бенедиктович, смеялся, да
он бы и прыгал тоже, потому что влюблен был
в ее юную тетку, влюбился вот, и теперь в кармане серого в полоску пиджака, вечером наденет, довоенного, правда, но из бостона, и моль
не съела, пока был в эвакуации, лежали билеты в Большой. Лёля ее звали, и она вошла три
месяца назад в эту комнату, когда он так же, как
и сейчас, сидел и ждал Алексея Павловича, своего начальника по управлению, а тот, как всегда, опаздывал, собираясь, и шофер Коля сидел
тут же, только на стуле, и тоже ждал, но из соседней комнаты вышел не Алексей Павлович,
а она и сказала:— Здравствуйте! — и протянула руку: — Леля! — а потом уже к Коле, они, конечно, знакомы
были: — Как мама, Николай Викторович?Коля встал со стула. Узкое молодое лицо его
всегда было какое-то темное, будто невыбритое, а глаза серые светлели. Он стал подробно
и длинно объяснять что-то про возвраты и приступы материнской болезни весной, осенью,
Лючин и не вслушивался, он глядел на нее. Она
была совсем не похожа на свою сестру, рыжую
красавицу Аню, жену Алексея Павловича. Глаза
карие и брови, сросшиеся на переносице, отчего выражение почти хмурой серьезности, но родинки над верхней губой так и прыгали, когда
она разговаривала.— До весны, слава богу, еще далеко… — сказал Коля.
Да, в тот день, вернее утро, когда он впервые увидал ее, до весны было далеко, а сегодня
март. По семейной московской привычке смену времен года он вел по старому стилю: только
в середине марта начиналась весна, а тринадцатого января наступал Новый год. Почему-то
всегда на старый Новый год было веселее, будто тот календарный — только репетиция этого,
по крайней мере, у него было так, и когда она
согласилась пойти с ним тринадцатого января
в ЦДРИ и стала звать на «вы», но Женя, — оказалось, что все тридцать четыре года его жизни были для того, чтобы она так стояла и сидела
рядом, стеснялась и мерзла в своем длинном,
но с короткими рукавами платье и говорила об
этом, а вокруг сумасшедше забавлялась послевоенная артистическая Москва… Для Лели было в диковинку, а у Евгения Бенедиктовича мать
играла на театре, блистала в оперетте — Ираида Ладонежская, такой псевдоним и такая немножко Кармен; было модно когда-то: на висках завитки, свои, безо всяких щипцов, несколько полновата, тут он в нее, но грациозна,
ноги ловкие, тонкие в щиколотках, и голос —
редкое контральто. С ее ранней смерти и таким образом с его раннего детства экзальтированные женщины с вытравленными волосами
кидались к нему с поцелуйными нежностями:
«Я подруга Иды!» — и потом через годы: «Боже мой! Ты совсем большой, Женьчик!» — а теперь, после войны: «Как идет время!» — и роняли слезы, воздевая руки. Но он обожал их,
они его совершенно умиляли; он и маленький
чувствовал себя взрослым рядом с ними, когда
они сходились на печальные годовщины Идиной смерти, нарядные как птицы, спервоначалу
тихие, порхали по квартире, а поклевав яблочный пирожок и выпив по рюмочке-другой, как
горлышко прочищали, щебетали и румянились,
пудрились прямо за столом и морщили крутые
лобики, рассыпая крошки, и убегали гурьбой,
словно девочки.— Полетели, сердешные! — всегда без улыбки
говорила его няня Настя, и еще вслед: — Ида наша, та серьезнее была, — и качала головою.Настя давно умерла, и отец, к которому он так
и не успел прилететь в сорок третьем из Кыштыма, засекреченного уральского городка, где работал в войну, — ничего эта девочка о нем не знала: щеки ее горели, в руках она сжимала сумочку
из бисера на серебряной цепочке, а он смотрел
на ее детские пальцы, в чернилах, без маникюра. Леля на втором курсе училась. Иняза. Потом он провожал ее, они с матерью в Лефортове
жили; трамвай остановился как раз у подъезда,
спичкой дуга чиркнула по проводам, и когда он
думал о Леле, всегда была эта короткая вспышка над снегом.Существование его теперь стало мыслью
о ней. День проходил, он Лелю видел, или она
звонила, и воспоминание делалось на миг длиннее — так бусы нижут, — усмехнулся Лючин, но
еще одну бусинку на нитку: сегодняшний утренний звонок.— Здравствуйте, Женя. Это Леля. Я вас не разбудила? Знаете, мне надо до театра еще платье
забрать, у Колиной мамы. Они в Замоскворечье
живут. Со мной? А мы успеем?И вздохнул Евгений Бенедиктович, припоминая, зажмурился и шеей повертел. Никак не мог
привыкнуть к форме Лючин, но Хозяин ввел, даже у них в геологии надобно было носить форму.
А в спецателье шили скверно.…Тогда зимой, спрыгнув с трамвая, на мгновение опершись о его протянутую к ней руку, она
скоро обогнала его и пошла впереди. Оренбургский платок, стянутый на затылке двумя концами, пальто в талию, подол платья, который она
подымала правой рукой без варежки, варежку
она в карман сунула, а бисерную сумочку другой рукой прижимала к себе, — он помнил все,
хотя глядел только на фетровые ботики, скользящие по снегу, присыпанному песком; он понимал: она боится споткнуться в своем длинном платье, и она споткнулась, подымаясь
по ступенькам к лифту, а он даже не успел помочь ей — он просто покорно шел за нею в этом
коридоре, проложенном в пространстве всем
тем, что была она, а Леля, бросив подол, — они
уже в лифт вошли, — стала разматывать платок и сразу забрызгала Евгения Бенедиктовича
растаявшими снежинками, и холодные капли
упали ему на нос. Рядом с нею он будто вовлекался в эти девичьи хлопоты: поправить прядь,
провести рукой по лбу, тронуть губы пальцем,
и снова прядь со лба, и вдруг в сумочку — достала платок носовой, повертела, положила обратно, потом вынула конфетку: «Хотите? Театральная!» Он отказался, а она развернула бумажку и сказала: «Фантик!» — а конфету в рот,
и родинки так и запрыгали… У них дома, а она
его домой позвала, конечно, не спали — старый
Новый год! — гости, но, верно, свои: какая-то
дама, коротко стриженная и в брюках, а тогда редко так одевались, ну и, конечно, Алексей Павлович с Аней, и еще одна женщина, потом оказалась соседка по квартире, сухонькая,
бледная, без помады, лицо молодое в морщинах: после войны таких лиц много было…— Мама, это Женя!
И мама Нина Васильевна, блестя глазами,
а стало понятно, в кого Леля, по-старинному
протянула ему руку:— С Новым годом!
И он обрадованно склонился к ее руке, а Леля засмеялась:
— Вы, Женя, очень галантный, а мама неисправима! — и сама, не дожидаясь помощи, забросила платок на вешалку.
— Да, я галантный, — сказал Лючин, ему всегда было легко говорить после шампанского,
а они там в ЦДРИ шампанское пили, и так же легко и нестеснительно он опустился перед Лелей
на колени и стал снимать с ее ног фетровые ботики, но кнопочка кожаная никак не расстегивалась; он поднял глаза к Леле, а она стояла в этом
своем нарядном платье, голубом, с длинным вырезом, а пальтишко с мерлушковым воротником,
детское почти, держала в руках — Лючин, замешкавшись с несчастною кнопочкой, мешал ей —
она как жеребенок стреноженный смотрела.— Простите, Леля, — шепнул он и вдруг увидел, что она краснеет, и даже капельки пота выступили на верхней губе с родинками. А у него
стало сухим горло.— Аня, поставь чаю для молодежи! — Это Нина Васильевна с дивана крикнула, она уже в столовой была, там они с Алексеем Павловичем
спорили громко, Лючин тогда не знал, что они
всегда так спорят, а соседка, такая девушка-старушка с лицом строгим, остановила:— Сидите, Аня, я сама чайник поставлю для Лели и Евгения Бенедиктовича! — Она так отчетливо
выговорила «Бенедиктовича», как по слогам.Это он теперь, ожидая Алексея Павловича,
вспомнил, а тогда ему все равно было, он и соседку Машу не знал, а вот она уже, верно, слышала о нем — это ему тоже сейчас в голову пришло, раз она сказала — для Лели и Евгения Бенедиктовича.— Шампанское, Женя, кончилось! Ничего, что
без отчества сегодня? — И, улыбаясь, Алексей
Павлович налил ему в рюмочку муската и сразу же, поворотяся лысою головой к Нине Васильевне: — Я с вами совершенно не согласен. Это
очень нужное произведение.— Ну вот, вы всегда так, — вспыхнула Нина Васильевна (они правда с Лелей похожи были), — говорите, а сами не читали даже, а утверждаете! — И еще сказала: — Нельзя же так заранее. Из газет.
— Мама! — Это уже Аня с неожиданной для
себя резвостью закричала, а Нина Васильевна
дернула плечом:— Мне ничего сказать нельзя, — и встала. —
Чай, наверное, готов. — И, самолюбиво облизав
губы, на кухню, курить, папиросы схватила, они
на пианино лежали, и Леля вскочила за ней.Лючин испугался, что они поссорились, но
по тому, как с усмешкою наблюдала за происходящим дама в брюках, с умилением догадался, что это как игра такая, что они все тут близкие и родные, а строгая соседка внесла чайник,
за ней Нина Васильевна с заварочным, и, как ни
в чем не бывало:— Кому налить? Кто хочет чаю? — А все хотели,
и, воспользовавшись суматохой, Лючин вышел
из комнаты и в пустой кухне увидал Лелю. Облокотившись на подоконник — а за окном была совершенная чернота, — она смотрела куда-то, Лючин
не знал, на что она смотрела, только подойдя ближе понял — там, в пустом пространстве, тоже была она, Леля, но совершенно недосягаемая, и огни противоположного дома светились у ее плеч,
как елочная гирлянда. Кстати, вспомнил, елка была у Лели под потолок, с фонариками, и флажками, и дождем серебряным; так пристально вспоминает по минуточке, а про елку забыл… Да, Леля — недосягаема, и теперь повторил про себя,
как тогда, когда слышал ее дыхание и видел затылок высокий и ровненький шов на воротничке.— Леля, — сказал он, глядя на этот шовчик, —
Леля, у вас сегодня было самое красивое платье.А Леля, не оборачиваясь:
— Вы забыли, какое платье у Целиковской…
— Нет. Не забыл. На тебе было удивительное
платье.Он так и сказал — на тебе… Сам не ожидал, но
получилось. Один раз — на «ты». За три месяца.— Его сшила мама Николая Викторовича. —
Леля обернулась, и он почти со страхом увидел
так близко Лелины губы с веселыми родинками,
а губы нахмурились чему-то.
Михаил Бару. Повесть о двух головах
- Михаил Бару. Повесть о двух головах, или Провинциальные записки. — М.: Livebook, 2014. — 480 c.
Издательство Livebook выпустило книгу заметок Михаила Бару о русской провинции. «Повесть о двух головах» открывает мир малоизвестных, а подчас и вовсе незнакомых городов вроде Южи или Васильсурска, Солигалича или Горбатова. Остроумно и добродушно автор описывает глубинку с ее неповторимой и захватывающей историей, уникальными людьми, тайнами, летописями и подземными ходами.
Самое интересное в поездках по провинции — это
процесс выбора городка, в который поедешь. Мечтаешь о том, чтобы приехать в такой медвежий
угол, куда до тебя никто не добирался, и чтобы
там — музей с несметными сокровищами и привидениями, с библиотекой Ивана Грозного; чтобы
в глухом углу заброшенного кладбища тебе под
расписку о неразглашении показали могилку старца Федора Кузьмича; чтобы через городок этот
проезжал Александр Сергеевич или Антон Павлович, не говоря о Николае Васильевиче, и все трое
оставили записи в книге постояльцев местной гостиницы и написали на обоях в нумере на втором
этаже кто — стих, кто — небольшой рассказ,
а кто — и маленькую повесть; чтобы на улицах стояли удивительной красоты памятники архитектуры всех стилей; чтобы из подземелья местного, еще
домонгольского храма, с удивительной сохранности фресками, вел подземный ход за реку; чтобы
можно было по нему пройти и найти наконечник
копья или стрелы, или берестяную грамоту, или страничку из старинного девичьего альбома с четверостишием Антона Павловича; чтобы Москва
была как можно дальше и чтобы никто слыхом
не слыхивал ни о вечном, как игла для примуса,
президенте, ни о депутатах, ни о ценах на нефть,
ни даже о курсе доллара и евро.Исключая президента, все остальное найти довольно просто. Даже страничку с четверостишием Чехова в девичьем альбоме.
Устюжна
А мне нравится здешний городок. Конечно,
не так многолюдно — ну что ж? Ведь это
не столица.Н. В. Гоголь «Ревизор»
В Устюжну я ехал через Тверь, Бежецк, Красный
Холм и Весьегонск. Последний участок дороги от Весьегонска до Устюжны составляет всего шестьдесят
километров. Первые тридцать километров дорога
идет от Весьегонска до границы Вологодской области и вторые тридцать — от границы до Устюжны.
Всякий знает, что дороги районного значения между
областями в нашем государстве… Если дорога
от Красного Холма до Весьегонска имеет вид убитой,
то от Весьегонска до Устюжны она выглядит так,
точно над трупом еще и надругались. Деревень здесь
совсем немного — все больше леса и болота. Места,
надо сказать, довольно глухие, но… нет-нет, да
и промчится, вздымая облака желтой пыли, огромный черный джип с московскими номерами, состоящими из сплошных семерок, или заполнит собой
всю дорогу чудовищных размеров трейлер, на котором везут на берег Мологского залива, аккуратно завернутую в чехол белоснежную красавицу-яхту. Кто
ее владелец… неприметный ли чиновник жилищнокоммунального хозяйства, отказывавший себе во
всем все четыреста… нет, пятьсот лет своей беспорочной службы и откладывавший всю до копейки
зарплату и квартальные премии на покупку корабля,
или мэр какого-нибудь города, не имевший сил отказаться от подарка, преподнесенного ему на юбилей
благодарными предпринимателями, или депутат,
случайно нашедший эту яхту под дверью своей однокомнатной квартиры, или прокурор, который, конечно, порядочный человек, да и тот, если сказать
правду, свинья.На улице с названием «Торговая Площадь» солнечно и пыльно. Когда-то красивые купеческие особняки,
с растрескавшейся и частью обвалившейся лепниной,
магазин канцтоваров с оригинальным названием
«Канцлер», Ленин в двубортном пальто и с кепкой
в руке. Рано он ее, конечно, снял. Ветер в начале мая
холодный. Голова-то у него выкрашена серебрянкой,
а она защищает хорошо от перегрева, но не от холода.
Первый этаж двухэтажного дома, где располагается
«Пирожковая», выкрашен в ядовитый ярко-розовый
цвет. Перед входом в заведение с озабоченным, деловым видом ходила рыжая собака с белым, закрученным колечком хвостом. Я заметил, что провинциальные собаки, в отличие от столичных, всегда при
каких-то делах. Лежит себе где-нибудь у входа на станцию метро «Тимирязевская» ленивая, безразличная
ко всему собака и нос воротит от сосиски, заботливо
подложенной кем-то из торговок кроссвордами или
горячей выпечкой. Не то ее провинциальная сестра.
Всегда-то она занята: или ожидает важного известия,
или спешит поделиться этим известием с другими
собаками. И при такой занятости провинциальная
собака всегда выкроит минутку, чтобы подойти к тебе
поздороваться за кусочком хлеба или колбасы, или
колбасы с хлебом, всегда подождет, если ты колбасу
вот-вот купишь, или проводит туда, где эта колбаса
продается. Почему она отказалась от пирожка с докторской колбасой, который продавался в «Пирожковой» на углу улицы Торговая Площадь и Конного переулка, — понятия не имею. Взяла зубами пирожок
и отнесла его в кусты, в кучу какого-то сора. На всякий случай я из солидарности с ней отказался еще
от двух пирожков с капустой, купленных там же.Внутри храма Рождества Богородицы, в котором
находится устюженский краеведческий музей, еще
холоднее, чем на улице. Молодые девушки, работающие музейными старушками, сидят на своих стульях в валенках, закутанные в толстые шерстяные
кофты. Когда заходишь в зал, где находится живопись и коллекция русского и западноевропейского
фарфора, то, честно говоря, чувствуешь себя неловко. Шел ты в гости к соседям по лестничной площадке на чай и потому на тебе домашние тапочки и потертые джинсы, а они тебя встречают во фраках,
вечерних туалетах, подлинниками Айвазовского,
Кустодиева и Верне. И ты стоишь в пропыленных туристических ботинках и с рюкзаком за спиной перед
огромным, в роскошной золоченой раме «Видом
Принцевых островов у Константинополя с высоты
птичьего полета на Мраморном море», и тебе хочется
немедля выйти и если и не переодеться во фрак, то
хотя бы вычистить ботинки.Айвазовский, Кустодиев, Кузнецовский и Мейсенский фарфор в собрании провинциального музея
объясняются просто. Некоторое время, еще при советской власти, Устюжна относилась к Ленинградской области, и ленинградские музейщики в качестве
шефской помощи… Вроде как в Юрском периоде
здесь было море, а потом оно отступило и оставило
после себя картины, фарфор и часы немецкой работы в корпусе из золоченой бронзы.Но и без Айвазовского, без тонких французских
кофейных чашек есть что посмотреть в Устюженском музее. И не только посмотреть, но даже и ограбить. В лихие девяностые вынесли из музея шесть
старинных икон. Таких икон, что уже через малое
время одна икона оказалась в частном немецком,
а другая в таком же частном английском собраниях.
У немца пришлось ее выкупать, англичанин же усовестился и вернул купленную у воров икону даром.
Теперь она в Москве, в храме Христа Спасителя. Там,
сказало начальство, целее будет. Вот сделаете себе
надежную охрану — тогда и вернем ее в Устюжну.
Начальство — оно ведь как замполит из известного
советского анекдота — ртом работает. Денег у него
в этом рту на охрану нет. Хоть обыщись. Пошли
по наименее затратному пути — запретили фотографировать оставшиеся иконы. Будь я директором музея — тоже бы, наверное, запретил от греха подальше. Я бы даже смотреть запретил. Завязывал бы
глаза посетителям в этом зале и водил бы их за руку,
останавливаясь перед той или иной иконой, и доверительным шепотом сообщал бы: «„Борис и Глеб“.
Пятнадцатый…» Впрочем, лучше и не говорить какого века. Нечего людей смущать. Сказать просто —
старая. Даже очень.По правде говоря, не за иконами и картинами
ехал я в Устюжну, которая была и есть город замечательных кузнецов, а не иконописцев. Железной руды здесь было много, и выплавлять из нее металл
стали еще две с половиной тысячи лето тому назад.
Потому, начиная со средних веков, к имени Устюжна всегда прибавляли фамилию — Железопольская, а то и просто называли ее Железным Устюгом.
Устюженские кузнецы были так искусны в своем
ремесле, что в начале семнадцатого века Москва заказала им огромные кованые решетки для Спасских
ворот в Китай-городе, к воротам Белого государева
города, к Петровским, Арбатским и Яузским воротам. Тогда дешевые китайские решетки из хромированной пластмассы купить было негде — приходилось ковать свои. Устюженские мастера сделали
пробную решетку и отправили ее в Москву с припиской, что хотят оплату по полтора рубля за каждый пуд живого веса решетки. Московские приказные крючки не соглашались и даже угрожали
устюженским — мол, кто не хочет ковать решетки
к воротам за разумные деньги, будет стучать по
тюремным бесплатно, но кузнецы, не будь дураками, дозвонились на прямую линию накатали царю челобитную с просьбой поддержать отечественного производителя. Царь Михаил Федорович с их
просьбой как бы согласился, но гривенничек с цены
все же сбросил. Кузнецы с новой ценой как бы тоже
согласились, но обиду затаили и отковали всего две
решетки. Тут вдруг выяснилось, что решетки уж
очень вышли велики, чего никто ожидать не мог,
и на обычную крестьянскую подводу никак… и на две тоже. С превеликим трудом их все же в столицу
доставили, но больше уж решеток в Устюжне не заказывали.Впрочем, решетки эти были для устюженских кузнецов, так сказать, непрофильным заказом. Профильным было оружие — сабли, кинжалы, пищали,
фузеи, осадные пушки, ядра. Качества все было отменного. Ручная во всех смыслах этого слова работа.
Мало кто знает, что местные оружейники делали
удивительные ружейные замки — их можно было
открыть только одним-единственным на свете ключом, который выдавался изготовителем. Неприятель,
подобравши на поле брани такое ружье, не знал, что
с ним и делать — без ключа оно не открывалось. Что
же касается наших фузилеров или пищальников, то
они имели секретную инструкцию — при попадании
в плен ружейные ключи проглатывать, каких бы размеров они ни были. К концу восемнадцатого века,
когда большую часть оружейных заказов перетянула
к себе Тула, устюжане придумали пистолеты с потайными курками. Вроде популярных в то время бюро
или секретеров с потайными ящичками. Нажал неприметную кнопку в неприметном месте — он и открылся. В том смысле, что выстрелил. Ну, а пока
не найдешь — хоть об голову им стучи. Говорят, что
такой пистолет с секретным курком Александр Первый подарил Наполеону после заключения Тильзитского мира. Бонапарт его везде с собой возил. Как
улучит свободную минутку — так достанет пистолет
и давай искать на нем потайную кнопку. Маршал Ней
вспоминал, что у императора даже был постоянный
синяк на правой руке — вот до чего часто колотил
он кулаком по пистолету от злости. Так он из него
и не выстрелил ни разу. Даже после Ватерлоо, когда
хотел… но так и не смог найти кнопки. Пришлось
ему ехать помирать своей смертью на остров Святой
Елены.И все же мало-помалу железоделательное производство и оружейное дело в Устюженском крае умирало. Часть, и, как водится, самую лучшую часть,
оружейников перевели в Тулу и на Урал, а оставшиеся кустари-одиночки делали лопаты, серпы, сковороды, ломы, подковы и гвозди. В начале прошлого века
череповецкий купец Носырин построил в Устюженском уезде целый гвоздарный завод. До этого он четыре года прожил в Америке, изучая тамошнее производство гвоздей. Да так хорошо изучил, что смог
придумать свои собственные машины для выделки
подковочных гвоздей из нашего железа. Невелика
важность, скажете вы. Ан нет — велика! До Носырина подковочные гвозди делали из более дорого шведского железа. Стал купец добиваться подрядов в кавалерийские полки и артиллерийские бригады, но…
тогдашние Рособоронкавалерия и Рособоронартиллерия, прикинувши гвоздь к носу, то есть посчитавши прямую выгоду… то есть убытки… решили
не рисковать и переплатить шведам, чтобы уж точно
не остаться в накладе. Так и разорился передовой завод в десятом году, за четыре года до Первой мировой. Потом, когда враг вступит в город, пленных не
щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя… Потом
непременно нарядят следствие и тридцать шесть тысяч следователей следственного комитета допросят
с плохо скрываемым пристрастием тридцать шесть
тысяч подозреваемых и тотчас же арестуют тридцать
шесть тысяч счетов на Кипре и на Сейшелах, с которых деньги будут заблаговременно…Ну да сколько можно о грустном. Лучше о комическом. Как известно, Устюжна, ее чиновники и ее
городничий послужили прототипами гоголевскому
«Ревизору». Увы, не осталось ни гостиницы, в которой закусывали свежей семгой Добчинский и Бобчинский на глазах у голодного Хлестакова, ни дома
городничего, ни богоугодных заведений*. Висит
в одном из залов музея портрет Ивана Александровича Макшеева, бывшего городничим в Устюжне
в том самом, тысяча восемьсот двадцать девятом,
году, когда проехал через город некий Платон Волков и здорово обобрал местное начальство, представляясь чиновником министерства. К чести Ивана
Александровича надо сказать, что он не был полным
Антоном Антоновичем. Герой войны двенадцатого
года, участник Бородинского сражения, награжденный золотой шпагой за храбрость… очень боялся
чиновников. Он был из тех русских военных, что
«смело входили в чужие столицы, но возвращались
в страхе в свою». А кто у нас, позвольте спросить,
в этом смысле не военный? То-то и оно. Справедливости ради надо сказать, что история устюженского
городничего окончилась не так печально, как гоголевского. Макшеев еще семь лет благополучно
исполнял свою должность. Не потому, что… а по
той причине, что приходился дальним родственником всесильному графу Аракчееву. А как был бы
ближним, то, может статься, и на повышение пошел
бы. Да и Платон Волков, мелкий вологодский чиновник, в сущности, отделался легким испугом
по той же самой причине. Нет, он не был родственником Аракчеева, но его жена состояла в родстве
с князьями Бобринскими.Понятное дело, что городские власти к двухсотлетнему юбилею со дня рождения Гоголя решили…
но передумали. На общий памятник всем героям
пьесы денег не хватило, а ставить памятник Ивану
Александровичу Макшееву в обнимку с Иваном
Александровичем Хлестаковым — так это получится насмешка и ничего больше. Над кем, мы, спрашивается, смеемся? Один умник, из числа местных европейцев и либералов, и вовсе предложил изваять
на постаменте унтер-офицерскую вдову в тот самый
момент, когда она сама себя сечет, но как только о такой, с позволения сказать, идее узнало вологодское
начальство… Думали, думали и решили, что бюджетнее и безопаснее всего изготовить памятник веревочке. Той самой, про которую слуга Хлестакова,
Осип, сказал: «Что там? веревочка? Давай и веревочку!» Призвали даже кузнеца, который должен был,
сообразуясь с художественным вкусом, выковать ее
из железа… и передумали. Оно, конечно, веревочка — тьфу. Ничего не значит эта веревочка, но черт
знает, что может она означать…«А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?» — спрашивал Хлестаков у почтмейстера Шпекина. Можно. Отчего же нельзя. Бонтона, конечно, столичного нет,
и провинциальные гуси ходят по улицам. С другой стороны — где же, спрашивается, ходить провинциальным гусям, как не у себя в провинции? В столице
им места нет — там ходят столичные гуси. Зато
в Устюжне хватает места и гусям, и курам, и сидящим на заборах кошкам, и собакам, гоняющим этих
кошек, и селезням, степенно плавающим в синей-пресиней воде речки с колдовским названием Ворожа, через которую перекинут изящный деревянный
мостик, увешанный разноцветными свадебными замочками. Можно прожить счастливо в Устюжне.
Только упаси вас Господь от местных пирожков
с докторской колбасой. Да и с капустой тоже.
* Вот разве что к заборам, как и прежде, «черт их знает
откудова наносят всякой дряни».
Константин Арбенин. Король жил в подвале
- Константин Арбенин. Король жил в подвале и другие сказочные истории. — СПб.: ЛЕМА, 2014. — 256 с.
Писатель, музыкант и актер Константин Арбенин выпустил новую книгу историй для детей и взрослых «Король жил в подвале». Значительная часть произведений сборника публиковалась в периодике, звучала по радио и ставилась на сцене. Внимание к творчеству Арбенина абсолютно оправдано: автор перемешивает сказочные мотивы и реализм, острый сюжет и философию, делает повествование напряженным и стремительным, чему способствует лаконичная, почти сценарная манера изложения и яркие образы.
Соната для чайника со свистком Немолодой холостяк Семён Васильевич купил себе в комиссионном магазине обнову — Чайник со свистком. Принёс его домой и определил место на кухонной плите — тут ему теперь жить и работать. А Чайник оказался не из простых, а с талантом. Были у него слух и голос, и больше всего на свете он любил, согреваясь, насвистывать классические музыкальные номера. Получалось у него это очень даже хорошо, без фальши: раньше-то тот Чайник много лет жил у настройщика и кое-чему научился. Уж на что Семён Васильевич равнодушен был к классике, а и ему нравилось, как Чайник насвистывает. Он даже чая стал в два раза больше пить, только чтобы послушать лишний раз что-нибудь из Брамса или из Чайковского. Мало того, через какой-то месяц Семён Васильевич стал отличать менуэт Боккерини от полонеза Огинского, а адажио Альбинони от реквиема Верди. А потом совсем неожиданная вещь произошла. У Семёна Васильевича на кухне испокон веку обитал старый Радиоприёмник, который музыке тоже в общем-то не чужд был, но в последние годы впал в некоторый маразм, пел вульгарные песни, кряхтел и заикался, а иногда даже выражался неприличными словами. Так вот, хозяин взял да и выкинул его. Решил: зачем нужна эта рухлядь, если теперь есть в доме настоящая музыка; да и экономия на радиоточке опять же какая-никакая, а ощущается.
В общем, Чайник со своими симфониями и фугами пришёлся Семёну Васильевичу, как говорится, по душе и ко двору. Но на той же кухне давно снимал угол старый ворчливый Холодильник. Так вот ему Чайниковы трели никакого удовольствия не доставляли, скорее наоборот. Тому Холодильнику ещё в молодости грузчик наступил на ухо, поэтому и слуха у него не было. Вместо этого был у него хронический бронхит, вследствие которого он оглушительно храпел и кашлял — не только ночью, но и иногда днём. Ну а когда его многолетний приятель — гнусавый и заносчивый Радиоприёмник угодил по вине Чайника на помойку, Холодильник просто возненавидел этого свистуна.
— Безобррразие! — ворчал Холодильник по ночам. — Свистит и свистит почём зря, все деньги из дома высвистел! Лучше бы гимн утром играл или что-нибудь для души, из Алика Кобзманова — вот это я понимаю! А то какие-то тили-пили!
Холодильник ставил себя намного выше Чайника. На то у него были веские и уважительные причины. Во-первых, у него внутри лежали продукты, а в Чайнике только вода булькала. Во-вторых, у него был свой отдельный угол, а Чайник ютился на коммунальной плите вместе с двумя Кастрюлями и старухой Сковородой. И самое важное — Холодильник работал от электричества, у него был прямой провод в розетку, и это наполняло его неизъяснимой гордостью и самодовольством. А Чайник — что! У него даже никакого намёка на провод не было, был он гол и сложными внутренними механизмами похвастаться не мог. Непонятно, откуда в нём эта самая музыка возникала, из каких таких пустот и глубин. Поэтому — так считал Холодильник — Чайник не имел права высказываться, а тем более — исполнять музыкальные номера.
А Чайник места своего не понимал, на ворчание Холодильника никак не реагировал и продолжал себе повышать своё исполнительское мастерство, выдавал всё более сложные и красивые партии. Да ещё птицы за окном подпевать ему стали: расслышали, что в этом доме чудесный Чайник живёт, и принялись слетаться по утрам, настраивать свои звонкие голоса по кухонному камертону, распеваться прямо Холодильнику в раздавленное ухо. Холодильник вконец рассвирепел.
«Ну ничего-ничего, — думает, — скоро зима придёт, тогда я управу-то на этот хор найду! И солиста-водохлёба приструню, попомните моё слово! Посмотрим, как он запоёт!» Затаил обиду и стал дожидаться, пока птицы на юг улетят, а Семён Васильевич окна на зиму бумажками заклеит.
Но и зима облегчения Холодильнику не принесла. Дома похолодало, и хозяин ещё чаще стал Чайник кипятить: взял манеру каждые два часа согревать чашечкой чая тело, мелодиями — душу.
И тогда задумал Холодильник соседа своего извести.
Пришёл однажды Семён Васильевич на кухню, налил в Чайник воды, зажёг конфорку и уже совсем было собрался надеть свисток на носик, как вдруг Холодильник под руку ему зашёлся кашлем. Таким бурным кашлем, что Семён Васильевич перепугался, стал Холодильник по спине стучать, а про свисток совсем забыл. Так и ушёл с кухни, оставив свисток на столике.
А Холодильник после того выключился — мол, он здесь ни при чём. А ведь знал, что без сигнала Семён Васильевич про Чайник наверняка не вспомнит! Чайник уже выкипать стал, пар из него так и валит, а свистнуть никак не получается. Он хрипит, сипит, булькает — всё без толку. Вот уж и воды в нём не осталось, вся в воздух ушла. Раскраснелся Чайник, пластмассовая ручка плавиться начала. Две Кастрюли и старуха Сковорода смотрят на него с сочувствием, Холодильник про себя осуждают, а сделать-то ничего не могут — ну пошипела немного Сковородка, ну позвякали крышками Кастрюли, а толку чуть.
В общем, Семён Васильевич запах учуял, когда уже вся ручка на плиту стекла и пузыриться стала. А Чайник весь почернел, стал снаружи как та сковорода — шершавый и покорёженный. И хотя внутри он остался бел и гладок, голос у него с тех самых пор пропал — как отрезало.
Семён Васильевич, насколько смог, почистил его мелким песочком, но это не помогло. Теперь из носика раздавался лишь негромкий однотонный свист, сплошная нота ми. Холодильник этому исподтишка радовался, а на виду по-отечески утешал пострадавшего:
— «Ме» — это ничего, это хорошая нота, не хуже других. Чайник — не патефон, с него одной ноты вполне достаточно. Вот у меня нот вообще нет, одни хрипы да храпы — а я ничего, на жизнь не жалуюсь, потому и беру от неё по потребностям. Как говорил мой сборщик: кому мало дано, тому много положено!
Но зря Холодильник похвалялся, потому как вскоре после этих заявлений случилось с ним несчастье. Как-то ночью вырубилось по всему дому электричество. Холодильник спросонья только кашлянуть успел, дёрнулся, громыхнул всем металлическим телом — и отключился. Чайник-то понял, что дело неладно, а на помощь позвать не может, да и некого — все спят. Поутру электричество включили, а Холодильник в себя так и не пришёл: от толчка что-то в его организме разорвалось, какая-то жизненно важная жидкость на пол вытекла, и как Семён Васильевич ни тряс его, как по бокам ни пошлёпывал, не оживал старик. Продукты в нём испортились, лёд растаял, температура упала до катастрофической метки. Вызвал хозяин холодильного мастера.
— Всё, — говорит мастер, — извините, хозяин, но холодильничек ваш восстановлению не подлежит. Он своё с лихвой отслужил, пора ему на покой. Выражаю вам свои, так сказать, соболезнования. Могу посодействовать в приобретении нового агрегата.
Но новый агрегат Семён Васильевич пока покупать не стал — не на что. Ему и на новый чайник-то сейчас денег не хватало, не то что на холодильник. И стал он, пока зима, немногочисленные скоропортящиеся продукты вывешивать в авоське за форточку, а Холодильник оставил на прежнем месте наподобие тумбочки — складывал в него крупу, картошку, пустые бутылки.
Старик совсем потерял былой блеск: ни шевелиться, ни ворчать уже не мог, и провод его, вынутый из электрической розетки, безвольно валялся в пыли у плинтуса. Чайнику было жаль его. Так жаль, что он в первый раз за всё это время почувствовал в себе музыку — печальную прощальную сонату для Чайника со свистком. Посвящается соседу Холодильнику. Самое интересное, что музыка эта появилась внутри Чайника сама собой и никакому композитору не принадлежала — это было собственное Чайниково сочинение. Да и не сочинение вовсе, а так просто — чув¬ствование. И вечером, когда всё внутри него стало закипать, он попробовал насвистеть эту нехитрую мелодию. Видимо, получилось что-то весьма странное, потому что Семён Васильевич, быстро прибежав на кухню, долго не гасил огонь и всё слушал и слушал этот хриплый порывистый свист. Даже глаза у него заслезились — то ли от пара, то ли от этой пронзительной ноты ми… А потом Семён Васильевич присел за стол, склонился над пустой чашкой и даже чаю себе не налил — всё думал о чём-то да вздыхал.
Так и молчали они целую ночь на кухне: безголосый Чайник, обесточенный Холодильник да немолодой холостяк Семён Васильевич. Думали все трое приблизительно об одном и том же: о том, что нечто самое важное в их жизни уже потеряно и восстановлению не подлежит. И как теперь продолжать жить без этого самого важного? И можно ли всю оставшуюся жизнь держаться на одной только ноте, когда точно знаешь, что раньше их было семь?
Но впереди ожидалась весна. Должны были вернуться из тёплых стран птицы, Семёну Васильевичу на работе обещали дать небольшую прибавку к зарплате, во вторник по телевизору намечался концерт симфонического оркестра, да и в недрах Чайника зрел уже какой-то неведомый доселе жанр. Значит, перспективы всё-таки были.
И пока эти трое коротали ночь на кухне и обо всём об этом размышляли, они слышали внутри себя музыку. Не гимны, не дурацкие песенки, а ту самую — живую классическую музыку в исполнении Чайника со свистком. Даже Холодильник слышал теперь именно её. Стало быть, музыка та не исчезла, не расплавилась, не улетела на юг. И чтобы услышать её надо было совсем немного — замолчать и задуматься.
Paola. Алфавит Паолы Волковой
- Paola. Алфавит Паолы Волковой. — М.: Слово, 2014. — 216 с.
Необычное имя этой московской легенды слышали многие. Паола Волкова была ученицей философа Мераба Мамардашвили и востоковеда Льва Гумилева, печаталась в журналах и газетах, написала несколько книг о Тарковском. Появившись на телеканале «Культура», Паола Дмитриевна завоевала любовь зрителей и стала интеллектуальной звездой. Потом вышли ее книги, лишь одна из которых была выпущена при жизни. «Алфавит Паолы Волковой» – что-то вроде справочной книги, состоящей из рассказов обо всех, кого Паола любила, о том, что ценила, и о чем размышляла.
Эта часть книги — речь Паолы. Фрагменты
записей ее лекций и выступлений. Понятия
и люди. В основном это реплики, но есть
и маленькие эссе — части мозаики, отражение
ее мышленияГений
Художники оставляют отпечаток внутреннего своего мира (только не ругайте меня за высокопарность). А гений кто? Гений — это тот, кто пришел в одном экземпляре, и до него никто не делал того, что он делает. И после него никто не сделает. Его интересует другое, чем всех. Его не интересуют бытовые вещи, его интересует природа связи человека, космоса, времени; его интересует совесть, его интересует долг.
Все гении — обладатели пассионарного сознания (от лат. «носитель энергетики нации»). Для своих эпох они были возбудителями спокойствия. У всех у них отсутствует чувство самосохранения. Если девиз любого обывателя — осторожность и предусмотрительность (а среди них встречаются очень умные, талантливые люди, но делающие всё, как все, и любящие, чтобы у них было всё, как у всех, — только дороже), то гении — это люди совершенно свободные в своих мыслях и в поведении. Они как бы выпадают из жизненной нормы и создают мощный мотор цивилизации.
Гений — это всегда Откровение.
Да, есть люди, которые, попадая в определенные ситуации, становятся Великими. Но, как правило, они чаще разрушают, так как думают только о себе (примером могут служить и Сталин, и Ленин).
Гении раздвигают границы нашего сознания, и получается, что их сознание, доходя до нас, влияет и изменяет наше. Полностью или частично — это не столь важно. Важно то, что в этот момент мы начинаем эволюционировать. Они — спасители мира. Без них мир пропадет.
Поэтому личностей любят уничтожать. Нет личности — нет и культуры. У Конфуция как-то спросили: «Что скажешь о будущем?» И он ответил: «Давно лошадь не выходила из воды, давно птица Феникс не возрождалась на Аравийском полуострове. Боюсь, что все кончено». Что имел он в виду? Под Фениксом Конфуций имел в виду раскрытие сознания и возрождение из пепла. Он как бы говорит: как мы узнаем что-либо, пока к нам не придут и не скажут об этом?
Гогосов, Вадим
второй муж Паолы ВолковойЯ почему-то вспомнила, как пришла в библиотеку «Ленинку», где занимался Вадим. Пришла то ли раньше, то ли позже времени и пошла не по основной, а по боковой запасной лестнице. И он бежал вниз, по ней же, и мы столкнулись случайно, а так — разминулись бы. Случайностей не бывает. Это была судьба или звено в цепи судьбы, которая есть необъяснимая идея жизни. Необъяснимая, потому что нам не дано знать о ней заранее. Наверное, она не бывает плохой или хорошей, и нам не дано о ней знать вообще. Надо быть Слепой в этот момент.
Габриадзе, Резо
художник, режиссерВ 1996 году Резо Габриадзе получил премию «Триумф», а в 1998 году решено было отметить дни «Триумфа» в Париже. В программу входила и большая выставка работ художников-лауреатов. В особняке Десо каждый имел отдельный зал. Одни имена чего стоили: Юрий Норштейн, Андрей Вознесенский, Давид Боровский, Эрнст Неизвестный, Рустам Хамдамов, Резо Габриадзе.
Резо — художник разносторонний, разноодаренный. Экспозиция отразила все грани его таланта. Живопись, эскизы декораций, графика «Дюма в Париже» и «Пушкиниана» (совместно с Андреем Битовым), оригинальная скульптура и скульптурная миниатюра. Все было красиво экспонировано, экстравагантно, значительно. Перед открытием прибыл и сам Резо. Как всегда, в кепке и с загадочными искрами в глазах. Я говорю ему: «Пойдем, посмотри какая у тебя экспозиция». Он сверкнул глазами, сдвинул кепку на затылок и сказал: «Слушай, где у тебя тут красное вино?» Это Резо. Театральный, остроумный и очень грустный, выше меры талантливый и общительный, как кинто. И абсолютно замкнутый в себе.
Реваз Леванович Габриадзе из Кутаиси. К моменту поступления на Курсы (1964 год) окончил Тбилисский государственный университет с дипломом журналиста. Уже будучи слушателем Высших курсов Габриадзе написал сценарий «Агули Эристави», который сразу же взял для экранизации сам Эльдар Шенгелая (экранное название этого незабываемого фильма — «Необыкновенная выставка»). А в 1969 году вышел на экраны фильм «Не горюй!» Георгия Данелии по сценарию Резо Габриадзе.
Его жизнь в искусстве — в самом корне того явления, которое мы знаем как грузинский кинематограф. Нет грустнее комедий, чем те, которые он пишет. Стилистически его литература возрождает эксцентрику маски. Может быть, именно поэтому он нашел себя в создании уникального кукольного театра марионетки в Тбилиси. В соавторстве со своим однокурсником Андреем Битовым создал «Пушкиниану» и поставил одну из самых философско-поэтических кукольных драм «Песнь о Сталинграде». А может быть, так и есть, и мы не более чем типы-маски, марионетки кукловодов-сценаристов, и Реваз знает эту тайну, и потому такой грустный…
Гумилёв, Лев Николаевич
ученыйЛев Николаевич обладал прямо-таки дефектами речи, шепелявил (говорят, унаследовал от отца). Говорил «я зов» вместо «зол», меня называл «Паова». Но ничего, нам это не мешало сидеть с вытянутыми шеями и открытыми ртами.
Как-то он читал лекции, в мае. Страстный его поклонник Саша Кайдановский вызвался привезти его на своей машине. Но Саша заблудился, и они опоздали на час. Мы стояли на улице около Курсов. Курили, болтали, ждали. Наконец подъехала машина. Из нее вышли смущенный Саша и раскаленный добела Гумилёв. Он был в старомодном габардиновом плаще и в старомодной шляпе, надетой, как детская панама. Очи метали молнии. Став передо мной в любимой позе итальянского патриция, с рукой, согнутой в локте и упертой в бедро, профессор изрек: «Паова, я зов! Зов… как помесь квакадива с осьминогом». Виновата была, конечно, я, так как привела его на Курсы читать лекции по этногенезу. Отошел он быстро, благодаря общей любви и вниманию. После лекций предложил немедленно «пропить гонорар» (пил только водку и много курил), а домой его отвез Саша.
Лев Николаевич без всяких сантиментов сводил счеты с блаженным Августином Гиппонским, с наделенным всеми пороками Ричардом, но придыхал, когда речь шла о Чингисхане. Это просто был идеал всех времен и народов. Ну, если недостатки, то незначительные, простительные. Он хорошо знал всякие детали, как и чем и в какой цвет красили волосы, например, лангобарды. «Только не врите, да или нет, в какой и как завязывали. Это очень важно. Не знаете — в зеленый, вот», — и так далее…
«Век-волкодав» безошибочен в выборе мишени. Он безжалостно целится в поэтов, философов, да и во всех, кто не «волк по крови своей». Таким трудно всегда и везде, в России же особенно. Лев Николаевич Гумилёв был идеальной мишенью. Ему было очень трудно выжить, для этого не было никаких оснований.
Русский дворянин, сын расстрелянного в 1921 году поэта и путешественника Николая Гумилёва и поэта Анны Ахматовой, он никогда, с самого детства, не знал ни покоя, ни семьи, ни сытости. Его сажали и ссылали с 1932-го до 1956-го. Он воевал в Великую Отечественную в штрафном батальоне с 1943-го по 1945-й. И все-таки ничто, ничто не помешало Льву Николаевичу стать самим собой и равнодостойным своих родителей.
«Рыжий львёныш, с глазами зелеными, страшное наследие тебе нести…» — так предсказала Цветаева судьбы четырехлетнему Лёве.
Поэты видят далеко и ясно. Гумилёв обожал своих родителей, и направление его научных интересов определилось рано и не без влияния отца, который занимался Чёрным континентом и ездил на «озеро Чад». Был Николай Гумилёв и профессиональным воином, награжденным золотым оружием за храбрость (как за сто лет до него другой поэт-воин — Михаил Юрьевич Лермонтов). На стене комнаты ленинградской коммуналки, где жил Лев Николаевич, висела картина — портрет Николая Степановича на фоне «Битвы св. Георгия со змием».
Сломаться, согнуться Льву Николаевичу не дало родовое чувство ответственности, воля и упрямство — «Вам он бродяга, шуан, заговорщик, / Нам он — единственный сын» (А. Ахматова). До 1956 го да Лев Гумилёв учился, вернее, сдавал экзамены, и даже защитил диссертацию в перерыве между посадками. А уже после 1956 года он не отвлекался от своего труда ни на минуту, и не было у него иной жизни, кроме любимого дела. Светским человеком он не был. Ученый-энциклопедист Лев Николаевич Гумилёв создал свое интеграционное направление науки, где сплавились история, география, востоковедение, философия, психология. Он установил зависимость землепользования от уровня или стадии исторического развития этноса. Но политики, к великому сожалению, не читают книг Гумилёва. Если бы они их читали! Кому бы в голову пришло поворачивать реки и сливать отходы в Каспий?
Думаю, что открытая им зависимость, взаимозависимость среды обитания и обитателей будет наконец осмыслена как закон. А психологические императивы, выражающие такую взаимосвязь, могут стать своего рода психологическими тестами самопознания общества. Его высказывания были шокирующими, но крепко западавшими в память слушателей: «Памятник надо поставить английским шерифам, охранявшим леса, а не разбойнику Робин Гуду!»
Гойя
То, что запечатлевал Гойя, — тоже опыт нашей блуждающей души, не умеющей обрести покой. И ведь этим даром запечатления ужаса, страдания, страха наделено очень малое количество художников. Для этого надо иметь очень большое мужество, надо очень глубоко заглядывать в себя, в свое время и — не бояться. Но для этого надо быть таким, как Гойя. Это случай очень редкий. Случай, может быть, только испанский… Или надо быть таким, как Босх…Гумилёв первый и единственный в мировой науке описал в книгах историю кочевых народов и Великой степи. Согласно его теории этногенеза, исторического «сиротства» не существует. Нет великих и малых народов, есть лишь разные культурные традиции и фазы системы. Да, именно системы или антисистемы, в которую может залететь безумная нота в развитии музыки этногенеза. Этнос держится единым полем, традициями и системой ценностей. А если система ценностей и традиций распадается, то распадается и Дом как мир, и Семья как население Дома.
Это лишь одно из положений труда всей мятежной, сказала бы я, детективно-драматической жизни Гумилёва. А труд называется «Этногенез и биосфера Земли». Сегодня эту книгу можно купить в любом книжном магазине, а когда Лев Николаевич читал на Курсах, мы подписывались на самиздат. Эту книгу полулегально печатал Институт информации, и мы ее заказывали, покупали, зачитывались ею.
С историей он был интимен, Александра Македонского запросто называл Александром Филипповичем. Изображение на монете, найденной в Эрмитаже, идентифицировал с личностью иранского царя Бахрама Чубины, первым перевел на русский язык его стихи. Лекции Гумилёв читал бесподобно, эмоционально — восклицал, удивлялся, готов был часами отвечать на тысячи вопросом. Потом долго сидел, пил чай, водку, сплетничал. Однако мы не сказали о главном. А главное — гипотеза о том, что движет процессом этногенеза. «И море, и Гомер, все движется любовью», — так писал Осип Мандельштам. (Лев Николаевич с детства знал и очень любил Осипа Эмильевича.) Так вот, он говорил почти то же самое, только слово «любовь» заменял словом «страсть». Пассионарность — бессознательная одержимость, некая биоэнергетическая доминанта, которая стимулирует новый толчок к историческому развитию, т. е. этногенезу.
Согласно теории Гумилёва, вся история этноса укладывается примерно в 1200–1400 лет и протекает как растрата пассионарной энергии этноса, т. е. «от человека к обезьяне». Наши мозги трещали, тем более, повторяю, книги его тогда не издавались.Лев Николаевич всегда был фигурой спорной. Его теория вызывала и вызывает несогласие и раздражение. Он прикасался к больным точкам. Например, «монголо-татарское иго», «теория викингов» и многое другое. Он замечательно рассказывал, как викинги в момент своего пассионарного апогея называли себя «шикарным словом шпана и лопали наркотики в виде белой поганки». Студенты, в отличие от официальной науки, его ждали всегда. А прав он «по истине» или нет — доказать невозможно. Но он единственный, кто предложил на сегодняшний день строгую теорию о возникновении и исчезновении наций и государств в мировой истории.
Гуэрра, Тонино
писатель, сценарист, художникОн трудится, как крестьянин, с утра до вечера, постоянно. Неустанно рисует, делает коллажи, лепит из глины, пишет… Какой праздник, какое ликование света и воды в его фонтанах! Как прочно и на века сколочено уникальное дерево шкафов! И тут же, одновременно, — учитесь слушать тишину. Она бывает оглушительной. Любите и берегите любовь каждым атомом своего чувства. Она хрупка и, «к сожалению, настоящие слова прячутся под языком» (Тонино Гуэрра).
До самого последнего дня Тонино писал сценарий, принимал мэров Романьи, интересовался всем на свете: от личной жизни друзей до мировой политики.
Он сам и все пространство вокруг него — дом, сад, город — являлись, становились художественной формой, воплощением идей и воображения этого поистине гениального художника и поэта.
О Тонино Гуэрре следует сказать: «Он был поэт». Где поэзия не стихосложение, но универсальная форма целостного проживания жизни во всем и до конца, включая Музу — жену Лору Гуэрру.
Покой? Отрешенность? О, нет! Скорее нескончаемая пьеса Пиранделло. Хлопают двери. Действующие лица (все) входят, выходят, и все — со своими репликами в драматургии фантастического спектакля — жизни. Атанелла стоит, руки в бок, и орет так, будто конец света. На самом деле утверждается меню обеда и чем заправлять бульон. У великого друга Джани (он Дон Кихот буквально, и одновременно Санчо Панса — Тонино) вопросы более сложные и тонкие, но все же ежедневные (и не один раз на дню). Всего не перечесть.
Талант Тонино Гуэрры — скольжения по грани — делает его ясно видящим людей, политику и особенно самое хрупкое, что есть, — любовь и красоту мира в непрерывности и разнообразии его сотворения.
Тонино не называл смерть по имени. Он говорил: «Я перехожу из одной комнаты в другую». Он прав. Смерть бесповоротна, а у него впереди долгая и славная жизнь. Просто мы остались без его физического, живого дыхания, взгляда незабываемого и совсем особого. Это и есть потеря. И еще. Он больше не сделает фонтанов, не смастерит шкафов, игрушек, кувшинов, не нарисует еще одну бабочку. Он не напишет новые пьесы и сценарии, не нарисует чудесные, как аромат травы забвения, картины. Не преобразит своей рукой мир и не спросит: «Ты сясливи?» А я спрошу: «А ты?» А он скажет: «Я сегодня сясливи». Тонино радуется любому чужому успеху: «Это феноменально!»
Дэйв Эггерс. Сфера
- Дэйв Эггерс. Сфера / Пер. с англ. Анастасии Грызуновой. — М.: Фантом Пресс, 2014.
В начале ноября в издательстве Фантом Пресс выйдет роман американского писателя и сценариста Дэйва Эггерса «Сфера» – антиутопия о человеке, запутавшемся в социальных сетях. С помощью интернета компания «Сфера» строит общество, в котором власти подотчетны гражданам, а те в свою очередь сообща улучшают абсолютно прозрачный мир, где не осталось вообще никаких тайн. Ну в самом деле: если ты не совершаешь ничего дурного, зачем тебе что-то скрывать? Если же ты хочешь побыть один, берегись. Человечество не позволит тебе такой роскоши, а то и вовсе объявит социапатом.
В половине пятого Дэн прислал сообщение: «Пока великолепный день! Зайдешь в пять?»
Мэй зашла. Дэн поднялся, усадил ее в кресло, закрыл дверь. Посидел за столом, постучал по стеклянному экрану планшета.
— 97. 98. 98. 98. Замечательные средние показатели на этой неделе.
— Спасибо, — сказала Мэй.
— Просто блеск. Особенно если учесть нагрузку с нубами. Тяжко было?
— Первые пару дней — да, пожалуй, но теперь они обучены, и я им не очень-то нужна. Они все хороши, и вообще-то стало чуть легче — больше народу работает.
— Отлично. Приятно слышать. — Дэн поднял голову, заглянул ей в глаза: — Мэй, тебе хорошо в «Сфере»?
— Абсолютно, — сказала она.
Лицо его просветлело.
— Хорошо. Это хорошо. Прекрасная новость. Сейчас я тебя позвал, чтобы, ну, соотнести это с твоим социальным поведением, с тем, что оно транслирует. Видимо, я не очень понятно все тебе объяснил. И я виню себя за то, что плохо поработал.
— Нет-нет. Ты поработал замечательно. Ни малейших вопросов.
— Спасибо тебе, Мэй. Я это ценю. Но нам с тобой нужно поговорить о… в общем… Ладно, давай иначе. Ты ведь понимаешь, что наша компания работает, так сказать, не от звонка до звонка. Разумно?
— Да нет, я знаю. Я бы не… Я разве дала понять, что я считаю…
— Нет-нет. Ты ничего такого не давала понять. Но мы редко тебя видим после пяти и интересуемся, не рвешься ли ты, ну, уйти отсюда.
— Вовсе нет. Мне надо уходить попозже?
Дэн поморщился:
— Не в том дело. Ты прекрасно справляешься с работой. Но вечером в четверг на «Диком Западе» была тусовка, важный тимбилдинговый ивент, на тему продукта, которым мы все очень гордимся, и ты не пришла. Ты пропустила минимум два ивента для нубов, а в цирке мне показалось, что тебе не терпится улизнуть. По-моему, ты ушла минут через двадцать.
Дэн поцокал языком и покивал, словно раздумывал, откуда у него пятно на рубашке.
— Все это копится, и, в общем, мы переживаем, что как-то тебя отталкиваем.
— Да нет же! Ничего подобного.
— Ладно, поговорим про четверг, семнадцать пятнадцать. Было собрание на «Диком Западе» — это где работает твоя подруга Энни. Полуобязательная встреча с группой потенциальных партнеров. Тебя не было в кампусе, и я в растерянности. Ты как будто сбежала.
Мысли у Мэй заскакали. Почему она не пошла? Где была? Она даже не знала про этот ивент. Он на другом конце кампуса, на «Диком Западе» — как она умудрилась прохлопать полуобязательное мероприятие? Объявление, наверное, закопалось в недра ее третьего монитора.
— Боже мой, прости, — сказала она, наконец вспомнив. — В пять я уехала в Сан-Винченцо — в магазин здоровой пищи, за алоэ. Отец просил особый сорт…
— Мэй, — снисходительно перебил Дэн, — в магазине компании есть алоэ. Наш магазин обеспечен лучше любой лавки, и продукты качественнее. У нас за этим тщательно следят.
— Прости. Я не знала, что здесь будет алоэ.
— Ты сходила в наш магазин и не нашла алоэ?
— Да нет, я не ходила. Я сразу поехала в город. Но я так рада, что, оказывается…
— Давай-ка тут мы притормозим, потому что ты интересно выразилась. Ты не пошла в наш магазин первым делом?
— Нет. Прости. Я просто подумала, что таких вещей там не будет, и…
— Послушай. Мэй, я, признаться, в курсе, что в наш магазин ты не ходила. И об этом я тоже хотел поговорить. Ты не бывала в нашем магазине ни разу. Ты в колледже занималась спортом, а в наш спортзал ни разу не заглянула. Ты почти не исследовала кампус. Ты, по-моему, воспользовалась примерно одним процентом наших возможностей.
— Извини. Очень все закрутилось.
— А вечером в пятницу? Тоже был большой ивент.
— Прости. Я хотела пойти, но пришлось мчаться домой. У отца был приступ — оказалось, что нестрашный, но это выяснилось, когда я уже доехала.
Дэн посмотрел на стеклянную столешницу и салфеткой потер пятнышко. Довольный результатом, перевел взгляд на Мэй.
— Это вполне понятно. Уверяю тебя, я считаю, что проводить время с родителями — это очень, очень круто. Я лишь подчеркиваю, что наша работа тесно завязана на сообщество. Наше рабочее пространство — это сообщество, и все, кто здесь работает, — часть этого сообщества. И чтобы все было хорошо, требуется некий градус участия. Это, знаешь, как в детском саду, у одной девочки день рождения, а пришло только полгруппы. Каково ей, по-твоему?
— Так себе. Я понимаю. Но я же была в цирке, и он был хорош. Прекрасен.
— Вот скажи, да? И прекрасно, что ты там была. Но об этом не осталось никаких сведений. Ни фотографий, ни кваков, ни отзывов, ни записей, ничего. Почему?
— Не знаю. Видимо, я увлеклась…
Дэн шумно вздохнул.— Ты же знаешь, что мы любим обратную связь, да? И ценим мнение сфероидов?
— Конечно.
— И что «Сфера» в немалой степени базируется на вкладе и участии, в том числе твоих?
— Я знаю.
— Послушай. Вполне разумно, что ты хочешь побыть с родителями. Они же твои родители! Очень достойное поведение. Говорю же: очень, очень круто. Но еще я говорю, что нам ты тоже сильно нравишься, мы хотим узнать тебя получше. И, может быть, ты задержишься еще на пару минут и поговоришь с Джосией и Дениз? Ты их, наверное, помнишь — они проводили первую экскурсию? Они бы хотели продолжить нашу с тобой беседу, немножко углубиться. Ничего?
— Само собой.
— Тебе не надо бежать домой или?..
— Нет. Я в вашем распоряжении.
— Хорошо. Хорошо. Это приятно. Вот и они.
Мэй обернулась — Дениз и Джосия помахали ей из-за стеклянной двери.
— Как твои дела, Мэй? — спросила Дениз, когда они двинулись в конференц-зал.
— Садись-ка сюда, — Дениз кивнула на кожаное кресло с высокой спинкой.
Они с Джосией уселись напротив, выложили планшеты и подрегулировали кресла, будто готовясь к многочасовой и почти наверняка муторной работе. Мэй выдавила улыбку.
— Как ты знаешь, — сказала Дениз, заложив за ухо темную прядь, — мы из отдела кадров, и сейчас у нас просто рутинная беседа. Мы каждый день беседуем с новыми членами сообщества по всему кампусу и особенно рады повидаться с тобой. Ты такая загадка.
— Я загадка?
— Еще какая. Я много лет не встречала сотрудника, настолько, как бы это выразиться, окутанного тайной.
Мэй не знала, что ответить. Она бы не сказала, что окутана тайной.
— И я подумала, может, нам стоит для начала поговорить о тебе, а потом, когда побольше о тебе узнаем, обсудить, как тебе комфортнее влиться в жизнь сообщества. Нормально?
Мэй кивнула:
— Конечно. — Она поглядела на Джосию — тот пока ни слова не сказал, только наяривал на планшете, печатал там и что-то двигал.
— Хорошо. И, пожалуй, первым делом нужно сказать, что ты нам очень нравишься.
Сверкнув голубыми глазами, наконец заговорил Джосия:
— Еще как. Очень нравишься. Ты суперкрутой член команды. Все так считают.
— Спасибо, — сказала Мэй, уверившись, что ее увольняют. Она переборщила, попросив добавить родителей в страховку. Как ее угораздило, ее же саму только что наняли?
— И работаешь ты замечательно, — продолжала Дениз. — Средний рейтинг — 97, и это великолепно, особенно для первого месяца. Ты удовлетворена своими показателями?
— Да, — наугад ответила Мэй.
Дениз кивнула:
— Хорошо. Но, как ты знаешь, у нас тут дело не только в работе. Точнее говоря, не только в рейтингах и одобрении. Ты не винтик в машине.
Джосия с жаром потряс головой — мол, нет, ни в коем случае.
— Мы считаем, что ты полноценный, познаваемый индивид с бесконечным потенциалом. И ключевой член нашего сообщества.
— Спасибо, — сказала Мэй, уже усомнившись, что ее увольняют.
Дениз болезненно улыбнулась:
— Но, как ты знаешь, с позиций сцепления с сообществом у тебя была пара глюков: ты почти не ходишь на ивенты вечерами и по выходным — разумеется, это абсолютно по желанию. Мы знаем, что ты уехала из кампуса в 17:42 в пятницу и вернулась в 8:46 в понедельник.
— А что, в выходные была работа? — Мэй порылась в памяти. — Я что-то пропустила?
— Нет-нет-нет. В выходные не было никакой, ну, обязательной работы. Но это не означало, что тысячи людей не тусовались в субботу и воскресенье, не развлекались в кампусе и не занимались сотней разных дел.
— Я понимаю, да. Но я была дома. Папа заболел, я ездила помочь.
— Мне очень жаль, — сказал Джосия. — Это связано с его РС?
— Да.
Джосия сочувственно скривился, а Дениз склонилась к Мэй:
— Понимаешь, тут-то и возникают вопросы. Мы об этом эпизоде не знаем ничего. Ты обратилась к другим сфероидам в тяжелую минуту? Ты знаешь, что в кампусе есть четыре группы для сотрудников, которые столкнулись с рассеянным склерозом? Из них две — для детей больных. Ты туда обратилась?
— Пока нет. Я собиралась.
— Ладно, — сказала Дениз. — Давай на секундочку отложим, потому что это поучительно: ты знала о группах, но обращаться туда не стала. Ты ведь понимаешь, как важно делиться информацией об этом недуге?
— Понимаю.
— И как важно делиться знаниями с теми, у кого больны родители, — ты же сознаешь, в чем польза?
— Абсолютно.
— К примеру, узнав, что у отца приступ, ты проехала сколько? Около сотни миль, и за всю поездку даже не попыталась собрать сведения в своей «ТропоСфере» или шире, в «СтратоСфере». Ты понимаешь, что это упущенная возможность?
— Теперь понимаю, конечно. Я расстроилась, и нервничала, и мчалась как ненормальная. В отсутствующем состоянии.
Дениз подняла палец:
— Ага, отсутствующем. Чудесное слово. Я рада, что ты к нему прибегла. Как ты считаешь, обычно ты присутствуешь?
— Стараюсь.
Джосия улыбнулся и заколотил пальцами по планшету.
— А каков антоним присутствию? — спросила Дениз.
— Отсутствие?
— Да. Отсутствие. Давай здесь тоже поставим закладочку. Вернемся к твоему отцу и выходным. Отцу получше?
— Да. Оказалось, ложная тревога.
— Хорошо. Я так рада. Но любопытно, что ты больше ни с кем не поделилась. Ты постила что-нибудь про этот эпизод? Квак, коммент?
— Нет, — сказала Мэй.
— Хм. Ладно, — сказала Дениз и вдохнула поглубже. — Как ты считаешь, твой опыт мог бы кому-то пригодиться? Скажем, другому человеку, которому предстоит два-три часа мчаться домой, пригодилось бы узнать то, что знаешь ты, а именно, что это был мелкий псевдоприступ?
— Абсолютно. Я понимаю, что это полезно.
— Хорошо. И каков должен быть твой план действий?
— Я, наверное, запишусь в клуб по рассеянному склерозу, — сказала Мэй, — и что-нибудь напишу. Я понимаю, что людям это пригодится.
Дениз улыбнулась:
— Великолепно. Теперь поговорим о выходных в целом. В пятницу ты выяснила, что отцу получше. Но остаток выходных — пустота. Ты как будто испарилась! — Она округлила глаза. — В выходные те, у кого низкий Градус Интереса, могут, если хотят, исправить ситуацию. Но твой ИнтеГра даже упал — на две тысячи пунктов. Я на цифрах не повернута, но в пятницу он у тебя был 8625, а к вечеру воскресенья — 10 288.
— Я не знала, что все так плохо, — сказала Мэй, ненавидя себя — ту себя, которая все не могла выбраться из наезженной колеи. — Видимо, я приходила в себя после папиного эпизода.
— Расскажи, чем занималась в субботу?
— Даже неловко, — ответила Мэй. — Ничем.
— В каком смысле ничем?
— Ну, сидела у родителей, смотрела телик.
Джосия просветлел:
— Интересное что-нибудь?
— Да какой-то женский баскетбол.
— В женском баскетболе нет ничего плохого! — вскинулся Джосия. — Я обожаю женский баскетбол. Ты мои кваки по женской НБА читаешь?
— Нет. Ты квакаешь про женскую НБА?
Джосия кивнул, обиженный, даже потерянный.
Вмешалась Дениз:
— И вот опять же, любопытно, что ты предпочла ни с кем не делиться. Ты поучаствовала в какой-нибудь дискуссии? Джосия, сколько у нас участников в глобальной группе по женской НБА?
Джосия, явно потрясенный тем, что Мэй не читает его баскетбольную ленту, все же отыскал на планшете число и пробубнил:
— 143 891.
— А квакеров, которые пишут про женскую НБА?
Джосия быстро нашел:
— 12 992.
— И тебя там нет, Мэй. Это почему?
— Видимо, я не до такой степени интересуюсь женской НБА, чтобы вступать в группы или подписываться на ленты. Я не так уж страстно люблю женский баскетбол.
Дениз сощурилась:
— Интересное словоупотребление. Страсть. Ты слыхала про СУП? Страсть, Участие и
Прозрачность?
Мэй видела буквы СУП по всему кампусу, но прежде не различала в них этих трех слов. Вот дура.
Дениз ладонями оперлась на стол, будто собралась встать.
— Мэй, ты ведь понимаешь, что мы технологическая компания, да?
— Конечно.
— И что мы считаем себя лидерами в области социальных медиа, на переднем крае?
— Да.
— И ты понимаю, что значит «прозрачность»?
— Само собой. Абсолютно.
Джосия покосился на Дениз, надеясь ее успокоить. Та сложила руки на коленях. Вступил Джосия. Он улыбнулся и перелистнул страницу на планшете — мол, начнем с чистого листа.
— Хорошо. Воскресенье. Расскажи нам про воскресенье.
— Я просто поехала назад.
— И все?
— Я вышла на каяке?
На лицах у обоих разом нарисовалось изумление.
— На каяке? — переспросил Джосия. — Где?
— Да в Заливе.
— С кем?
— Ни с кем. Одна.
Они как будто обиделись.
— Я тоже хожу на каяке, — сказал Джосия и что-то напечатал, колошматя по планшету со всей силы.
— И часто ты ходишь на каяке? — спросила Дениз у Мэй.
— Ну, раз в несколько недель?
Джосия уставился в планшет:
— Мэй, вот я открыл твой профиль, и я не вижу тут ни слова о каяках. Ни смайликов, ни рейтингов, ни постов, ничего. А теперь ты говоришь, что выходишь на каяке раз в несколько недель?
— Ну, может, реже?
Мэй хихикнула, но ни Дениз, ни Джосия ее не поддержали. Джосия по-прежнему смотрел в экран, Дениз заглядывала Мэй в глаза.
— А что ты видишь, когда выходишь на каяке?
— Ну, не знаю. Всякое.
— Тюленей?
— Конечно.
— Морских львов?
— Как правило.
— Птиц? Пеликанов?
— Ну да.
Дениз постучала по планшету:
— Так, вот я задала в поиске твое имя, ищу визуальные отображения этих походов. И ничего не нахожу.
— А, я камеру не беру.
— А как ты распознаешь птиц?
— У меня определитель. Бывший бойфренд подарил. Такой складной путеводитель по местной фауне.
— Буклет, что ли?
— Ну да, он водонепроницаемый, и…
Джосия с шумом выдохнул.
— Извините, — сказала Мэй.
Джосия закатил глаза:
— Да нет, это уже на полях, но моя претензия к бумаге в том, что на бумаге умирает всякая коммуникация. Нет продолжения. Прочел бумажную брошюру — и все, привет. Все заканчивается на тебе. Можно подумать, ты пуп земли. А вот если б ты документировала! Если б ты использовала приложение для определения птиц, все бы выиграли — натуралисты, студенты, историки, береговая охрана. Все бы знали, какие птицы были в Заливе в тот день. Просто бесит, как подумаешь, сколько знаний каждый день теряется из-за такой вот близорукости. И я не говорю, что это эгоизм, но…
— Да нет. Конечно, эгоизм. Я понимаю, — сказала Мэй.
Джосия смягчился:— Но и помимо документирования — почему ты нигде не упомянула, что ходишь на каяке? Я прямо потрясен. Это же часть тебя? Неотъемлемая часть.
Мэй фыркнула, не сдержавшись:
— Да вряд ли такая уж неотъемлемая. Вряд ли даже интересная.
Джосия вытаращился на нее, сверкая глазами:
— Еще какая интересная!
— Куча народу ходит на каяках, — сказала Мэй.
— Вот именно! — ответил Джосия, багровея. — Ты разве не хочешь познакомиться с другими каякерами? — Он постучал по планшету. — Рядом с тобой еще 2331 человек, и все тоже любят каяки. В том числе я.
— Толпа народу, — с улыбкой отметила Мэй.
— Больше или меньше, чем ты думала? — спросила Дениз.
— Пожалуй, больше.
Джосия и Дениз улыбнулись.
— Ну что, подписать тебя на ленты? Будешь читать каякеров? Приложений такая куча… — Кажется, Джосия уже открыл страницу и нацелился подписывать.
— Ой, я даже не знаю, — сказала Мэй.
У обоих вытянулись лица.
Джосия, похоже, опять разозлился:
— Да почему? Ты считаешь, твои увлечения не важны?
— Не совсем. Я просто…
Джосия подался к ней:
— Каково, по-твоему, другим сфероидам знать, что ты физически рядом, якобы в сообществе, но скрываешь от них свои хобби и интересы? Как они, по-твоему, себя чувствуют?
— Не знаю. По-моему, никак.
— Да вот ошибаешься! — вскричал Джосия. — Речь как раз о том, что ты не сближаешься с теми, кто вокруг!
— Это же просто каяки! — И Мэй снова рассмеялась, пытаясь вернуть беседе легкомыслие.
Джосия стучал по планшету.
— Просто каяки? Ты знаешь, что каякинг — это индустрия на три миллиарда долларов? А ты говоришь — «просто каяки»! Мэй, ты что, не понимаешь? Тут все связано. Ты делаешь свою часть. Ты у-част-вуешь.
Дениз пристально вгляделась в Мэй:
— Мэй, я вынуждена задать деликатный вопрос.
— Давай.
— Как ты считаешь… В общем, тебе не кажется, что это проблема самооценки?
— Что-что?
— Ты не хочешь самовыражаться, так как опасаешься, что твои мнения не представляют ценности?
Мэй никогда не думала об этом под таким углом, но некое здравое зерно разглядела. Может, она просто стесняется самовыражаться?
— Я даже не знаю, — сказала она.
Дениз сощурилась:
— Мэй, я не психолог, но будь я психологом, у меня бы, пожалуй, возник вопрос о твоей вере в себя. Мы изучали шаблоны такого поведения. Я не говорю, что это антиобщественный подход, но он безусловно недосоциален и от прозрачности далек. И мы замечаем, что порой это поведение коренится в низкой самооценке — в позиции, которая гласит: «Ой, все, что я хочу сказать, не так уж важно». Это описывает твою точку зрения, как ты считаешь?
Совершенно лишившись равновесия, Мэй не умела оценить обстановку трезво.
— Может быть, — сказала она, пытаясь выиграть время, понимая, что чрезмерная сговорчивость будет лишней. — Но порой я уверена, что мое мнение важно. И когда мне есть что добавить, я определенно считаю себя вправе.
— Однако обрати внимание, ты сказала: «Порой я уверена». — Джосия погрозил ей пальцем. — Любопытно это «порой». Даже, я бы сказал, тревожно. Мне кажется, это «порой» случается не так уж часто. — И он откинулся на спинку кресла, точно полностью разгадал Мэй и теперь нуждался в отдыхе от праведных трудов.
— Мэй, — сказала Дениз, — мы были бы рады, если б ты поучаствовала в одной программе. Нравится тебе такая идея?
Мэй представления не имела, что за программа такая, но понимала, что попала в переплет и уже отняла у них обоих кучу времени, а потому надо согласиться; она улыбнулась и ответила:
— Абсолютно.
— Хорошо. Мы тебя постараемся записать поскорее. Я думаю, в результате ты будешь уверена не порой, а всегда. Так ведь получше, правда?
Людмила Улицкая. Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская
- Людмила Улицкая. Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 416 с.
В октябре в Редакции Елены Шубиной выходит книга, под обложкой которой писатель Людмила Улицкая собрала рассказы друзей и знакомых поэта и диссидента Натальи Горбаневской о ее жизни и творчестве, а также некоторые интервью правозащитницы. По словам Людмилы Улицкой, книга «о том месте, которое Наталья Горбаневская занимает сегодня в нашем мире, в частном пространстве каждого из знавших ее лично, и о том, что подвиг ее жизни был не политическим, как считают миллионы людей, а чисто человеческим – о чем знают немногие».
ПРОИСХОЖДЕНИЕ Я — потомственная мать-одиночка.
Наталья Горбаневская
В 1960 году, когда я впервые попала в дом Наташи, на Новопесчаной улице, семья ее была — она да ее мать, Евгения Семеновна. Занимали они одну комнату в коммуналке, в сталинском доме, построенном, кажется, пленными немцами, как весь тот район застраивался после войны. Комната их была похожей на ту, которую и моя семья занимала, — большой стол посередине, часть стола под книгами-бумагами, а на другой половине сковородки и чашки. Столовая и кабинет на столе, а вдоль стен один диван и один топчан. Ну и книги. Много книг. В те годы между матерью и дочерью стояло, как облако, раздражение, и временами оно прорывалось шумными ссорами. Они были очень схожи, и внешне тоже, и я не сразу поняла, как они привязаны друг к другу, как любили друг друга изматывающей душу любовью.
При первой возможности Наташа старалась из дома съехать — на квартиру. Временами снимала. Помню чудесную комнату в Староконюшенном, там она довольно долго прожила, ей там было хорошо. Но в те годы я мало что знала про ее семью, картина эта постепенно открывалась из ее рассказов. Это была чистая женская линия — для России не редкость. В России с мужчинами всегда было плохо — их на всех не хватает. Война, лагеря и водка сильно истребляют мужиков. Зато женщины в отсутствие мужчин особенные — сильные, жертвенные, устойчивые. Наташину бабушку Анну Федоровну я не застала, а Евгению Семеновну успела оценить — нервный, раздражительный, вспыльчивый бриллиант в вязанной крючком беретке какого-то бывшего цвета, с яркими светлыми глазами, с сильными скулами.
От Наташиного образа жизни находилась она в постоянной ярости, но вернее и преданнее человека на свете не было. Подняла без мужа двух детей, Витю и Наташу. С братом Наташа порвала отношения очень рано, во всяком случае, в шестидесятом году он в дом не приезжал, но, знаю, Евгения Семеновна его навещала. Наташа с ним не общалась — расхождение их было глубоким, c ранних лет оно началось.
И Евгения Семеновна была несгибаема. Она проявила невиданный героизм, когда осталась одна с двумя маленькими внуками, совсем уже не молодой женщиной. Сначала она их отбила у государства, потому что решение было относительно детей — отправить их в детский дом. Как же ей было тяжело тогда! Жила она не на пределе возможностей — за пределом. Выдержала. Друзья Наташины помогали. Больше всех — Ира Максимова, вернейшая из верных. Ее уже нет.
Когда Наташу выпустили и она собралась уезжать из страны, Евгения Семеновна заявила, что никуда не поедет. Прощались насмерть. В то время, в 1975 году, и речи еще не было, что можно приезжать в гости за границу. Дети Наташины были для Евгении Семеновны, я думаю, дороже своих собственных. Но упрямство ее было не меньше Наташиного. Уезжала Наташа с мальчиками уже не из коммуналки на Новопесчаной, а из трехкомнатной квартиры у «Войковской». После отъезда Наташи Евгения Семеновна долго уговаривала Иру Максимову обменяться с ней квартирами: Ира в однокомнатной с мужем и дочкой, а она, одинокая старуха, во дворце! В конце концов обменялись. Лет пять, не меньше, Евгения Семеновна Иру уговаривала, прежде чем этот обмен состоялся.
Потом времена стали немного смягчаться, и появилась наконец возможность у Евгении Семеновны навестить Наташу и внуков в Париже. Я думаю, около двух лет мы с Ирой ее уговаривали, а она твердила: «Нет, нет, нет!» Ну, она приехала в Париж, в конце концов, и было все прекрасно, они замечательно встретились. Было полное счастье, и они уже почти не ссорились. Евгения Семеновна в старости смягчилась.
Восхитительная семейная генетика продолжала работать. Мальчики еще совсем молодыми народили первых детей, внебрачных: мальчик Артур в Польше и девочка Нюся, московская. Наташа, мне кажется, не сразу узнала об их существовании. Завелись еще трое внуков: Петя у Ясика, Милена и Ливия у Оськи. Эти уже в браке, с папами-мамами. И тут произошло нечто удивительное — Наташа собрала вокруг себя всю большую семью. Всех соединила, перезнакомила, перелюбила, если так можно выразиться. Сделала всё возможное, и даже сверх возможного — познакомила Ясика с его сестрой по отцу, когда этого человека уже и в живых не было. И этих, даже не знающих о существовании друг друга, она тоже подружила…
Стала Наташа матриархом. И развела вокруг себя такое великое изобилие любви, которое нельзя было вообразить. Знаем мы давно — ничего нет лучше хорошей семьи, где детки облизанные, папа-мама-бабушки-дедушки. Но не у всех получается. И чем дальше, тем всё меньше это получается. Но вот Наташа — никакого в помине мужа, одни бедные любови, все сплошь стремительные и горестные. Это для поэзии прекрасно — а то ведь не было бы никаких замечательных стихов из любовного семейного благополучия, а для строительства семьи такая свобода — материал непригодный. Однако ей удалось прекрасно выстроить свое семейное здание. Своими руками, маленькими руками, не очень ловкими, и великими трудами — но не тяжкими, а легкими, благословенными. Это чудо. Русское, если угодно, чудо.
Есть еще одна черта сходства у Наташи с ее матерью. В семье Горбаневских с довоенных времен была приемная дочка, Мотя. Анна Федоровна, Наташина бабушка, ввела ее в дом, а Евгения Семеновна ее приняла. Эта история несколько затемненная — Мотя была дочерью репрессированных родителей, но и по сей день об этом не любит вспоминать. И у Наташи тоже была приемная дочь, Анна, и тоже, как в случае с Мотей, официально это не было оформлено. Это великое женское начало — удочерить — их общее дарование. И по какому-то неписаному закону судеб у обеих это стремление накормить, напоить, спать уложить, одарить всем, что есть, соединилось с безбрачностью, женским одиночеством, украшенным в Наташином случае мимолетными увлечениями, молниеносными романами, безответными любовями…
Связь матери и дочери была очень глубокой. Наташины письма к матери — свидетельство их постоянной заботы друг о друге, большой зависимости, внутренней борьбы. И великой любви.
Л.У.