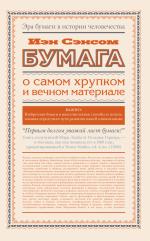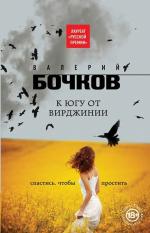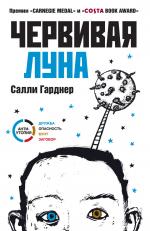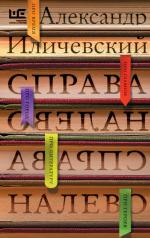- Сергей Носов. Фигурные скобки. — СПб.: Лимбус Пресс, 2015.
Прозаик и драматург Сергей Носов — писатель тихий. Предметом его интереса были и остаются «мелкие формы жизни» — частный человек со всеми его несуразностями: пустыми обидами, забавными фобиями и чепуховыми предрассудками. Таков и роман «Фигурные скобки», повествующий об учредительном съезде иллюзионистов, именующих себя микромагами. Каскад блистательной нелепицы, пронзительная экзистенциальная грусть, столкновение пустейших амбиций и внезапная немота смерти — смешанные в идеальной пропорции, ингредиенты эти дают точнейший слепок действительности. Волшебная фармакопея: не фотография — живое, дышащее полотно. Воистину Носов умеет рассмешить так, что начинаешь пугаться своего смеха.
15.21 Перерыв заканчивается. В зале занимают места. Капитонов тоже хотел было направиться к свободному, но Водоёмов остановил его:
− Вы мне вчера показать с ширмой обещали. Идемте, успеем. Пять минут у нас есть.
Приходится последовать за Водоёмовым в конец зала. Одна дверь ведет к осветителям, а другая в помещение, где хранятся микрофоны, запасные стулья и всякий хлам, − сюда и пропускает Капитонова открывший ему дверь Водоемов.
— Что-то вы у нас невеселые. Обрадовать? А вот слушайте. Как вам того и хотелось, вы не прошли в правление. Только что узнал результаты. Но это секрет.
Впрочем, объявят сейчас.
— Действительно, радостное известие, — соглашается Капитонов
На расстоянии от стены посредством двух ножек с крестообразными подставками держит себя вертикально широкий фанерный щит, − к нему приклеена афиша новогодней елки: Дед Мороз, упираясь левой рукой на посох, тянет по-ленински правую руку в пространство. В начале февраля это выглядит анахронизмом.
− Не ширма, но подойдет, − говорит Водоемов, и приподнимает ножку конструкции.
Капитонов приподнимает другую.
— За вас всего два голоса было. Один мой.
Вместе передвигают.
— Но вас, надеюсь, избрали?
— Конечно. Позвольте, я не скажу, сколько за меня голосов подано. Скоро узнаете. Стойте здесь, а я буду там, − распоряжается Водоемов и скрывается за щитом от Капитонова.
— Я все равно не понимаю, зачем меня надо было выдвигать, — говорит Капитонов.
— Мы все сделали правильно. И вы нам помогли тем, что не воспротивились выдвижению. Это долго объяснять. Но вам — спасибо.
Кто-то, приоткрыв дверь, высунулся из зала.
− Прошу не мешать! У нас мужской разговор! − кричит из-за щита Водоемов, и дверь мгновенно закрывается.
− Вы готовы? — спрашивает Капитонов.
− Я всегда готов. Мне-то что. А вот вы готовы? Будете сосредотачиваться?
− Не буду.
Капитонов делает глубокий вдох.
− Задумайте двузначное число, − просит, как всегда, Капитонов.
− Задумал.
− Прибавьте 13.
− Прибавил.
− Отнимите 11.
− Отнял.
− Вы задумали 21.
— Очко.
— Что очко?
— Опять карты.
— Вы мне приписываете сверхинтуицию.
— Ладно. Задумал.
— Прибавьте восемь.
— А если не прибавлять?
— А вы прибавьте.
— Ладно. Прибавил.
— Отнимите четыре.
— Ну вот а зачем, зачем? Ладно, отнял.
— 73.
Водоемов с полминуты молчит, потом решительно заявляет:
− Все ясно. Вы не видите лица, но слышите голос. Это по голосу. Повторяем, только я буду молчать.
− Задумайте число, − говорит Капитонов, − двузначное.
Водоемов не собирается отвечать. Тогда говорит Капитонов:
− Прибавьте пять.
Молчит Водоёмов.
− Отнимите три, − говорит Капитонов.
И не слышит ответа.
− Вы задумали 99.
По щиту с той стороны сильно ударило. Это заваливается Водоёмов. Щит соскакивает с ненадежной опоры, краем задевая Капитонова по лицу.
Одновременно со щитом рухнул на пол тяжело Водоемов.
Рубрика: Отрывки
Сборник современной черногорской литературы: Андрей Николаидис
О черногорской литературе современному российскому читателю ничего неизвестно. Где-то там жил Милорад Павич, и у него есть много рассказов о Черногории, но он серб. Где-то там жил Иво Андрич, и он нобелевский лауреат, но хорват, и вообще сам черт ногу сломит в этой балканской чересполосице. Читатели «Прочтения» имеют возможность первыми познакомиться с материалами сборника современной черногорской литературы, выпуск которого инициирован европейским культурным центром Dukley Art Community. В течение нескольких недель мы будем печатать стихи и рассказы, сочиненные в очень красивой стране «в углу Адриатики дикой».
Мясник
Было шесть часов, когда он подъехал к торговому центру. На парковке было пусто. Уже много лет он является на работу первым. Оперся на машину, закурил сигарету и посмотрел на далекие горы в окрестностях Подгорицы. Он мог бы, если понадобилось, одним взглядом на горы точно определить время года.
Был август. Еще вчера горы сияли летним светом. Но дни становились короче. Утро наступало позже. В августе свет нежный. Мир будто окутан легкой дымкой. В августе мир выглядит как на старых картинах, о которых пишут в газетах. На тех картинах люди обычно голые, и взгляды у них романтические. Вот и у меня такой взгляд, подумал он, осмотрев свое лицо в зеркале заднего вида красной «заставы», и сказал об этом мне.
Глаза у него были мутные, налитые кровью. До поздней ночи он смотрел Олимпийские игры. Выпил, честно говоря, пивка лишнего. Иной раз можно себе позволить расслабиться. Жена с детьми спала, когда он вернулся с работы. Он никому не мешает. Он не из тех, которые напиваются, а потом срывают зло на семье. Сидит перед телевизором и думает себе. О разных делах. Иногда пивка выпьет. И так все пятнадцать лет, сколько работает в торговом центре. Сначала работал в одну смену. Потом родился второй парень. Старший дорос до школы. Жизнь дорожала. Начал работать в выходные, денег прибавилось, но не слишком. Договорился с хозяином работать в две смены. С семи утра до десяти вечера, семь дней в неделю. Мои дети живут не хуже других, говорит. Живут скромно, но есть все. Он живет невесело, ясное дело. Но это цена, которую он платит, чтобы у детей была нормальная жизнь. Это так. И его отец горбатился целыми днями, чтобы поставить его на ноги. Человек мучается. А потом умирает. Так оно всё, говорит.
Никогда не звонит в дверь, когда приходит домой. Следит за тем, чтобы двери и замки были смазаны, чтобы не скрипели, когда он их открывает, тихонько проникает в коридор и запирается. Телевизор настраивает так, чтобы было слышно только ему. Направляясь к холодильнику или в ванную, следит, чтобы не разбудить своих. С годами научился быть неслышным. Даже в кровать укладывается так, что жена не просыпается. Когда уходит на работу, они еще спят. Приоткрывает двери детской и смотрит на сыновей. Драгану уже тринадцать. Похож на него. Мирко еще маленький. Дети в таком возрасте похожи на мать.
По дороге на работу представляю, как звонят их будильники, говорит. Представляет, как сонный Драган ковыляет в ванную. За ним бежит Мирко и хнычет, потому что он туда хотел первым. Мирна уже на кухне, жарит яичницу. Каждое движение достается ей с болью, еще в девушках заболела артритом. Тем не менее, жила нормальной жизнью. И муж, и дети. Как у любой другой женщины. Когда венчались, сказал ей: я тебе обеспечу нормальную жизнь, пока сам жив, все будет как у других женщин, сказал. Представляет, как они едят, как достают из холодильника варенье и молоко, которое он вчера принес, вернувшись с работы. Завтрак окончен, они одеты и идут в школу. Прежде чем покинуть дом, Мирна дает обоим по одному евро. Это вам от папы, говорит им. Они радостно несутся по улице. Я так и вижу все, пока еду, говорит.
Выкурил вторую сигарету. Еще издалека услышал «ладу», на которой муж подвозит их уборщицу. Как всегда, пожелают друг другу доброго утра, она откроет входные двери, он пройдет в холодильную камеру, она в кладовку, где хранит свои средства, и снова они встретятся только следующим утром.
Отбирая мясо на сегодняшний день, сквозь открытые двери холодильной камеры слышит, как в торговый центр входят остальные работники. Мирьяна из овощного отдела, которая только что обручилась и теперь целыми днями мысленно планирует свадьбу. Зоран из снабжения, у которого жена больна раком, и он мечется от доктора к доктору, все глубже влезая в бессмысленные долги. Бранка из санитарного отдела, у которой проблемы с отцом-алкоголиком. Аида из пекарни, у которой немой ребенок. Слышит голоса постоянных клиентов. У госпожи Стеллы, например, сын в Канаде. Женился на негритянке. Она была против. Но сын никогда ее не слушал. С детства был своенравным. Она заклинала его не жениться на этой девушке. А теперь он ее наказывает за это: годами ничего не дает о себе знать. Госпожа Стелла покупает свои круассаны, каждое утро две штуки, и спешно возвращается домой. Спешу назад, представьте себе, он позовет, а меня нет дома, каждое утро говорит госпожа Стелла, сказал он.
Несмотря на то, что большую часть дня приходится проводить в холодильной камере, он все знает обо всех. Словно днями напролет слушает радиотрансляцию их жизни. Они ссорятся, жалуются друг дружке, веселятся, он их слушает. Будто он там, снаружи, с ними. Поначалу было трудно привыкнуть к холоду и одиночеству в камере, но со временем человек понимает, что это неважно. Когда он слышит, как тяжело живется другим людям, как они мучаются, ему становится стыдно, что так часто жаловался на собственную жизнь.
Утром он точит ножи. Старательно, без спешки. В мои ножи человек может смотреться как в зеркало, говорит. Терпеть не может тупые ножи. Лезвие должно входить в мясо без сопротивления. Срез должен быть ровным и чистым. Он в ужас приходит от людей, которые мясо не рубят, а передавливают. Некоторые люди как будто ненавидят мясо, которое рубят. Всю свою ненависть выплескивают на куски телятины и свинины, которые попадают им в руки. Достаточно увидеть надрубы, оставленные мясником, и он поймет, что тот за человек. Легче всего разглядеть злобного ожесточенного человека, говорит. Такой всегда делает надрубов больше, чем следует. Начнет рубить, и видит, что ошибся. И тогда от злости опять ошибается. И в конце концов набрасывается как зверь. Видывал я таких людей: обидит его жена, или дети не уважают, и тогда он кромсает и портит мясо. Есть люди, которые кричат, когда рубят секачом мясо. Иные люди устраивают в мясном отделе свинарник. Волочат куски мяса по полу, наступают на них, пинают. Только не он: все свои проблемы он оставляет за дверью холодильной камеры. Закончив работу, он прибирает за собой. У меня как в больнице, говорит.
До обеда, до первого перерыва, сделал колбаски, добавив побольше чеснока. Приготовил чевапчичи. И три вида плескавицы: обычную, острую и с начинкой. Люди чаще всего покупают с начинкой. Он считает, что сыру и ветчине не место в плескавице. Но времена меняются: сейчас людям нравится, когда любая еда вкусом напоминает сэндвич. Потом мариновал мясо. Оливковое масло, соль, перец и прованские травы. Перец чили он не кладет: перебивает вкус. Подготовил отбивные без костей. Отобрал мясо для бульона. Отложил бифштексы и ромштексы. Так оно летом: сколько ни приготовишь, все рестораторы скупят.
Вынул из холодильника бутылочку никшичского пива и уселся в холодке, на скамейке за стенкой мясного отдела. Выкурил две сигареты, посматривая на коров и овец, которые, разомлев от жары, разлеглись на лугу. Мирьяна присела рядом. Как всегда, попросила у него сигарету. Чего тут делаешь, спросила. Ответил, что глядит на скотину. Часами могу смотреть на скотину, со скотиной я вырос, там, в селе, наверху, были у нас и коровы, и овцы, и козы, сказал. Она скотину не любит, сказала она. Боится ее. Когда у них с мужем будут дети и когда дети подрастут немного, может, они купят собаку. Она читала, что собаки нужны детям, что дети с собаками, когда подрастут, становятся хорошими людьми, потому что собаки похожи на хороших людей, так что собака вроде как воспитывает ребенка. Собака это хорошо. А вот кошку я бы ни за что в дом не пустила. Придешь ко мне на свадьбу, со своими можешь прийти, сказала она, выбросила окурок и вернулась на рабочее место, не дожидаясь ответа.
Он посмотрел на часы: было двадцать минут первого. Времени хватало еще на одну сигарету. Засмотрелся на коров, лежащих на лугу. Они не шевелились, не выказывали признаков жизни. На камни похожи, сказал. Раздумья прервал голос, назвавший его по имени. Обернулся и увидел рядом двух полицейских. Пройдите с нами, сказали они ему.
По дороге в полицейской машине пытался узнать, куда и зачем его везут. Люди в форме отвечали, что у них приказ не посвящать его в детали. Машина остановилась перед моргом. Я даже тогда не знал, даже и не подумал тогда, сказал. Только войдя в морг, заметил, что не снял фартук. Все утро он работал, и фартук, естественно, был в крови, как и шапка, которую он никогда не снимал в холодильной камере. Люди могут подумать, что я маньяк, мелькнуло у него в голове. Ему полегчало, когда увидел, что в морге нет никого, кого бы он мог испугать своим видом. В конце коридора он увидел жену. Обливаясь слезами, она подбежала к нему и обняла за шею. Драган мертв, сказала она. Убили его, зарыдала она. Кто-то изрубил нашего Драгана, крикнула и вцепилась ногтями в свое лицо. Слезы на ее щеках смешивались с кровью, и она размазывала их по лицу и волосам.
Потом появился доктор. Он был в белом фартуке, перепачканном кровью, и в шапке, совсем как он. Подумал, что нас можно различить только по перчаткам, что у него на руках, сказал он мне. Доктор проинструктировал полицейских. Один из них увел Мирну в туалет, чтобы она умылась и успокоилась. Другой отвел его и доктора в прозекторскую. На металлическом столе посреди комнаты лежало тело его сына, освещенное неоновой лампой.
Двадцать восемь ударов острым предметом, вероятнее всего, ножом. Три разреза: два коротких на груди и один длинный, взрезавший живот, сказал доктор. Разрез сделан тупым лезвием, обычным кухонным ножом, какой можно купить на любом рынке, сказал я ему. Откуда вам это известно, спросил доктор. Видите ли, я сказал ему, что я мясник, сказал он мне.
Попросил всех покинуть помещение, чтобы остаться наедине с сыном.
За закрытыми дверями прозекторской слышался плач Мирны. Было слышно, как ее утешал полицейский. Я знаю, каково вам, говорил он ей, я тоже потерял ребенка. Вам надо успокоиться, говорил доктор. Насколько я знаю, у вас есть еще один мальчик: ради него вы должны прийти в себя и продолжить, сказал он ей. Потом голоса удалились, похоже, они вышли на воздух.
Он сел на скамейку в углу и осмотрел прозекторскую. Это было чистое помещение, все на своих местах. Дверные стекла были без пятен, без отпечатков пальцев, которые всегда выдают неряшливость. Плитки на полу были вымыты. Единственным пятном на них была лужица крови, которая стекала с руки его сына, свесившейся с прозекторского стола.
Он встал и поднял руку сына. Уложил ее параллельно левой, вытянутой с другой стороны тела. Так Драган спит: вытянувшись на спине, сказал он. Натянул на тело своего сына белую простынь. Нашел в шкафчике бумажные полотенца. Собрал с пола кровь, потом влажным полотенцем протер плитки пола. Вновь сел на скамейку в углу.
В помещении было холодно. Когда он выдохнул, перед лицом возникло облачко пара. На мгновение мне показалось, что я в холодильной камере, что все опять на своих местах, сказал он. Как будто утро, как будто все еще только должно случиться, сказал он.
Рисовала Милка Делибашич

Андрей Николаидис (Andrej Nikolaidis) родился в 1974 году в Сараево. Был колумнистом черногорских газет «Вести», «Монитор» и боснийско-герцеговинской газеты «Свободная Босния». Автор сборника рассказов «Кафедральный собор в Сиэтле» (1999), романа «Они!» (2001), романа «Mimesis» (2003), романа «Сын» (2006), романа «Приезд» (2009), романа «Девять» (2014). Живет в Ульцине.
Юлия Качалкина. Источник солнца
- Юлия Качалкина. Источник солнца. — М.: РИПОЛ классик, 2015. — 272 с.
Роман журналиста и редактора Юлии Качалкиной об отцах и детях в современных декорациях увлекательно и иронично рассказывает о семье некогда известного советского драматурга Евграфа Дектора. Не находя понимания со своими сыновьями, герой считает, что Артем и Валя отбились от рук, а когда к ним домой на Красноармейскую привозят маленькую племянницу Евграфа — Сашку, ситуация становится вовсе патовой.
ИСТОЧНИК СОЛНЦА
СЕМЕЙНЫЙ РОМАН
Посвящается моим родителям.
…ты же, малое, неразумное дитя,
что видишь в отце своем
достойную и серьезную особу,
прочитай историю приключений…
и задумайся над тем,
что один папа не слишком отличается
от другого.Туве Янссон
Глава 1
Пренеприятное известие омрачило утро Евграфа Дектора:
за завтраком он узнал, что в Тарусу первого июня они не
поедут, а когда поедут и поедут ли вообще — неизвестно.
Пристройка к дачному дому, о которой давно мечтала его
семья, еще не была завершена, и конца этому строительному произволу, казалось, не предвиделось.— С моим мнением в этом доме вообще никто не считается! Впрочем, я это знал давно.
Скомкав салфетку и бросив ее в тарелку, он встал из-за
кухонного стола, окинул жену усталым взглядом поверх старомодных квадратных очков и, ссутулившись, ушел к себе в
кабинет, чтобы никого не видеть. Кабинет был ласков и
привычен: его стены, державшие на себе массивные железные стеллажи с книгами — с пола до потолка одни книги, —
ореховое кресло-качалка, (подарок отца), просторный
письменный стол с двумя тумбами — все это несказанно радовало глаз хозяина. И еще больше нравился ему вид из высокого окна: с седьмого этажа деревья и соседние дома казались маленькими, а небо — огромным. И ничто не мешало причудливым облакам переползать всегда в одну
сторону — на восток. Облака изо дня в день неукоснительно
двигались на восток — когда он впервые заметил это, он
уже и не помнил. Помнил только, что случилось все давно,
в те далекие времена его молодости, когда облакам он придавал гораздо большее значение, ибо был поэтом. А кто,
впрочем, им тогда не был?!На этом воспоминании Евграф Соломонович глубоко
вздохнул. А что теперь? Взгляд привлекла толстая пачка
писчей бумаги на подоконнике. В этих исписанных мелким
почерком листах, как город в руинах, лежала его последняя
пьеса, над которой он работал вот уже больше года. Не спал
ночей, договорился с издательством о выпуске сборника —
и вот, пожалуйста, срывал все сроки.Он бился с рукописью, как родитель с капризным ребенком, и не знал, как подступиться. Пробовал бросить
писать — и бросал действительно месяца на два, но потом
возвращался, пристыженный собственным поступком, и с
сизифовым упорством продолжал катить этот камень. Теперь — именно теперь, когда в Тарусе начиналось короткое северное лето, когда в его любимой Тарусе отогревался песок на тропинках и старые яблони в саду зеленели
пуще молодых… Теперь, думая об этом, он понемногу впадал в творческое беспокойство: об отдыхе не могло быть и
речи.Но забыть о комнатке на втором этаже, крохотной уютной шестиметровке окнами на озеро, где потертый гобелен на стене и письменный стол врастает в стенной проем
год от года прочнее, — это было слишком. Со злостью
вспомнив подрядчиков, которые безбожно тянули время
(и деньги), он ужаснулся своей же собственной злости.
И это — тонкий творческий человек, интеллигент в третьем поколении! А ведь злость такое категоричное и грубое
чувство. Как тут писать! Он подошел к окну, погладил рукопись морщинистой ладонью. Господи, накажи всех подрядчиков по делам их!
Евграф Соломонович Дектор был драматург. И, надо
сказать, драматург талантливый, но, увы, не слишком востребованный. Нет, он когда-то был и талантливым и востребованным одновременно: его ставили в Театре Содружества, по его сценариям снимали фильмы, его имя значилось в городских афишах… а сегодня? Сегодня он состоял
членом Московского союза писателей… а сценарии не продавались даже на ярмарке, устроенной в Интернете. Он отдал бы их и даром какому-нибудь вгиковскому пареньку с
идеей, бедному старшекурснику или выпускнику — такому,
с голодными глазами художника, — чтобы только тот взял и
наконец пустил их в дело. И именно сейчас, в эти дни. Потому что пьеса…Евграф Соломонович махнул рукой, словно какой-то случайный наблюдатель мог его пристыдить, и
отошел от окна к креслу.Он всегда знал, что будет драматургом, будет составлять
список действующих лиц, а потом играть в забавную, никогда не надоедающую игру — разговаривать. На разные голоса и знать, что кто-то его уже слушает, словно у только
рождавшейся пьесы был такой же только что рождавшийся
зритель. Он знал и поэтому рискнул поступить на режиссерское отделение ВГИКа, где по истечении пяти лет узнал
еще кое-что полезное, а именно: никаких организаторских способностей у него нет, никем он руководить не сможет (никто ему и не даст). И он, как человек, однажды
узнавший последнюю правду о себе, обрел нежданное спокойствие. Из этого спокойствия незаметно появилась
семья — точнее, Евграф Соломонович «оброс» ей.Долгое время для Евграфа Соломоновича главным чувством семейного человека было удивление: он удивлялся,
что они с Настей ежедневно приходят в один дом, вместе
едят, читают, смотрят телевизор — напоминало жизнь с
очень хорошим другом, которого, помимо всего прочего,
можно было любить.Настя родила двойню. При гомозиготном скрещивании
по седьмой хромосоме получается… в общем получилось
два маленьких почти одинаковых мальчика, одного из которых назвали Артемом, а другого — Валентином. И в этот момент Евграф Соломонович понял еще одну вещь: его теперь
стало втрое больше на этом свете. И теперь год от года будет еще и еще больше, пока однажды не произойдет увеличение в геометрической прогрессии.
— Грань, Грань, извини за беспокойство, пожалуйста,
ты яичницу будешь?Дверь в кабинет жалобно скрипнула, приоткрылась, и
в нее наполовину протиснулась Настя — теперь Анастасия
Леонидовна, врач-гомеопат со степенью кандидата медицинских наук. Она, его жена, была невысока. На ее игривой расцветки халате, доходившем до пят, умопомрачительные кролики плотоядно обнимали не менее умопомрачительных котят. Евграф Соломонович посмотрел на
всю эту живность, и в голову ему пришла мысль о непредсказуемости человеческого существования.— Насть, я не голоден. — Привычно пожевал ус, обдумывая конец фразы. — Если можно, оставь меня одного, я хочу
немного поработать. И скажи Артему, чтобы не шумел.— Артем сейчас уходит, его не будет какое-то время…
скажи, мы тебя чем-нибудь обидели?— Ой, Настя, — Евграф Соломонович начинал повизгивать, когда раздражался, — не анализируй, пожалуйста!..
Я совершенно устал от ваших сострадающих глаз! Точно у
меня что-то случилось, в самом деле!..— …но что-то случилось, наверное…
— Что могло случиться? Все случилось уже давно, когда ты нашла этих, язык не поворачивается сказать, строителей!.. Где, объясни мне, ты их нашла? Нет, не объясняй! Я сам знаю: тебе их порекомендовала Галя. Я знал,
знал!.. И что теперь?! Они станут там хозяйничать до конца лета? Да?! А мы все будем сидеть здесь, словно на привязи?! — Он пробежался по комнате. — И куда это ушел
Артем? Сегодня же воскресенье, ему завтра в институт
рано. Нет, это невозможно!…невозможно!… — Он присел
на край письменного стола и отвернулся к окну.
Настя продолжала выглядывать из-за двери, не входя
в комнату целиком. Было слышно, как тикают большие
настенные часы.— Он вернется через пару часов, Грань.
— Да, Валя тоже когда-то «возвращался», — последнее
слово он протянул намеренно, — а потом решил, что хватит. И теперь он смеется над нами, надо мной и тобой смеется…ох, Настя!..— Никто над тобой не смеется. И надо мной тоже.
Грань, они растут.— А мы стареем. Знаю я, знаю!.. почему ты все время
мне говоришь об этом?!— Все-все…ухожу-ухожу… — Настя почти скрылась за дверью, но тут же вернулась: — Грань, Галя уезжает в летний лагерь, она просила взять пока Сашу к себе.
— Сашу?
— Да, а что ты так удивляешься?
— А она не может взять ее с собой, в этот трудовой лагерь?
— Не будь занудой, Грань! Саша все-таки тебе племянница.
— Нет, она тебе племянница…
— А я тебе жена. Все, пока.
Настя затворила дверь, и звук ее шагов постепенно
стих в прихожей. Евграф Соломонович остался один.
«Безобразие! — подумал он, продолжая смотреть на
дверь, словно там еще стояла Настя. — Все-таки тишина и
одиночество не так уж вредят творчеству. Когда последний
раз я был один и мог в свое удовольствие помолчать? Наверное, очень давно. Саша ведь маленькая девочка. Ей — десять, и ей будет хотеться в парк, мороженого и не ложиться
до полуночи. И много чего еще — например, поговорить.
А о чем нам с ней говорить? Ох, дети-дети…и мои дети тоже. Валя ведь не станет с ней проводить дни напролет, у него есть, с кем напролет. Разве только Артем…»Евграф Соломонович взял со стола фотографию в деревянной, пестро покрашенной рамке и поднес к глазам: там,
на фоне сиреневого куста, обдуваемые ветром, который
всем волосы сбивает вправо, стоят они — Артем, Валя, между ними — Настя, еще совсем не седая, с короткой-короткой
стрижкой студентки-первокурсницы, она и в сорок носила
такую, и он сам, высокий, худой, в невероятной какой-то
рубашке… стоят и смеются. И все отражаются друг в друге,
и Артем с Валей все еще носят одинаковые куртки и джинсы…только вот стригутся уже по-разному. Один уже видно — либерал, другой — консерватор. Хотя глупо это все…
при чем тут политика? Он ведь вовсе не о политике думал…
Почему, собственно? Евграф Соломонович пробежался по
кабинету.«Потому что надо ехать в Тарусу». И очевиднее этого
ничего быть не могло. Он поставил фотографию обратно
на стол и посмотрел на нее с расстояния: фигурки стали маленькими, а лиц и подавно было не различить. Вот, посмотришь, бывало, как ветка жасмина гнется на ветру, как ящерица бежит по некрашеным ступеням крыльца, как дышит,
вздымаясь и опадая, занавеска в окне второго этажа, и
сразу ясно становится, почему герой подстрижен на французский манер, почему у него в кармане пусто и жена травит его мышьяком: в день по чайной ложке.Может быть, оставить к чертям драматический жанр?
Написать поэму. Детскую поэму для постановки на сцене.
Или рассказ? Нет, после успеха «Гарри Поттера» дети меня обсмеют. И Саша в первую очередь, потому что я этого
«Гарри Поттера»… не читал. Еще не читал. Коллега обещал подкинуть при встрече. А то как-то триста рублей на
книжку тратить не хочется. Перечитать «Чайку»? Перечитать и наконец разобраться с размером постановки. Положи перед собой «Чайку» и пиши — не ошибешься.
Помню-помню твой совет, папа. Только я ее уже знаю
наизусть. И хочется мне, чтобы шла она на сцене МХАТа,
а я — обычный зритель — сидел и смотрел где-нибудь в
партере, а не ежился написать размер в размер… напоминаю себе Золушкиных сестер, силившихся втиснуть ногу в
ее миниатюрную туфельку. Что ж мы все так лукавим, боже ты мой?Или «забить» на это все, как выражается Артемов друг, и
пойти преподавать в родные вгиковские стены? И кто меня там ждет? Нет… невозможно. Совершенно невозможно.* * * Тут Евграф Соломонович вспомнил, что дома нет хлеба. Значит, есть повод выбраться на улицу и дойти до магазина дворами. Длиннее пути он не знал, но в том, что ищет
именно тот, что длиннее, никогда бы себе не признался.
Он переменил брюки, надел поверх рубашки шерстяную
жилетку, взял кошелек, никем не встреченный попал на
кухню, нашел сумку и, вложив худые ступни в саламандровские ботинки, закрыл дверь снаружи своим ключом.У каждого был свой ключ, и звонком не пользовались
никогда. Спускаться на лифте — слуга покорный! Застрянешь между этажами, и тебя будут кормить сквозь щелку сосисками. Эта картина всегда столь живо представлялась ему,
что Евграф Соломонович вздрагивал при одном виде лифта
и спешил скорее спуститься по лестнице. Тем более что
спускаться было близко. Как-то один знакомый очень метко
выразил сущность здешнего подъезда. Он сказал: «Даже
плюнуть не хочется — так чисто». Но главным тут, наверное,
было не «плюнуть», а «не хочется». И в подъезде «не хочется», и уж в квартире тем более — давно перестало хотеться.
Вообще чего бы то ни было. А не только самого романтического. Хотя и его — тоже. А хлеба все-таки хотелось.Евграф Соломонович жил на «писательской» Красноармейской улице. Где-то по левую руку высилось за слегка
пооблезшими топольками здание МАДИ с неизменным памятником Эрнсту Тельману, похожим на памятник Ленину
на питерской площади трех вокзалов, у которого такие же
неизменные студенты так же неизменно — изо дня в день —
пьют пиво. Евграф Соломонович их не видел, но ему и не
нужно было: он и так знал, что они там. И он шел, негодуя
на тунеядцев: как же так? Поступить и ничему не учиться?
Не испытывать никаких интересов, кроме самых что ни
есть плотских? И ведь учатся и сессии сдают. И вот Валя
тоже как-то сдает. Но зачетку не показывает. И совсем ничего не рассказывает — даже не знаешь, дома он, нет его и
будет ли он ночевать. Поедет ли куда-нибудь?.. Сидишь и ничего не знаешь о своей семье. Можно узнать, только застав
врасплох.Евграф Соломонович привычно повернул налево, в переулок, и пошел мимо двухэтажной школы из красного кирпича. В ней три года назад танцевали на выпускном его Артем и Валя. Валя бессовестно напился. Артем тоже выпил,
но до дома дошел сам и брата довел. Валя не сопротивлялся. И после этого год в рот не брал, пока уже на втором курсе не запил вдруг по-страшному. Так, что Настя, сидя ночами на кухне, плакала. Долго и некрасиво, как плачут, когда
никто не видит и когда действительно плохо. Он возвращался пьяным в течение двух или трех месяцев подряд, а
потом так же внезапно, как начал травиться, кончил. И теперь пить не может в принципе. И иногда — есть зефир, салат с майонезом, жареную картошку, тещин лимонный пирог… ибо печень. Ибо надо было думать головой.Мимо Евграфа Соломоновича проплыла витрина местного книжного магазина с яркими бутафорскими книгами
невиданных размеров. Сколько бумаги ушло бы на такие
книги, будь они настоящими! Сколько времени нужно писать одну такую книгу! Не то что пьесу…Проехала машина, поблескивая тонированными стеклами, девочка тянула за поводок толстого щенка, который
никак не хотел переходить улицу, немолодая, но сохранившая следы былой красоты восточная женщина на углу торговала нарциссами, ветер пах теплым хлебом…Евграф Соломонович сглотнул слюну и открыл стеклянную дверь булочной. Хлеба какого угодно и сколько хочешь!
Бородинский… школьником едал с аппетитом, как же; ароматный — с вареньем, в Тарусе…о больном не будем; нарезной — с розовым ломтиком докторской поверх мягкого
желтого масла, чтоб с чмоком… и — с кофе. Крепким, черным…А теперь лишь черственький, на второй-третий день,
потому что — язва. Потому что… правильно. Думать нужно
было головой.
— Девушка, доброго вам утра. А нарезной свежий? Да?
А столичный? Тоже? Ну, что ж, три нарезных и два столичных. И еще штучек шесть булочек сдобных. Нет сдобных?
А какие есть? Давайте с корицей. И с повидлом давайте.
Тогда не шесть, а восемь. И две с маком. Все.Лента чека, капризно вереща, поползла из кассового
аппарата. Чеков Евграф Соломонович не брал никогда.— Сколько? Вот, пожалуйста. — Он отсчитал деньги, взял
сдачу, собрал покупки в пакет и пошел к выходу. Придержал дверь какой-то неведомой старушке в кримпленовом
платье — от нее приятно пахло «Красной Москвой» — и сам
вышел следом. До самого входа смотрел только под ноги.
Шаги не считал. И когда уснуть не мог — никогда никого не
считал. Ни скамейки, ни овец, ни маргаритки под их копытами. В подъезде поздоровался с одним знакомым писателем, именем которого была названа соседняя улица, но это
писателя, казалось, совсем не вдохновляло. Он выглядел
угрюмым, впрочем, на дела не жаловался. Как и сам Евграф
Соломонович. Поднялся на свой этаж, открыл дверь, закрыл и снова был дома. Хлеб унес на кухню и попутно включил телевизор. Показывали футбол. Его теперь, в сезон
чемпионата, показывали всем и везде. Даже таким, как он,
которые его ни в жизнь не смотрели. Белые и красные человечки бегали по зеленому полю, гоняя мяч. На секунду
Евграф Соломонович замер с батоном в руках в дверном
проеме: белым забили гол.
Иэн Сэнсом. Бумага
- Иэн Сэнсом. Бумага. О самом хрупком и вечном материале / Пер. с англ.
Д. Карельского. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 320 с.Книги, письма, дневники, картонные подставки под пиво, свидетельства о рождении, настольные игры и визитные карточки, фотографии, билеты, чайные пакетики… «Мы — люди бумаги», — утверждает английский филолог и публицист Иэн Сэнсом, который однажды попробовал представить мир без этого материала. Несмотря на все грозные предсказания о тотальной оцифровке книг и архивов, исследователь доказывает, что в том или ином виде бумага всегда будет с нами.
Глава 2 В лесу
По лесу идут тропы, многие сильно заросли и внезапно
теряются, дойдя до мест, где лес нехоженый. Тропы проходят
каждая своим путем, но при этом по одному и тому же лесу.
Порой кажется, что они неотличимы одна от другой. Но это
только так кажется. Лесорубы и лесничие умеют их различать.
Они знают, что от каждой из них ждать.Мартин Хайдеггер «Лесные тропы» (Holzwege, 1950)
Точь-в-точь как в той истории со слепым бедолагой Эдипом, участь моя была давным-давно предрешена, но только теперь я разгадал загадку и вступил на верный путь. Дело
в том, что в конце 1970-х — начале 1980-х даже в самых
заурядных и ни на что особо не претендующих школах
Англии ввели для учеников нечто вроде консультаций
по выбору будущей профессии. Под конец пятого класса нас всех направили к педагогу — назовем его именем Тиресий, — которому было доверено обращение
с новомодной системой определения профессиональных задатков. Мы отвечали на кучу разных вопросов,
наши ответы фиксировались на перфокартах, а потом
перфокарты загоняли в школьный компьютер, каковой,
подумав — не знаю, насколько правомерно будет тут
сравнение с Оракулом, — выдавал приговоры, отпечатанные на ленте, как у кассового аппарата. Согласно компьютерным приговорам, нам, подрастающему
в графстве Эссекс поколению, рекомендовалось готовить себя к трудовой деятельности в роли секретарш,
таксистов и автомехаников. Мне на общем фоне повезло. Судьбой мне было суждено работать в лесничестве.И вот тридцать лет спустя, за все эти годы практически ни разу не побывав в лесу — если не считать
редких прогулок в пригородном Эппингском лесу,
а также периодических приключений в древнегреческих мифологических рощах и чащах, где странствовали рыцари короля Артура, в Стоакровом лесу и в том,
где живут чудовища из «Там, где живут чудовища», ну,
и еще в родном лесу Груффало, — я вдруг осознал, что
на самом деле по горло засыпан палой листвой, буквально утопаю в рыхлой лесной подстилке. Лесником
я не стал, но определенно сделался сыном лесов, обитателем тенистых лощин и папоротниковых прогалин.
Я фактически кормлюсь лесом.Взять хотя бы сегодняшнее утро: выйдя ненадолго
на улицу, я притащил домой две пачки писчей бумаги, два репортерских блокнота фирмы «Силвайн», несколько почтовых конвертов, пять простых карандашей
средней твердости, а еще «Белфаст телеграф», «Дейли
телеграф», «Гардиан», «Таймс», «Дейли мейл» и два журнала — один про дизайн интерьеров, другой про бокс.
А выходил-то я, собственно, купить почтовых марок.Бумаги я потребляю больше, чем всех остальных
продуктов, в том числе и продовольственных. В смысле
бумаги я всеяден. Я буквально пожираю ее — вне зависимости от того, что это за бумага и откуда она взялась.
(Бывают, впрочем, исключения. Недавно в Лондоне
я по рассеянности забрел в «Смитсон», роскошный
писчебумажный магазин на Бонд-стрит — из тех, где
продавцы выглядят респектабельнее покупателей, которые, в свою очередь, стократ респектабельнее любого из ваших знакомых, где на входе солидная охрана,
а за симпатичный кожаный бювар у вас попросят полторы тысячи фунтов, где можно сделать тисненную
золотом надпись на записной книжке и где я, честное
слово, не мог себе позволить прикупить даже коробочку
простых карандашей.)
Когда я, изводя одну за одной стопы девственно
чистой бумаги, пишу на ней что-нибудь карандашами
«Фабер-Кастелл» или распечатываю тексты с помощью
давно и окончательно устаревшего сканера-копира-принтера «Хьюлетт-Паккард», я же на самом деле кладу при корне дерева свою обоюдоострую лесорубную
секиру1. Я — Смерть, разрушитель… ну, если, не миров,
то лесов уж точно2. Мы знаем (хотя подобные общеизвестные цифры обычно трудно бывает перепроверить), что на одну пачку бумаги уходит в среднем одна двадцатая часть древесины одного растения. То есть
ради производства приблизительно двадцати пачек
или восьми тысяч листов, изведенных мною по ходу
написания книги, которую вы держите сейчас в руках,
целиком было уничтожено минимум одно взрослое дерево. Это если не учитывать напечатанных на бумаге
книг, прочитанных мной в процессе работы, и бумаги, на которой напечатали тираж моего произведения.
А если все это учесть и суммировать, то, боюсь, выйдет
уже не дерево, а небольшой перелесок. Мировые запасы
древесины нынче отнюдь не сосредоточены в вековых
лесах Канады, России и Амазонии — основные залежи ее раскиданы по книжным магазинам, библиотекам
и логистическим центрам «Амазона».Всякий, кто углубляется в историю и подробности того, как и почему человек начал перерабатывать
деревья в бумагу, рано или поздно чувствует себя царем Эдипом — погрязшим в неведении слепцом, проклятым за страшное злодеяние. Или, скорее, поэтом
Данте, который говорит о себе в первой терцине «Божественной комедии»: «Nel mezzo del cammin di nostra
vita / mi ritrovai per una selva oscura / che la diritta via
era smarrita» («Земную жизнь пройдя до половины, /
Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь
во тьме долины»3). Selva oscura, или «сумрачный лес»,
тут весьма кстати, поскольку исследователя новейшей
истории бумажного производства мрак и сумрак, бывает, накрывают грозно и неотвратимо, как грозно и неотвратимо двинулись в финале «Макбета» на Дунсинан
воины Малкольма, прикрываясь от защитников замка
ветвями, которые нарубили в Бирнамском лесу. (Куросава превосходно снял эту сцену, яркую и зловещую,
в фильме «Трон в крови» 1957 года; желающих убедиться
в этом отсылаю на «Ютьюб».)В XVIII–XIX веках производители бумаги начали
искать, чем бы заменить в качестве сырья привычное тряпье, которого попросту переставало хватать. В 1800 году
для нужд бумажного производства в Британию было
ввезено тряпья на 200 тысяч фунтов стерлингов, цены
на него стремительно росли. Как пишет Дард Хантер,
автор непревзойденного труда «История и технология
старинного искусства выделки бумаги» (Papermaking:
The History and Technique of an Ancient Craft, 1943), требовалось «растительное волокно, от природы компактно
произрастающее, такое, чтобы его было просто собирать и обрабатывать и чтобы оно давало самую высокую
среднюю урожайность в расчете на один акр».Дерево как нельзя лучше отвечало этим условиям —
первым об этом заявил Маттиас Копс. В 1800 году он
издал книгу, чудесно озаглавленную «Историческое
повествование о субстанциях, посредством коих происходила передача мыслей, начиная от древнейших времен и до изобретения бумаги» (Historical Account of the
Substances Which have been Used to Convey Ideas from
the Earliest Date to the Invention of Paper). В книге Копс,
среди прочего, утверждал, что она частично напечатана
«на бумаге, каковая изготовлена из одной лишь древесины, произраставшей у нас в стране, без малейшей
примеси тряпья, бумажных отходов, древесной коры,
соломы либо иных субстанций, когда бы то ни было
употреблявшихся при выделке бумаги; и тому имеются
самые что ни на есть надежные доказательства».Доказательства не заставили себя долго ждать:
в 1800–1801 годах Копс стал обладателем массы патентов, в том числе «на выделку бумаги из соломы, сена,
чертополоха, отходов пенькопрядения и ткацкого дела,
а также из всевозможных разновидностей древесины
и древесной коры». Копс нашел желающих вложиться
деньгами в производство бумаги новым, изобретенным
им способом и выстроил посреди Лондона, в Вестминстере, громадную бумажную мануфактуру — как считает специалист по творчеству Уильяма Блейка Кери Дейвис, именно эта постройка устрашающим своим видом
внушила Блейку апокалипсический образ близящейся
индустриальной эры, который рисуется ему в неоконченной визионерской поэме «Четыре Зоара» (The Four
Zoas). Терпения инвесторов, впрочем, хватило ненадолго, в 1804 году Копсу пришлось мануфактуру продать, и,
таким образом, на производстве бумаги из древесного
сырья сделали себе состояние совсем другие люди.Среди этих других был немецкий ткач и механик
Фридрих Готтлоб Келлер — в 1840 году он запатентовал машину для тонкого размола древесины. Генрих
Фельтер усовершенствовал эту машину, известную с тех
пор как «дефибрер», а еще один немец, Альбрехт Пагенштехер, оборудовал ею первую в Америке бумажную
фабрику, на которой бумагу получали из измельченной
древесной массы. В те же примерно годы был разработан химический метод получения целлюлозы, при котором древесная щепа разделялась на волокна, главным
образом, не перетиранием, а варкой в растворе с добавлением щелочи (при натронном способе) или кислоты
(при сульфитном способе). Таким образом, ко второй
половине XIX столетия угроза кризиса в бумажном
производстве миновала: сырье для фабрик подешевело, их производительность возросла, спрос на бумагу
стремительно ширился во всем мире. Бумажный век
вступил в свои права. Во многом благодаря лесам.И за счет лесов. В наши дни почти половина промышленно вырубаемой древесины идет на производство бумаги. Неумеренное потребление человечеством
бумаги, как утверждают активисты-экологи, угрожает
ни много ни мало самому существованию жизни на планете. В средневековом английском законодательстве были предусмотрены особые следствие и суд «по лесным
тяжбам» — перед этим судом представали крестьяне
и лесничие, которых подозревали в нарушении лесных
законов, в том, например, что кто-то самовольно срубил
дерево, а кто-то застрелил оленя. Существуй подобие
таких выездных судов сегодня, истцами бы на них выступали экологи и активисты природоохранных движений, а ответчиками — транснациональные компании-производители бумаги.Один из самых неугомонных и красноречивых защитников лесов — писательница и борец за сохранение
природы Мэнди Хаггит. «Пора перестать видеть в белом
листе бумаги нечто чистое, здоровое и естественное, —
говорит она. — Мы должны осознать, что бумага — это
не что иное как выбеленная химикатами целлюлоза».
Хаггит и ее единомышленники из экологических ор-
ганизаций, таких как «ФорестЭтикс», «Кизиловый альянс» и Совет по охране природных ресурсов, не устают
повторять, что современное бумажное производство
наносит огромный вред человеку и окружающей среде:
является причиной эрозии почв, наводнений, уничтожения природной среды обитания и, соответственно,
массового вымирания биологических видов, порождает
нищету и социальные конфликты, неумолимо мостит
нам бумагой путь саморазрушения, в конце которого — апокалипсис. Экологи обвиняют ведущих мировых производителей бумаги — корпорации «Интернэшнл пейпер», «Джорджия-Пасифик», «Уэйерхаузер»
и «Кимберли-Кларк» — в уничтожении первобытных
лесов, на месте которых они разводят монокультурные
насаждения, нуждающиеся в химических удобрениях,
которые, в свою очередь, загрязняют реки и озера.Список обвинений со стороны защитников лесов
длинный и довольно запутанный. Но даже если бы
бумажные корпорации оправдались по всем пунктам,
если бы восстанавливали сведенные леса в их первозданном виде, если бы сделали так, что благодаря
рациональным методам ведения хозяйства древесина
превратилась в полностью возобновляемый ресурс,
промышленное производство бумаги все равно бы
ставило под угрозу будущее планеты — слишком много оно требует конечных ресурсов невозобновляемых,
слишком велики затраты воды, минерального сырья,
металлов и углеводородов. Если верить Мэнди Хаггит,
«при изготовлении одного листа формата А4 выделяется столько же парниковых газов, сколько при горении
лампы накаливания в течение целого часа, а кроме того,
расходуется большая кружка воды». (По инженерным
спецификациям, производство тонны бумаги требует
сорока тысяч литров воды, но бóльшая ее часть очищается и используется повторно.)Выходит, что свой изысканный рацион из газет,
журналов, стикеров, туалетной бумаги и кухонных бумажных полотенец мы жадно запиваем цистернами воды
и заедаем мегаваттами электричества. В Великобритании на одного человека в среднем за год расходуется
около двухсот килограммов бумаги, в Америке — почти
триста, а в Финляндии, на чью долю приходится 15 процентов мирового производства, и того больше. В Китае
годовое подушное потребление бумаги составляет всего пятьдесят килограммов, но при этом заметно растет
из года в год. Если взять человечество в целом, то в день
оно потребляет без малого миллион тонн бумаги, причем значительная ее часть после недолгого использования отправляется прямиком на свалку. «Мы совершенно
отвратительно обращаемся с бумагой», — говорит Мэнди Хаггит, и тут с ней трудно не согласиться.
1 См. Евангелие от Матфея, 3:10.
2 Фраза из Бхагаватгиты, известная благодаря тому, что она якобы
пришла в голову Роберту Оппенгеймеру, наблюдавшему в тот момент испытательный взрыв атомной бомбы.3 Перевод М. Лозинского.
Валерий Бочков. К югу от Вирджинии
- Валерий Бочков. К югу от Вирджинии. — М.: Эксмо, 2015. — 352 с.
Писатель Валерий Бочков, живущий в США, удостоен престижной «Русской премии» 2014 года в категории «Крупная проза». Когда главная героиня его психологического триллера «К югу от Вирджинии» — молодой филолог Полина Рыжик решает сбежать из жестокого Нью-Йорка, не найдя там перспективной работы и счастливой любви, она и не подозревает, что тихий городок Данциг — такой уютный только на первый взгляд. Став преподавательницей литературы, Полина вскоре узнает о загадочном исчезновении своей предшественницы Лорейн Андик…
1
Серьги из желтой железки напоминали тощих рыбок, в глазах краснели бусины, чешуйки неровными дугами были отчеканены на выпуклых боках. Полина приложила одну серьгу к уху, протиснулась к маленькому зеркалу, мутному и неудобному. Сложив губы уточкой, подвигала бровями. Продавщица, молодая, с грязноватой челкой на глазах, умирая от скуки, отколупывала лак с ногтей. Она изредка поглядывала на Полину. Больше в лавке никого не было.
Полина взглянула на часы — нужно было убить еще двадцать минут. Она опустила рыбок на стекло прилавка, те звякнули, девица лениво спросила:
— Берете?
Полина отошла, сделала неопределенный жест, всматриваясь в слепые корешки антикварных книг: Гете, Шекспир, рядом стоял путеводитель по Турции. Она вытащила Шелли начала века, бережно пролистав сухие страницы, чайные по периметру и светлеющие к середине, поставила том обратно. Провела пальцем по бугристому корешку с остатками позолоты. Было бы здорово такую книгу подарить Саймону.
— А русских авторов нет? — Полина повернулась к прилавку. — Толстой там…
Девица поглядела на нее из-под челки:
— Я про это не в курсе. Сережки брать будете?
Полина прищурилась, положила рыбок на ладонь, те в ответ поглядели лукавым глазом. Отступать было поздно — она кивнула.
— Вам завернуть? — чуть оттаяв, почти вежливо спросила девица. — У нас подарочная упаковка. Блестящая, вот смотрите. И бесплатно. — Она была уверена, что Полина одна из тех нищих задрыг, которые все перероют, перемеряют, а после так и уйдут, ничего не купив.
— Спасибо, я их сейчас… — Полина, зажав сумку под мышкой, вытащила из мочек маленькие фальшивые бриллианты, сунула их в джинсы.
— Я их прямо сейчас…
Продавщица, подцепив ногтем ценник, прилепила его себе на руку, ткнула пальцем в кассовый аппарат. Тот, радостно звякнув, выплюнул чек.
Полина вышла из лавки, пружина захлопнула дверь. Магазин был зажат между прачечной и мексиканской харчевней. Из обжорки воняло жареным луком, а из мрачного нутра прачечной несло химической свежестью. Полина поглядела на часы, закурила. Еше десять минут. Прошлась, искоса поглядывая в отражение витрины. Поправила волосы, выдула тонко дым.
Солнце вспыхнуло, выскочив из толкотни облаков, которые неслись по диагонали вверх. Другая сторона улицы утонула в синем, дорогу с пыльным бульваром посередине перечеркнули полосы света. У столба остановился красный седан с открытым верхом; Полина, быстро спрятав руку за спину, уронила окурок на асфальт.
— Опять? — Саймон сделал строгое лицо. — Ведь договорились!
Он дотянулся и приоткрыл дверь. Полина кинула сумку назад, там было крошечное сиденье, очевидно, рассчитанное на карлика или пару мелких детей.
— Вот! — она покрутила головой, сверкнув рыбками. Чмокнула Саймона в скулу.
— Блесна. На щуку? — он резко воткнул передачу и дал газ.
До Саймона у Полины был Грэг. Он тоже учился в Колумбийском, только на международных отношениях. Грэг относился к старомодному типу, в университете таких было немало, казалось, что все они — холеные, румяные, с опрятной скобкой на крепкой шее состоят в родстве, что все они ходили в одну и ту же частную школу в Новой Англии и до сих пор, по привычке, одеваются в темно-синие блейзеры с гербом на кармашке. Рубашки бледных расцветок, лимонные и голубые, иногда розовые, аккуратно заправлены в серые штаны под тонкий ремень с латунной пряжкой.
Грэг оказался скучноватым педантом, впрочем, внимательным и нежным. В постели у него отчаянно потели бедра и икры, удивительно волосатые, при полном отсутствии растительности на бледной костистой груди. Он предпочитал одну позу — сверху, двигался осторожно, будто боясь там что-то повредить. Впрочем, он был достаточно ритмичен, а главное, неутомим и напоминал Полине опытного чистильщика сапог. Она иногда ловила себя на том, что мысли ее утекали из спальни куда-то вдаль и там бродили в безмятежной скуке. Она пыталась внести разнообразие в процесс, но, не встретив одобрения, постепенно сдалась. На носу маячила защита диплома, потом выпуск, а в ее постуниверситетские планы Грэг уже не входил.
В конце марта, неожиданно жаркого в эту весну, они стояли у гуманитарного факультета и ели подтаявшее мороженое. Полина при этом умудрялась курить, подавшись вперед и стараясь не закапать юбку. Грэг с кем-то поздоровался, Полина повернулась. Грэг представил ее. Профессор Саймон Лири пожал ей руку, крепко, чуть задержав ее ладонь в своей. Она смутилась, от мороженого ее рука была липкой.
Профессору было за пятьдесят — старая гвардия, знакомая ей по родительскому дому в Нью-Джерси. Отцовские приятели, важные и неторопливые: покер, сигара, скотч в толстом стакане, иногда они оказывались остроумными, порой даже симпатичными. Но главное — запах, эта смесь горького табака, виски и пряного одеколона, этот дух вносил в мир порядок. Иногда под Рождество Полина получала от них десятидолларовые купюры. Эти мужчины знали жизнь, они твердо стояли на ногах и серьезно относились к своим удовольствиям: покер, рыбалка, скотч, сигары. Они знали цену справедливости. В них угадывалась основательность и надежность, таким вполне можно было доверить управлять миром.
Профессор Саймон обладал вкрадчивым голосом, седые виски переходили в жесткую пегую шевелюру, на подбородке гнездилась ямочка, которую (как Полина узнала потом) невозможно было чисто выбрить. В своем твидовом пиджаке с замшевыми локтями, вельветовых мешковатых штанах болотного цвета, мордатых ботинках свиной кожи он производил то самое впечатление надежности и напоминал ей старый отцовский саквояж, может, не такой стильный, но уж зато прочный и удобный для путешествий на любую дистанцию.
Полина отчего-то смутилась, на вопрос ответила сбивчиво, что диплом у нее по русской литературе, по Льву Толстому. Профессор хитро улыбнулся и, чуть помешкав, произнес:
— Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Акцент у него был жуткий, но впечатление на Полину профессор произвел. Грэг русского не знал, но тоже улыбался и довольно потирал ладони. Через неделю Грэг уехал в Европу.
Профессор Лири читал курс по истории холодной войны и еще что-то про распад коммунистического блока. Полина политикой не интересовалась, поэтому в аудиториях они не встречались. На кампусе он ей безразлично кивал или делал вид, что не замечает. Вообще, профессор соблюдал осторожность, встречались они в условном месте за пять кварталов вверх по Бродвею. На углу Сто тридцать шестой улицы, у антикварной лавки с синей дверью. Полине нравилась скрытность их связи, таинственность казалась ей романтичной и переводила Полину в разряд взрослых. У нее теперь был не просто парень, у нее появился настоящий любовник.
Хотя и здесь амурные дела обстояли не совсем гладко. Профессор предпочитал говорить, он обожал, когда его слушают. Полина слушала. Профессор мог часами рассуждать о том, что именно информация убила коммунизм, что роль Горбачева в перестройке минимальна — изменения диктовались экономикой, что Рейган просто дурак и посредственный актер, случайно угодивший в президенты.
Профессор говорил, когда готовил, обычно он стряпал что-то итальянское: равиоли с грибами, сицилийские баклажаны, моцарелла с томатами, макароны с пармской ветчиной. Готовил Саймон артистично, смело импровизируя, — на кулинарные рецепты он плевал.
— Для настоящего маэстро они лишь руководство к действию, — говорил профессор. — Рецепт есть догма, а догма убивает творчество.
Щедро добавляя оливковое масло, он сыпал соль, перец и специи на глаз, не забывая отхлебнуть кьянти из бокала. С поварской ловкостью шинковал петрушку и базилик, иногда перебивая сам себя восклицаниями типа «бениссимо» и «магнифико». Еда получалась действительно вкусной.
Профессор подбирал Полину у антикварной лавки и обычно вез к себе на Ист-Сайд. За такую квартиру запросто можно было заложить душу дьяволу: с мраморным холлом и швейцаром, квартира была на двух уровнях, в гостиной три сводчатых окна выходили на Пятую авеню, слева виднелась колоннада музея Метрополитен, справа зеленой горой вставал Центральный парк. Если лечь в ванну, то в круглое окно были видны верхушки небоскребов мидтауна. Самое удивительное, что в этой квартире никто не жил, иногда ключи выдавались проезжей родне или друзьям, посещающим Нью-Йорк.
Ребекка Лири предпочитала жить за городом, в Вестчестере. Эта квартира казалась ей тесной, город шумным, народ суетливым и неприятным. Ребекка много путешествовала. Она считалась специалистом по Дюреру и немецкому Ренессансу в целом, ее приглашали на всевозможные конференции и прочие мероприятия околохудожественного характера. В спальне стояла фотография, которую профессор каждый раз незаметно поворачивал к стенке. Там Ребекка снялась на фоне какого-то готического собора, Полина иногда разглядывала ее лицо и совершенно не могла представить эту холеную высокомерную суку рядом с милым Саймоном. Сам профессор говорил, что их семейные отношения давно эволюционировали в дружеское партнерство, при этом Саймон грустно улыбался и гладил Полину по колену. Полина верила и отчасти даже жалела искусствоведку.
Полина понимала тупиковость отношений с профессором, этим апрелем ей исполнилось двадцать четыре, она все еще считала себя достаточно молодой, и будущая жизнь с вероятными детьми и предполагаемым мужем виделась Полине расплывчато и в общих чертах. Гораздо больше ее занимало трудоустройство после получения диплома, впрочем, ясности здесь тоже не было.
Профессор был в отличной форме, разумеется, для своего возраста. Когда он садился на край кровати и стягивал носки, кожа собиралась в складки, отвисала в неожиданных местах. Особенно уродливыми казались ступни ног, желтые, словно из воска, с корявыми бледными ногтями. На бедре темнело родимое пятно размером с маслину, а от пупка по диагонали вверх тянулся шрам. История шрама так никогда и не прояснилась, Саймон уклончиво ответил, упомянув Ленинград и какого-то Герхарда. Именно тогда Полина решила, что Саймон не всегда был всего лишь профессором.
Любовником он оказался торопливым, иногда эгоистичным, Полине казалось, что Саймон обычно пытается поскорее покончить со всей этой постельной канителью и перейти к действительно приятным делам: к вину, ужину, к разговорам. Но старая школа брала свое — он каждый раз собственноручно раздевал ее, ловко расправляясь с застежками, молниями и крючками, после подолгу занимался ее грудью. Грудь Полины действительно заслуживала внимания, тем более что, судя по фотографии, профессорше похвастать особо было нечем.
От антикварной лавки Саймон всегда гнал по Бродвею, раскручивался вокруг статуи Колумба, одиноко скучающей на колонне в центре тесной площади, потом ехал вдоль парка, сворачивал у Плазы на Пятую. Тем днем маршрут изменился — профессор неожиданно нырнул на первом светофоре направо, спустился к Гудзону и понесся по набережной на юг…
Сборник современной черногорской литературы: Cретен Асанович
О черногорской литературе современному российскому читателю ничего неизвестно. Где-то там жил Милорад Павич, и у него есть много рассказов о Черногории, но он серб. Где-то там жил Иво Андрич, и он нобелевский лауреат, но хорват, и вообще сам черт ногу сломит в этой балканской чересполосице. Читатели «Прочтения» имеют возможность первыми познакомиться с материалами сборника современной черногорской литературы, выпуск которого инициирован европейским культурным центром Dukley Art Community. В течение нескольких недель мы будем печатать стихи и рассказы, сочиненные в очень красивой стране «в углу Адриатики дикой».
Встреча в Берлине
После приземления от Шенефельда до самого центра его встречали бетонные заборы и преграды, бесконечные стены расколотого города. Причиной его приезда в Берлин было участие в работе комиссии по приему фильма о которских моряках совместного черногорско-восточногерманского производства. Режиссером был Конрад Вольф, вниманию которого он должен был быть благодарен, причем не только за короткое пребывание в Пруссии, но и прежде всего за необыкновенную встречу, о которой сейчас пойдет речь. В самом начале показа, в особом очень комфортабельном зале с двумя десятками удобных кресел и приглушенным светом, режиссер вполголоса и с очевидной гордостью и теплотой представил ему своего, как он сам выразился, великого брата. Высокий стройный мужчина, крепкий, ухоженный, сердечно поздоровался с ним, не представляясь; не назвал имени брата и Конрад. Когда в зале зажегся свет и смолк шум кинопроектора, братья сидели голова к голове, улыбаясь и, несомненно, обмениваясь впечатлениями, а уже в следующий момент режиссер, слегка склонив голову в сторону, повернулся к комиссии, готовый услышать мнения о своем фильме. Создавалось впечатление, что для него, тем не менее, самым важным было мнение его брата, но, разумеется, как человек воспитанный, он проявил уважение и к вежливым похвалам других. Выходя из зала, режиссер ненавязчиво оттеснил его в сторону, соединив таким образом со своим братом, который на великолепном русском языке пригласил их выпить по рюмке и потом разделить с ним легкий ужин. В приятном кабинете ресторана «Интеротеля» они говорили о фильме, о драме, которую на эту же тему в двадцатые годы написал их отец Фридрих… Все это в сущности были, как говорят жители Цетинье, «верхние слова» для ни к чему не обязывающего банального разговора. Брат режиссера тем временем предложил, что он сам выберет, что заказать. На вырвавшиеся у гостя слова, что можно для начала пиво, раз уж они здесь, хозяин ужаснулся и ответил, что так можно было бы начать в какой-нибудь мюнхенской пивной, но сейчас мы находимся в его Берлине. Трудно было противиться надменной уверенности, которую излучал его сегодняшний хозяин и собеседник. Старший брат, режиссер, посоветовал ему, сопроводив слова и доверительным прикосновением к его плечу, полностью довериться младшему: де, тот хочет отметить сегодняшнее событие в своем стиле. Итак, хозяин ужина предложил обойтись без аперитива и начать и закончить белым вином, причем всего одним. Рейнские и мозельские вина он проигнорировал — как берлинец. Мог предложить словацкий рислинг с песчаников, тянущихся вдоль венгерской границы, или что-нибудь из стандартных грузинских вин — цинандали или гурджаани… Но он не хочет утомлять их лишней историей — раз уж они сегодня отмечают сдачу фильма о событиях, которые происходили в Которе и Боке, он позаботился о том, чтобы подали средиземноморское вино самого близкого соседства — мараштину с острова Корчула, из местечка Смоквица. Одобрив выбор необыкновенного хозяина, они приступили к ужину, обильно заливая его вином, к ужину, к которому постоянно подавались горячие тосты и цветочки покрытого росой сливочного масла и который состоял из серой иранской икры на льду и крупной холодной форели в густом йогурте. Брат-хозяин — Марк, как наконец назвал его Конрад — объяснил им, что это его собственный, несколько модифицированный рецепт приготовления рыбы из Полабье и что лучшая форель для этого водится в верховьях Нисы, в Судетах, посоленная и быстро зажаренная в большом количестве кипящего растительного масла, на сильном огне, политая потом яблочным уксусом, присыпанная мелко нарезанным чесноком и полностью покрытая йогуртом. Разумеется, гостю и в голову не пришло сказать, что существует точно такое же дуклянское блюдо — форель в простокваше, и что в Полабье, похоже, в свое время жили далекие предки черногорцев, которые, возможно, запомнили и перенесли с собой этот рецепт в Черногорию, хотя не исключено, что и к тем, и к другим он попал с Востока. Ужин прошел в прекрасной обстановке, но, несмотря на большие количества мараштины, не было никаких кое-где принятых пьяных объятий и рыданий на дружеском плече. Но когда им стало особенно хорошо, высокий человек встал. Расставшись с ним, Конрад и гость отправились выпить коньяка в Зилле-Штубе, где играли отрывки из Бертольда Брехта, Курта Вайля и номера из программы кабаре славного преднацистского времени, но с соцреалистической начинкой…
И лишь много позже он узнал, что его загадочным собеседником и гостеприимным хозяином был Маркус Вольф, всемогущий глава и мозг самой преуспевающей службы безопасности из всех когда-либо существовавших — суровой «Штази». Великий Маркус Вольф, после того как прошел через мучительные следствия, суды и заключения, написал и опубликовал собственную кулинарную книгу.
Перевод Ларисы Савельевой
Рисовала Милка Делибашич

Cретен Асанович (Sreten Asanović) родился в 1931 году в Дони Кокоты. Окончил учительскую школу, был главным и ответственным редактором журналов Susreti («Встречи»), Ovde («Здесь»), Stvaranje («Творчество»), президентом Союза писателей Черногории, председателем Союза писателей Югославии. Опубликовал множество книг. Рассказ «Встреча в Берлине» перевела на русский Лариса Савельева, благодаря которой русский читатель в свое время узнал творчество Милорада Павича.
Салли Гарднер. Червивая Луна
- Салли Гарднер. Червивая Луна / Пер. с англ. Ю. Мачкасова. — М.: Livebook, 2015. — 288 с.
Антиутопия Салли Гарднер «Червивая луна» получила несколько литературных премий, в том числе главную британскую награду — Медаль Карнеги. Эта история о мальчике с разноцветными глазами, который живет в мире, где подчинение — высшее из достоинств, глупость — условие выживания, а человек может в любой момент исчезнуть, оставив после себя дыру. Но если хочешь однажды проснуться свободным — неважно, что ты в меньшинстве, важно отличать правду ото лжи. Наперекор всему.
ОДИН
Интересно, что было бы, если бы.
Если бы мяч не улетел за стену.
Если бы Гектор не пошел его искать.
Если бы он не утаил страшную тайну.
Если бы.
Тогда, наверное, я рассказывал бы сам себе совсем другую историю. Потому что «если бы» — они, как звезды, никогда не кончаются.
ДВА
Мисс Конноли, наша бывшая учительница, всегда велела начинать историю с начала. Чтобы было как чистое окно, сквозь которое все хорошо видно. Хотя я так думаю, что она не это имела в виду. Никто, включая даже мисс Конноли, не посмеет сказать, что нам видно через заляпанное стекло. Лучше не выглядывать. А уж записывать это на бумагу… я не такой дурак.
Даже если бы я мог, все равно не смог бы.
Потому что я не знаю, как пишется мое имя.
Стандиш Тредвел.
Писать — затык, читать — молчок,
Стандиш Тредвел — дурачок.Мисс Конноли одна-единственная из учителей говорила, что Стандиш стал для нее особенным, потому что он не такой, как все. Когда я рассказал об этом Гектору, он улыбнулся.
И сказал, что лично он это просек в момент.
— Есть такие, которые думают по накатанному, а есть — как ты, Стандиш, — ветерок в саду воображения.
Я это повторил про себя. «А есть Стандиш, у него воображение веет, как ветерок в саду, не замечает даже скамеек, видит только, что собаки не насрали там, где собаки обычно срут».
ТРИ
Я не следил за уроком, когда пришла записка от директора. Потому что мы с Гектором были в городе за морями, в другой стране, где здания растут и растут, и прикалывают облака к небесам. Где солнце как в цветном кино. Мир под радугой. Пусть говорят, что хотят, — я его видел, по телевизору. Там поют на улице. Там поют даже под дождем, поют и танцуют вокруг фонарного столба.
Тут у нас темные времена. Никто не поет.
Но зато мечталось мне в тот день лучше, чем за все время с тех пор, как исчез Гектор с семьей. По большей части я старался о нем не думать. Вместо этого я изо всех сил воображал себя на нашей планете. На той, которую выдумали мы с Гектором. На Фенере. Все разумнее, чем без конца дергаться, что с ним случилось. Так вот, у меня получилось замечтаться лучше, чем за все это время. Как будто Гектор снова был рядом. Мы катались в таком огромном кремовом «кадиллаке». Я даже чувствовал запах кожаной обивки. Ярко-синей, синей, как небо, синей, как могут быть только кожаные сиденья. Гектор сзади. У меня одна рука опирается на хромированный край открытого окна, другая на руле. Мы едем домой, а там — «Крока-кола» на чистенькой кухне, за столом с клетчатой скатертью, а трава в саду такая, будто ее только что пропылесосили.
И вот тут-то я понял, что мистер Ганнел произносит мое имя.
— Стандиш Тредвел. Срочно явиться в кабинет директора.
Трепать-колотить! Вот это я прозевал. Трость мистера Ганнела выбила у меня слезы из глаз, резкий удар оставил на моей руке его личную подпись. Две узких красных полосы. Роста мистер Ганнел был небольшого, но мышцы у него были стальные, как у старого танка, и руки будто танковые, хорошо смазанные. Парик на его голове жил своей жизнью, изо всех сил цепляясь за блестящую потную лысину. Да и остальные черты лица тоже его не красили. Усики у него были маленькие и темные, как грязная сопля от носа до рта. Улыбался он только тогда, когда махал тростью; улыбочка эта скручивала уголки его рта, и тогда дохлой пиявкой вылезал язык. На самом деле я не уверен даже, что это можно было назвать улыбкой. Может, его просто так крючило, когда он отдавался любимому занятию — причинению боли. Ему было все равно, куда бить, лишь бы по живому, лишь бы достать.
Потому что поют только за морями.
Здесь небо давно обвалилось.ЧЕТЫРЕ
Но что меня больше всего задело, так это то, что я, похоже, совсем не присутствовал в классе. Не видел даже, как мистер Ганнел шел ко мне, а ведь между его столом и моей партой целая взлетная полоса. Ну, я сижу сзади, от меня до доски — как до другой страны. Слова прыгают, будто лошади в цирке. Во всяком случае, мне никогда не удавалось их остановить и разобраться, о чем они.
Единственное слово, которое я мог прочесть, — это то большое, красное, выбитое над картиной, изображавшей Луну. Такое слово, что сразу в рожу с размаху.
РОДИНА.
Я ведь дурачок, в разлинованную бумагу помещаться не умею и обитаю на задах класса так давно, что стал уже почти невидимым. Меня можно отличить от стенки, только когда у мистера Ганнела чешутся его танковые руки.
Тогда мир наливается красным.
ПЯТЬ
Никуда не денешься. Я разленился. Я так привык полагаться, что Гектор предупредит меня в случае надвигающейся опасности. А мечтания заставили забыть, что Гектор исчез. Что я теперь сам по себе.
Мистер Ганнел схватил и резко выкрутил мое ухо, так резко, что у меня опять слезы на глаза навернулись. Но я не заплакал. Я никогда не плачу. Какой смысл? Дед говорит, что если начать плакать, то уже не остановишься — столько есть разных причин для слез.
Думаю, он прав. К чему эта соленая водичка, эти грязные лужицы. Слезы, они заливают с головой, встают комом в горле. От них хочется кричать, от слез. Но по правде, было непросто, с выкрученным-то ухом. Я изо всех сил старался остаться на Фенере, на планете, про которую знали только мы с Гектором. Мы собирались добраться до нее вдвоем, и тогда все поняли бы, что мы не одиноки во Вселенной. Мы вступили бы в контакт с фенерианцами, а они отличают добро от зла и разнесут и Навозников, и кожаные пальто, и мистера Ганнела до самой жопы мира.
Луну мы решили облететь стороной. Зачем туда стремиться, когда Родина и так вот-вот установит свой красно-черный флаг на ее нетронутой серебристой поверхности?
Давид Фонкинос. В случае счастья
- Давид Фонкинос. В случае счастья / Пер. с франц. И. Стаф. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 224 с.
Давид Фонкинос, лауреат Гонкуровской премии лицеистов, входит в пятерку самых читаемых писателей Франции. Как большинство романов автора, «В случае счастья» — это тонкая, виртуозно написанная история любви. Клер и Жан-Жак женаты восемь лет. Привычка притупила эмоции, у обоих копятся претензии друг к другу. И оба — разными путями — пускаются на поиски счастья. Ироничная фантазия автора ставит их в непредсказуемые ситуации, за которыми витает вопрос, созданы ли современные Адам и Ева для вечной любви.
IV
Родители Жан-Жака погибли в автокатастрофе. Внезапный удар надолго отбросил его в неприкаянность. Вполне естественно, что он надеялся обрести новую
семью в лице родителей Клер; больше
того, Ален и Рене (их звали Ален и Рене), наверное, могли бы вновь пробудить в нем сыновние чувства. Можно понять, насколько ему поначалу хотелось
их любить. Но — вечная история — стоит нам поселить в себе хотя бы слабую надежду, как ее тут же выселяют. Встретившись с будущими родственниками,
Жан-Жак через три минуты понял, что они станут
лишь нелепым источником головной боли. Которую
придется терпеть каждый воскресный день в порядке
ритуала, столь же незыблемого, как явление женской
красоты в первых рассветных лучах. Очень скоро
Жан-Жак попытался уклониться от обедов в Марн-ла
Кокетт, но Клер умолила его съездить вот только в это
воскресенье, а потом в следующее, а потом и в каждое. Ему ничего не оставалось, как поддаться на шантаж жены, которая, в свой черед, поддавалась на шантаж родителей. В те три раза за восемь лет, когда они
не смогли приехать, им пришлось писать объяснительные записки. Теперь, когда Жан-Жак прибегал к услугам агентства алиби, он хотел было заговорить об этом
с Клер, но сразу осекся. Чересчур опасно; у человека
не может быть слишком много разных алиби на одной
неделе, иначе он окончательно запутается.По воскресеньям они выслушивали одни и те же старческие монологи. Минуты еле тащились, как процессия по жаре. Клер неизменно улыбалась и сияла благополучием. Мать неизменно старалась испортить ей настроение:
— Я вижу, у тебя новое платье.
— Да, недавно купила.
И все. Рене ничего не комментировала вслух,
подвешивая в молчании неизменно отрицательную
оценку. Во всяком случае, Клер не могла понять ее
иначе. Ее отношения с матерью всегда были плохими,
но никогда не выплескивались в ссору. Этот подспудный конфликт был буржуазно-благопристойным. Рене
была великой мастерицей недомолвок и никогда не радовалась счастью дочери. Один только раз она одобрительно заметила, что та прекрасно выглядит и вся светится; Клер тогда была беременна.Но выше всего в иерархии колкостей Рене ставила
свое истинное хобби — изводить мужа. То была одна
из опор ее незадавшейся жизни, припев для пения
под дождем. Клер пропускала это вечное ворчание
мимо ушей. Рене бесило непрошибаемое занудство
мужа. Хирург на пенсии, он во всем требовал точности и только и делал, что следил, правильно ли сложены салфетки и посолены блюда. То есть был чем-то
вроде домашнего инспектора. Во времена своей профессиональной славы, когда все преклонялись перед его талантом, он одним из первых среди хирургов застраховал свои руки. В 70-х об этом даже писали
в газетах. Его руки стоили несколько тысяч франков
в день. А значит, их любой ценой надо было беречь.
Рене обнаружила, что расплачиваться за ценные руки
супруга приходится ей — когда нужно что-то сделать
по дому. А главное, он продолжал их беречь и теперь,
без всякой пользы, потому что давно уже не оперировал. Говорил, что если вдруг война, он может пригодиться на фронте. И из-за этой потенциальной войны
никогда не мыл посуду. Экс-хирург непрерывным пафосным потоком разливался о своих сказочных операциях. Нередко всем прямо посреди обеда выпадало
счастье узнать, что у месье Дюбуа были тромбы в артериях, а у мадам Дюфоссе — скопление желтой жидкости в плевральной полости. Чтобы подавить рвотные
позывы, Жан-Жак старался думать о чем-нибудь другом; он вполне успешно осуществлял эту умственную
операцию и сидел с хитрой улыбкой человека, притворяющегося, будто слушает.Спорить с Аленом было невозможно. На десерт он
обычно пил сливовицу такой убойной силы, что ею
можно было растопить сибирские снега. Жан-Жак
ни разу не осмелился признаться, что ненавидит сливовицу, из вежливости выжигал себе желудок и смаковал погибель собственных внутренностей. Как можно
отказать человеку, который громогласно заявляет: «Ну
что, Жан-Жак, по стопочке сливовицы? Вы же любите,
я знаю!»И он соглашался; соглашался уже восемь лет. Конечно, методика незаметного плевка была им отработана в совершенстве. Лучший способ заключался в том,
чтобы вежливо сходить откашляться: аллергия на цветочную пыльцу. А вернувшись, поскорей произнести
какую-нибудь несуразную фразу — перевести разговор. Однажды Жан-Жак опробовал такую:— По-моему, голосовать за зеленых совершенно бессмысленно!
Фраза оказалась настолько действенной, что впоследствии он прибегал к ней еще не раз.
Но в то воскресенье Жан-Жак пребывал в отменном
настроении и даже готов был попытаться оценить
сливовицу. Все казалось ему упоительным. Первые
встряски счастья погрузили его в веселую истерию
рождающейся любви. В ту истерию, что напрочь отбивает способность вести себя пристойно. Он был
взвинчен, говорил без умолку, высказывался обо всем
и особенно ни о чем и нес совершеннейшую околесицу. За столом источник его счастья находиться
не мог: Жан-Жак ненавидел воскресные обеды у тестя
с тещей. Жену его жалкий восторг покоробил; тяжеловесные попытки быть скрытным сменились у него
безотчетным развязным чудачеством.Доказательством тому стало седло барашка.
Ибо в число этих воскресных обеденных ритуалов входило и седло барашка. Чем старше мы становимся, тем важнее в нашей жизни привычные опоры; часть первая
перемены в меню были решительно невозможны.
В крайнем случае белая фасоль в гарнире менялась
на красную. Все в мире относительно, бывают и такие
способы разнообразить жизнь. Обычно жаркое разрезала Рене. Но Жан-Жак, благоухая чувственным счастьем, ринулся к ножам и заявил, что сегодня барашком
займется он. Его прекрасное настроение стремительно
приближалось к той грани, за которой оно начинает
действовать другим на нервы. Луиза глядела на отца
с любопытством. Родители Клер тоже смотрели на зятя,
который два часа валял дурака, а теперь, в качестве вишенки на торте, собрался резать седло барашка. Ален
не решился возражать, тем более что зять, знавший его
вкусы как свои пять пальцев, любезно его успокоил:— Вам понравится этот кусочек с кровью, я же знаю…
И Ален, с полной тарелкой, но не в своей тарелке,
едва посмел осуществить свое неотъемлемое право налить всем красного вина. В итоге все улыбались; все,
кроме Клер. Для нее весь этот маскарад вдобавок к маскараду ее отношений с родителями был уже лишним.
Она вполне могла примириться с тем, что муж завел
любовницу; созерцать его экстаз оказалось куда тяжелее. Чем больше она смотрела, как муж с блаженной
улыбкой режет седло барашка, тем яснее представляла
себе, как он блаженствует, оседлав другую женщину.
Харуки Мураками. Бесцветный Цкуру Тадзаки и его годы странствий
- Харуки Мураками. Бесцветный Цкуру Тадзаки и его годы странствий. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с.
В «Эксмо» выходит новый роман японского классика Харуки Мураками «Бесцветный Цкуру Тадзаки и его годы странствий». В центре романа — переживающий кризис среднего возраста герой. Бесцветным его прозвали четыре друга, в фамилиях которых встречается иероглиф цвета: они — «красный», «синий», «белый» и «черный». В начале повествования они уже не общаются, поэтому, отучившись в Университете Токио, Тадзаки отправляется в путешествие, которое не спасает его от нарастающей тоски одиночества и размышлений об утраченной дружбе.
На втором курсе вуза, начиная с июля, он постоянно думал о смерти. Тогда же ему исполнилось двадцать — он стал взрослым, хотя никакого особого смысла эта веха в его жизнь не привнесла. В те дни мысль покончить с собой казалась ему естественной и совершенно логичной. Что именно помешало ему наложить на себя руки, он толком не поймет до сих пор. Преступить черту, отделяющую жизнь от смерти, в то время было проще, чем выпить сырое яйцо на завтрак.
Возможно, покончить с собой он не пытался просто оттого, что его мысли о смерти были слишком естественны и не увязывались с какой-либо конкретной картинкой в голове. Напротив, любая конкретика представлялась ему второстепенной. Окажись перед ним дверь на тот свет, он наверняка распахнул бы ее не задумываясь. Просто совершил бы это обыденно. Но, к счастью или нет, такой двери ему не попалось.Наверно, лучше б я умер в те дни, часто думал Цкуру Тадзаки. И нынешнего мира, каков он есть, просто бы не получилось. Было бы здорово. Ведь тогда не настало бы и никакого «теперь». Раз меня нет для этого мира, то и его не существует для меня.
И тем не менее Цкуру до сих пор не поймет, что именно подвело его тогда к смерти настолько вплотную. Пусть даже некие события и явились тому причиной, почему тяга к смерти вдруг стала такой навязчивой, что поглотила его без малого на полгода? Поглотила — да, именно так. Словно тот библейский пророк, прозябавший во чреве кита, Цкуру угодил Смерти в брюхо и невесть сколько суток провел в той живой пещере без единого лучика света.В то странное время он жил, как сомнамбула — или как покойник, не заметивший собственной смерти. Солнце всходило — он просыпался, чистил зубы, напяливал что подвернется под руку, садился в электричку, ехал в университет, конспектировал лекции. Словно человек, уцепившийся за фонарный столб, чтобы только не унесло ураганом, он цеплялся за распорядок дня. Без особой надобности ни с кем не общался, а вернувшись в свою холостяцкую квартирку, садился на пол, прислонялся спиной к стене — и размышлял о минусах жизни и плюсах смерти. Бездонная мгла распахивала перед ним свой зев, и он проваливался в нее до самого центра Земли. Туда, где Великое Му* закручивает мир в гигантское облако и глубинная тишина сдавливает барабанные перепонки.
Кроме смерти, он не думал вообще ни о чем. Это не так уж и сложно. Просто не читал газет, не слушал музыки и даже о сексе не вспоминал. Не видел ни в чем вокруг ни малейшего смысла. Устав от дома, выходил на улицу и бродил по окрестностям. Или садился на скамейку железнодорожной платформы и часами наблюдал, как отправляются поезда.
Каждое утро принимал душ, тщательно мыл волосы, дважды в неделю устраивал стирку. Чистота помогала ему держаться. Душ, стирка и чистка зубов. Питался он как попало. Обедал в университетской столовой — и больше нормальной еды почти не ел. Когда пустел желудок, покупал в супермаркете яблок, овощей и сгрызал их дома не задумываясь. Или жевал хлеб, запивая молоком из пакета. Перед сном наливал в стакан немного виски и принимал как снотворное. Пьянел он, к счастью, быстро и даже от маленькой порции тут же засыпал. Снов он тогда не видел. Те же сны, что изредка врывались к нему неведомо откуда, проносились вихрем в голове и ухали в пустоту, не удерживаясь на обрывистых склонах сознания.
Цкуру Тадзаки хорошо помнит, когда мысли о смерти начали притягивать его так сильно. Это случилось, когда четверо ближайших друзей заявили ему: «Больше ни видеть, ни слышать тебя не желаем». Пригвоздив его тем самым к жесткому факту. И ни словом не объяснив, что же заставило их такое сказать. Сам он спрашивать не стал.
Все они крепко дружили в старших классах, но потом Цкуру уехал из родного города учиться в столичном вузе. Так что теоретически исключение из дружной компании не принесло в его жизнь особенных неудобств. Встреть кого-то на улице, даже не смутился бы. Но это, увы, теоретически. На деле же после того, как он уехал от лучших друзей так далеко, боль его стала еще острее. Отчужденность и одиночество сплелись в телефонный кабель сотни километров длиной. И по этому кабелю, намотанному на огромную лебедку, днем и ночью к нему поступали неразборчивые сообщения. Звучали они то громче, то тише, иногда завывали, как буря в лесу, а иногда пропадали совсем.
* Му (кит., яп.) — буддистская категория полного отрицания. Состояние Му — сознание, очищенное от идей внешнего мира. Чревато просветлением (сатори) и переходом в Нирвану. В практиках дзен-буддийских монахов часто трактуется как «забери свой вопрос назад». — Здесь и далее прим. переводчика.
Александр Иличевский. Справа налево
- Александр Иличевский. Справа налево. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.
Новый сборник эссе «Справа налево» Александра Иличевского, лауреата премий «Русский Букер» и «Большая книга», посвящен запахам чужих стран (Армения и Латинская Америка, Каталония и США, Израиль и Германия), вкусам путешествий, слуховому восприятию литературы и музыки (от Моцарта до Rolling Stones), всему увиденному, что навсегда осталось на сетчатке и отпечаталось в «шестом чувстве» — памяти.
метафизика против физики
Притягательность пейзажа, в отличие от, скажем, человеческого тела, иррациональна. И разгадка состоит в том, что ландшафт, возможно, потому притягивает взгляд, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего, его, ландшафт, сотворившего; а Творцу и творцу свойственно иногда любоваться своим произведением.
Ландшафт может быть столь же уникален, как отпечатки пальцев. В великом гимне планете Земля — фильме «Койяанискаци» — камера движется на самолетной высоте над гористой пустыней в Чили. Причудливые слоистые скалы, напоминающие одновременно и вертикальную мрачную готику, и органического Гауди, казалось бы, неотличимы от каньонов Юты. Но в Юте известняк из-за избытка окислов железа красноватый — рыжий, рудой, даже персиковый; такого больше нигде не сыскать. А, например, только в низовьях Волги были открыты особые эрозивно-наносные образования, напоминающие с высоты волнистое, как стиральная доска, дно мелководья. Бугры Бэра получили свое название в честь впервые описавшего их Карла Бэра, пионера-эмбриолога, вдруг занявшегося в конце жизни и на исходе XIX века изучением геологических сдвигов Прикаспийской низменности и открывшего попутно «Всеобщий закон образования речных русел». (Я ничего не знаю о старости Бэра. Старость — значительная часть судьбы. И о такой, как у Бэра, можно только мечтать. Хотя героические биографии часто на поверку оказываются не такими уж счастливыми. Любознательность как форма отчаяния много важного свершила на благо цивилизации.)
С целью разобраться в причудливом узоре ландшафта геологи иногда прибегают к помощи археологов, и наоборот: случается, археология просит консультации у геологии. Так, общими усилиями, была открыта Хазария, примечательная тем, что часть ее жителей в VIII–IX веках исповедовала иудаизм. Археологи долго искали хазарскую столицу Итиль и в самой дельте, и у современной Енотаевки — на правом берегу Волго-Ахтубинской поймы, и столь же упорно на левом берегу — у села Селитренное. Но за все годы — ни следа: ни захоронения, ни черепка. Не мог же выдумать Хазарию Иехуда Галеви, написавший важнейший для средне- вековой еврейской мысли труд «Кузари». Тогда пришли на помощь геологи, указавшие, что полноводность Волги и, следовательно, уровень Каспия значительно менялись во времени. И археологи вспомнили, как исследовали в Дербенте крепостную стену, выстроенную в VI веке, чтобы защищать иранских Сасанидов от набегов с севера. На западе она упиралась в неприступный Кавказ, а на востоке подходила к самому морю. При этом крайняя башня находилась под водой на глубине шести метров. Отсюда следовало, что уровень Каспия в IX веке был на двенадцать метров ниже современного. Се- верная часть Каспия мелкая, суда из Волги движутся по специально прорытому каналу. Понижение уровня моря на метр осушает более десяти километров, и значит, в IX веке дельта Волги располагалась значительно южнее. А там, где в нынешнее время разливается бескрайнее половодье, где стоят камышовые заросли, проходимые только кабанами, где дебри тальника скрывают сомовьи ильмени, щучьи ерики и протоки, — там простирались луга и пашни тучной Хазарии, жителей которой половодья постепенно вытеснили на высокие степные берега, где они и растворились в населении Золотой Орды.
Хазария потонула в речных отложениях, была погребена на дне Каспия, от нее не осталось и следа, не считая редких осколков керамики в отвалах, сгруженных с землечерпалок. Но в книге главного еврейского поэта Иехуды Галеви «Кузари» эта страна стоит нерушимо, и царь ее придирчиво расспрашивает еврея о его вере, постепенно убеждаясь, что принятие иудаизма только умножит благоденствие управляемой им страны. Ничего удивительного, ибо, как сказано в Талмуде: мир — это всего лишь кем-то рассказанная история. Воображение, вероятно, вообще единственная твердая валюта в областях, торгующих смыслами. Остальные валюты слишком быстро превращаются в «бронзовые векселя». И «Хазарский словарь» Милорада Павича, в котором главный герой носит имя как раз Иехуды Галеви, рассказывает о не более баснословных историях, чем та, что лежит в основе романа «Кузари».
Да, ландшафт порой столь же уникален, как узор на радужке глаза. Но иногда наблюдается неожиданное сходство. В «Открытии Хазарии» Гумилев пишет, как однажды в экспедиции, находясь в километре от моря перед густой стеной камыша, зарисо- вывал в отчет разрез выкопанного шурфа и увлекся. Как вдруг заметил, что дно палатки промокло. Он вышел наружу и увидел, что камыш шелестит, приглаживаясь южным ветром, а всюду из земли выступает вода: впадины на глазах превратились в лужи, через камыши побежали струи. И тут ему стало страшно: он знал, что ветровой нагон достигает глубины двух метров и часто губит зазевавшихся охотников или пастухов. Вместе со своими помощниками он едва успел свернуть лагерь, когда луговина вокруг залилась зеркалом воды, и им пришлось мчаться наперегонки с наступающим стремительно морем.
Странно, что Гумилев, спасаясь от моряны (так называется в тех краях южный ветер), не вспомнил колесницы фараона, которые, в отличие от их автомобиля, все-таки были застигнуты морем. Но это событие навело потом создателя пассионарной теории этногенеза на мысль, что хазарам тоже приходилось оберегаться от моряны — и следовательно, следы их не стоит искать на плоских, заливных берегах. Благодаря этому археологи переформулировали свою задачу.
Еще один пример уникального ландшафта: Мертвое море. Когда Всевышний давал евреям Святую Землю, не существовало приборов для измерения высоты над уровнем мирового океана и никто, кроме, очевидно, Бога, не знал, что район Мертвого моря, напитанного Иорданом и вулканическими источниками из афро-азиатского разлома, — самая низкая точка на земле. Дно его, помимо выкристаллизовавшейся соли, выстилает асфальт: черные, обкатанные волнами кусочки битума, подобранные на его берегу, египтяне использовали для бальзамирования. Ландшафт самой особенной на планете страны обязан обладать уникальным свойством.
Ландшафт отчизны важен не меньше, чем телесность человека. Он — плоть обитания. Трудно жить в слишком большой стране, потому что нервные импульсы, осуществляемые перемещением ее обитателей, иногда неспособны обеспечить координацию бытования страны как целого. Весть о смерти Екатерины Великой достигла Тихоокеанского побережья российской империи лишь год спустя после кончины императрицы. Гончаров после лучшего в мировой литературе морского путешествия на фрегате «Паллада» вынужден был несколько месяцев возвращаться в Петербург (существенная часть его пути прошла на санях по единственной дороге в тех краях — реке Лене, где ямщик рисковал завезти его в «черный снег»: под тяжестью навалившего за зиму снега лед на широкой реке прогибается и вода просачивается под сугробы). Сейчас есть сотовая связь, автомобили, самолеты, интернет — всё это усиливает нервную деятельность стран. В древности передвижения были ограничены пешим, верблюжьим и конным ходом. Расстояние измерялось в днях перехода. Удобней жить в стране, пределы которой подвластны человеческому телу, где можно лечь гулливером навзничь и затылком чувствовать Север, а пятками Юг, где левая рука дотягивается до Солнца на Востоке, а правая принимает на закате светило на Западе.
Однажды я видел, как противолодочный самолет с удлиненной кормой, скрывающей магнитную антенну обнаружения подлодок, пролетел на бреющем над Мертвым морем и ушел по Иордану патрулировать Кинерет. Что тут скажешь? Я всегда завидовал летчикам и ангелам, способным скользить по коже карты.
Хорошо, допустим, мы знаем, как расступилось море. Допустим также, мы знаем, что манна небесная — капельки застывшего сока растений, надкусанных саранчой и после сорванные ветром. Но как был уничтожен Содом? Как рухнули стены Иерихона? Как было остановлено Солнце? Почему Мертвое море соленое, а озеро Кинерет пресное? Рациональные ответы на эти вопросы, вероятно, существуют. Но их правомерность не выше правомерности ответов иррациональных.
Иногда научные достижения неотличимы от магии и превознесение чудесного отдает невежеством, особенно если достижения науки при этом принимаются как должное. Есть области математики, в которых уверенно себя чувствуют от силы десяток-другой специалистов на планете, и обществу, случается, проще признать их достижения мыльными пузырями, чем важными успехами цивилизации, отражающими красоту мироздания и разума. Но есть и области чудесного, на долю которого незаслуженно выпадает масса пренебрежения со стороны позитивизма, склонного считать, что ненаблюдаемое или непонятное попросту не существует, а не подлежит открытию и объяснению. Скажем, если вы придете к психиатру и заикнетесь об инопланетянах, суровый диагноз вам обеспечен. Шизотипическими расстройствами страдает целая сотая доля человечества. А сколько еще тех, кто никогда не приходит к врачу. В момент, названный Карлом Ясперсом «осевым временем» и явившийся, как он считал, моментом рождения философии, дар пророчества был передан детям и сумасшедшим. Насчет детей не знаю, но к людям, делящимся с врачами своими переживаниями необычных явлений, я бы всерьез прислушался. Тем более что в истории человечества практически все деятели, совершившие серьезные прорывы в развитии цивилизации, находились по ту сторону психиатрической нормы. И вместе с тем я присмотрелся бы ко многим давно уже отданным на откуп массам разновидностям научной фантастики и попробовал бы отыскать новую точку зрения на них. Иногда норма затыкает рот истине, а массовый жанр клеймом обезображивает прозорливые наблюдения.
Например, однажды мне довелось говорить с человеком, который был убежден, что одно из имен Всевышнего говорит нам о серьезнейших вещах. Это имя — Саваоф: греческая калька с «Цеваот» — «Владыка воинств». Оказывается, под «воинствами» имеются в виду «силы небесные», то есть звезды. Отсюда мой собеседник делал вывод, что ангелы обитают на других планетах, звездах, в межзвездном пространстве. «Взгляни, — говорил он, — на вспышки на солнце: они гигантские, едва ли не превышают размеры Юпитера, с поверхности звезды отрываются мегатонны плазмы и уносятся в космос. Разве не так, как сказано, рождаются мириады ангелов, чтобы пропеть осанну Всевышнему и исчезнуть?»
Что ж? Это сравнение может показаться только поэтическим, если не подумать, что со временем наши представления о живом понемногу пересматриваются. Вероятно, скоро мы придем к выводу, что существуют неорганические формы жизни. Например, великий физик-теоретик Стивен Хокинг всерьез рассматривает компьютерный вирус как одну из форм жизни. И, вероятно, когда-нибудь, особенно с учетом того, что не за горами эпоха, когда мозг человека напрямую будет подключен к глобальной сети, какой-нибудь самозародившийся вирус разовьется в достаточно мощный интеллект, не облеченный плотью, но с которым нам волей-неволей придется иметь дело. Так почему же нельзя представить, что звездные процессы, точнее, связанные с ними потоки вещества и энергии, суть последствия коммуникативных связей неких сложных пространственно-временны 2х образований? Почему в космосе с его чрезвычайной протяженностью и сложностью не возможно формирование неких пока еще не постижимых интеллектуальных образований? В человеческом мозге переносятся электрические и химические импульсы, связываются и разрываются синапсы.
Так почему не допустить, что и в космосе, и на нашей планете обитание «потусторонних» сил есть не материя, а результат пока не осознанных коммуникативных процессов (возможно, очень медленных, или, напротив, мгновенных), происходящих в звездах, в растительном мире, в геологическом… Что мы внутри некой глобальной вычислительной системы, внутри вселенского мозга, что мы и мироздание — мысли этого мозга. Например, реки, морские течения, облака могут быть рассмотрены, как каналы передачи, по которым в качестве потока информации движутся значения плотности, солености, карта водных вихрей, всего, что составляет физическую суть реки. А где есть потоки данных, там можно подозревать интеллектуальные кластеры, ответственные за выработку смысла вместе с метаболизмом информации (в языческой интерпретации: так возникают «природные духи»).
Иногда познание позволяет не только нащупать смысл утонувшего в забвении обряда, но даже его изобрести. Что из этого следует? Не много, но и не мало. Эта проблематика подводит нас к главному противостоянию в XXI веке — физики и метафизики, религии и науки, к необходимости того, что оно, противостояние, должно разрешаться с помощью модернизма: развитием того и другого навстречу друг другу. В конце концов, мироздание было сотворено не только с помощью букв и чисел, но и с помощью речений. Вот почему Хазария стоит нерушимо на страницах, написанных Иехудой Галеви. Вот почему мир есть рассказываемая огромная, сложная, самая интересная на свете история.