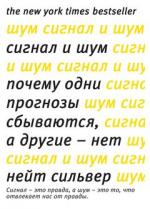- Элайза Грэнвилл. Гретель и тьма /Пер. с англ. Шаши Мартыновой. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 384 с.
«Гретель и тьма» — почти колдовской роман, сказка, до ужаса похожая на действительность. Вена, 1899 год. У знаменитого психоаналитика Йозефа Бройера — едва ли не самая странная пациентка за всю его практику. Девушку нашли возле дома помешанных, бритую наголо, нагую, безымянную, без чувств. Не девушка, а сломанный цветок.
Германия, много лет спустя. У маленькой Кристы очень занятой папа: он работает в лазарете со «зверолюдьми», и Кристе приходится играть одной или слушать сказки няни — сказки странные и страшные. И когда все вокруг постепенно делается столь же жутким, Криста учится повелевать этой кошмарной сказкой наяву.Пройдет немало лет, прежде чем Дудочник вернется за остальными детьми. Музыку его заглушили, но юные и старые, большие и малые — все подряд — принуждены идти за ним вслед, тысячами… даже великаны-людоеды в сапогах-скороходах да с плетками звонкими, даже их псы о девяти головах. Мы — крысы, это наш исход, Земля ежится у нас под ногами. Весна оставляет по себе горький вкус. Дождь и люди падают дни напролет, а ночи напролет рыдают в озерах русалки. Медведь кровавого окраса сопит нам в пятки. Я не свожу глаз с дороги, считаю белые камешки и страшусь того, куда ведет нас этот след из пряничных крошек.
Подействовало ли заклятье? Думаю, да: кольца тумана обвивают нам лодыжки, подымаются и глушат все звуки, заглатывают всех, кто рядом, целиком. Миг наступает, и мы бежим со всех ног, волоча Тень за собой, останавливаемся, лишь когда моя вытянутая рука нащупывает грубую кору сосновых стволов. Шаг, другой — и вот уж мы в заколдованном лесу, воздух прошит льдистыми ведьмиными вздохами. День схлопывается вокруг нас. Призрачные караульные бросаются вниз с деревьев, требуют назваться, но наши зубы настороже, никаких ответов, и надзиратели убираются прочь, хлопая крыльями, на восток, к луне в облачном саване. Корни змеятся, тянут нас к лесной подстилке. Мы таимся в тиши, прерываемой далеким стуком рогов, что сбрасывают олени.
Просыпаемся — нас не съели. Солнце впитало последние клочья тумана. Кругом, похоже, ни души. Недалеко же мы ушли: я вижу дорогу, но путников на ней и след простыл. Тихо — покуда кукушка не закликала из чащи.
— Слушай.
— Kukułka, — отзывается он и прикрывает глаза ладонью, всматриваясь в верхушки деревьев.
— Ку-ку, — говорю я ему. Он по-прежнему разговаривает странно. — Она делает ку-ку!
Он по обыкновению резко дергает плечом.
— Зато мы на воле.
— Пока двигаемся — да. Пошли.
Тень скулит, но мы насильно ставим его на ноги и, поддерживая его с обеих сторон, бредем вдоль кромки леса, пока не выбираемся к полям, где вороны деловито выклевывают глаза молодой пшенице. А дальше свежезахороненная картошка дрожит под земляными грядами. Рядами зеленых голов пухнут кочаны капусты. Мы встаем на колени и вгрызаемся в их черепа, капустные листья застревают у нас в глотках.
Идем дальше, ноги тяжелеют от цепкой глины, но тут Тень оседает на землю. Я тяну его за руку:
— Тут опасно. Надо идти. Если заметят, что нас нет…
Надо идти. Нам надо идти. Уж точно рано или поздно какие-нибудь добрые гномы или мягкосердечная жена великана сжалятся над нами. Но страх стал слишком привычным попутчиком — недолго ему гнать нас вперед. Еще и Тень с собой тащим. Голова у него повисла, глаза нараспашку, пустые, ноги волоком — две борозды тянутся следом в рыхлой грязи. Нам, похоже, конец от него настанет.
— Надо идти дальше одним.
— Нет, — пыхтит он. — Я обещал не бросать…
— А я — нет.
— Иди тогда сама. Спасайся.
Он знает, что я без него не уйду.
— Без толку стоять да разговаривать, — огрызаюсь я, подцепляю рукой плечо Тени и удивляюсь, как такое тонкое — будто лезвие ножа — может быть таким тяжелым.
Еще одна передышка — на сей раз мы присели на мшистый изгиб дуба, попробовали сжевать горстку прошлогодних желудей. Остались только проросшие. Тень лежит, где мы его бросили, смотрит в небо, но я-то вижу, что глаза у него теперь полностью белые. Оно вдруг кричит — громче мы ничего никогда от него не слыхали, — а дальше прерывистый вдох и длинный, судорожный выдох. Я выплевываю последние желуди. Тень больше не дергается и не вздрагивает, как мы привыкли; надавливаю ногой ему на грудь — не шелохнулось. Миг-другой — и я собираю пригоршню дубовых листьев и укрываю ему лицо.
Он пытается меня остановить:
— Зачем ты это?
— Оно мертвое.
— Нет! — Но я вижу облегчение, когда он опускается на колени проверить. — Мы столько всего сносим, а умираем все равно как собаки… pod płotem… у забора, под кустом. — Он закрывает Тени глаза. — Baruch dayan emet*. — Должно быть, молитва: губы шевелятся, но ничего не слышно.
— Но мы-то не умрем. — Я тяну его за одежду. — Тени долго не живут. Ты же знал, что зря это. Зато теперь быстрее пойдем, ты да я.
Он стряхивает мою руку.
— Тут земля мягкая. Помоги могилу выкопать.
— Нет уж. Времени нет. Нам надо идти. Уже за полдень. — Вижу, он колеблется. — Тень никто не съест. Мяса никакого. — Он не двигается с места, и я ковыляю прочь, стараясь не оборачиваться. Наконец он догоняет. Тропка вьется между лесом и полем. Один раз примечаем деревню, но решаем, что к логову колдуна мы все еще слишком близко, это опасно. Вот и солнце покидает нас, и идем мы все медленнее, пока я не сознаю, что дальше мы не потянем. Лес поредел: перед нами расстилается бескрайнее поле с ровными бороздами, докуда глаз хватает. Мы забираемся глубоко в кустарник, и тут я понимаю, что поле это — бобовое.
— Какая разница? — спрашивает он устало.
— Сесили говорила, если заснешь под цветущими бобами — спятишь.
— Нет тут цветов, — отрезает он.
Ошибается. Несколько верхних бутонов уже развертывают белые лепестки, в сумерках призрачные, а наутро очевидно, что надо было нам поднажать: за ночь раскрылись сотни цветков и танцуют теперь бабочками на ветру, разливая в теплеющем воздухе свой аромат.
— Дай мне еще полежать, — шепчет он, вжимает щеку в глину, отказывается идти, даже не замечая черного жука, грузно взбирающегося у него по руке. — Никто нас тут не найдет.
Его синяки меняют цвет. Были бордово-черные, теперь подернулись зеленью. Он просит сказку, и я вспоминаю, как Сесили рассказывала мне про двух детишек, выбравшихся из волшебной волчьей ямы. У них тоже кожа позеленела.
— Дело было в Англии, — начинаю я, — во время урожая, давным-давно. На краю кукурузного поля возникли ниоткуда, как по волшебству, мальчик и девочка. Кожа ярко-зеленая, и одеты странно. — Я оглядываю себя и смеюсь. — Когда они говорили, их эльфийского языка никто не понимал. Жнецы привели их в дом Хозяина, там за детьми ухаживали, но те ничего не ели, совсем-совсем ничего, пока однажды не увидели, как слуга несет охапку бобовых стеблей. Вот их-то они и поели — но не сами бобы.
— А почему они не ели бобы, как все остальные?
— Сесили говорила, в бобах живут души умерших. Так можно мать свою или отца съесть.
— Глупости какие.
— Я тебе рассказываю, что она мне говорила. Это всамделишная история, но если не хочешь…
— Нет, давай дальше, — говорит он, а я подмечаю: хоть и держится снисходительно, но на бобовые цветочки поглядывает косо. — Что потом случилось с зелеными детками?
— Поели они бобовых стеблей и стали сильнее, а еще английскому научились. Они рассказали Хозяину о своей прекрасной родине, где неведома нищета и все живут вечно. Девочка обмолвилась, что играли они как-то раз и вдруг услышали сладостную музыку и пошли за ней через пастбище да в темную пещеру…
— Как у тебя в той истории про Дудочника?
— Да. — Я медлю: в истории у Сесили мальчик погиб, а девочка выросла и стала обычной домохозяйкой. — Остальное не помню.
Он молчит, а потом глядит на меня.
— Что нам делать? Куда податься? К кому? Нам пока никто ни разу не помог.
— Сказали, что помощь на подходе. Сказали, что она уже идет.
— Ты в это веришь?
— Да. И поэтому нужно двигаться им навстречу.
Под синяками лицо у него белое как мел. И с рукой что-то не то: как ни пошевельнет ею — морщится. В уголках рта — свежая кровь. И тут я вдруг так злюсь, что взорвусь того и гляди.
— Убила б его. — Сжимаю кулаки, аж ногти впиваются. Хочется кричать, и плеваться, и пинать все подряд. Он все еще смотрит на меня вопросительно. — В смысле, того, кто все это начал. Если б не он…
— Ты не слышала, что ли, о чем все шептались? Он уже умер. — Опять он дергает плечом. — Как ни крути, мой отец говорил: если не тот, так другой какой-нибудь, точь-в-точь такой же.
— Тогда, может, здесь бы и оказался кто-нибудь другой, а не мы.
Он улыбается и стискивает мне руку.
— И мы бы никогда не встретились.
— Да встретились бы, — отвечаю яростно. — Как-нибудь, где-нибудь — как в старых сказках. И все равно жалко, что не я его убила.
— Слишком большой, — говорит он. — И слишком сильный.
Тру глаза костяшками пальцев.
— Раз так, жалко, что я не побольше. Наступила бы на него и раздавила как муху. Или вот бы он был маленький. Тогда б я сбила его с ног и оторвала голову. Или заколола бы ножом в сердце. — Молчим. Я размышляю, какими еще способами можно убить кого-нибудь ростом с Мальчика-с-пальчика. — Пора.
— Дай мне поспать.
— Пошли. Потом поспишь.
— Ладно. Но сначала расскажи мне сказку — твою самую длинную, про мальчика и девочку, которые людоеда убили.
Я задумываюсь. Ни одна моя старая история вроде бы не настолько страшная, пока до меня не доходит: ведь наверняка сложатся обстоятельства, в которых людоеда и впрямь можно убить. Спасибо Ханне, я знаю где. И даже когда. Ни с того ни с сего я воодушевляюсь.
— Давным-давно, — начинаю я, но тут же понимаю, что так не годится. Не такая это сказка. Он все еще держит меня за руку. Я резко дергаю его. — Вставай. Дальше буду рассказывать тебе истории только на ходу. Остановишься — я больше ни слова не скажу.
* «Благословен Судия праведный» (ивр.) — принятое в иудаизме благословение покойника. — Здесь и далее прим. перев.
Рубрика: Отрывки
Александр Товбин. Германтов и унижение Палладио
- Александр Товбин. Германтов и унижение Палладио. — СПб.: Геликон Плюс, 2015. — 936 с.
В длинный список премии «Большая книга» в 2015 году вошло произведение петербургского писателя Александра Товбина. «Германтов и унижение Палладио» одновременно сочетает в себе элементы романа воспитания, детектива, производственного романа и мемуаров. Главный герой амбициозный петербургский искусствовед Юрий Германтов захвачен дерзкими замыслами главной для него книги об унижении Палладио. Одержимость абстрактными, уводящими вглубь веков идеями понуждает его переосмысливать современность и свой жизненный путь. Такова психологическая и фабульная пружина подробного многослойного повествования, сжатого в несколько календарных дней.
часть первая в вольных университетах
картинки из разных, — детских и взрослых, — лет, а также фантом-папа, отчуждённая мама и жовиальный Сиверский, палладианец ● С чего она начиналась, жизнь?
С того, что сразу врезалось в память, — с зимы, снежной, как в бескрайнем, белом-белом, узорчатом и пышно-нарядном, замороженном царстве Берендея, зимы… — вот он, Юра Германтов, свидетельствуя о подлинности воспоминания, тонет в снегах сказочной той зимы, на маленькой серенькой фотографии: короткое пальтецо, башлык, деревянная лопатка в руке, сугробы.
И будто бы в эвакуации, в деревне на севере костромской области, не сменялись времена года, будто он там, в заповедной лесной глуши, дремучей хвойной стеною подступавшей к домам, не радовался лету, — не одолевал ажурной упругости папоротников, не блуждал в густо-пахучих, пронзённых лучистой голубизной, зарослях можжевельника или — в колючих, затянутых радужной щекочущей паутиной малинниках; о, он знал в лесу ягодные места, пил сладковато-прозрачный берёзовый сок, сочившийся из-под надрезанной коры в консервную банку, пьянел от шума ветра в берёзах, взбегавших к небу по зелёным пригоркам…
В радости лета он, однако, окунулся после так поразившей его, так запавшей в память зимы.
Снег был легчайший и мягкий-мягкий, словно бескрайняя перина с лебяжьим пухом, или скрипучий, как крахмал, или, при устоявшихся морозах, слежавшийся, твёрдый и колкий, с шероховатой, взблескивавшей ледяной корочкой, и — при этом — холодный-холодный на ощупь, обжигавший до красна пальцы, и — вот, казалось, спустя миг всего, — чуть подтаявший сверху, солнечно-тёплый, как топлёное молоко; а назавтра — уже почему-то сухой и будто бы мелко перемолотый, как порошок, а потом, — мягкий и рыхло-липкий, годный для лепки снеговиков. Снег непрестанно менял и цвета свои, вот он, белый-белый, только что украшенный лишь рельефным узором птичьих следов, испещрялся ещё и неровными ярко-синими полосами, вот синие полосы, сближаясь, срастаясь при снижавшемся солнце, делались лиловыми, но вот и окончательно размазывались по снегу, теряли яркость, будто бы линяли тени стволов, ветвей, а под вечер — снег уже был розовым, почти краплачно-красным, будто бы сплошь залитым клюквенным киселём, и — спустя час какой-то — лазорево-изумрудным при полной, вроде как фосфором натёртой луне, взошедшей над обложенной ватой, припорошенной блёстками елово-сосновой чащей, или — делался снег пепельно-белёсым в чёрной ночи, омертвевшим каким-то, но — с жёлтыми пятнами электрического света, косо падавшими, если повернуть с немалым усилием массивный фаянсовый выключатель, на снег из окон. Те снега, чистые, ослепительные, многокрасочные, — со всеми своими светоцветовыми контрастами, оттенками, — до сих пор перед глазами, до сих пор расстилаются у подножия запорошенной таинственно-мрачной чащи, на которую, кстати, он привык смотреть сквозь другой лес, тоже таинственный, но вовсе не мрачный, а нарядный, серебристо-льдистый, нарисованный на оконном стекле морозом.
И смешанного зрелища этого, когда лес накладывался на лес, действительно, он не мог забыть.
Ну да, сложилась непроизвольно нелепая, но по-своему точная фраза-формула: прошлогодние снега не желают таять…
В снегу тонули по окна избы, снег накрывал их пышными шапками, а брёвна, доски, наличники зарастали пухлым сиреневым инеем… Вороны, гортанно перекрикиваясь, перелетали с ветки на ветку, с деревьев медленно и торжественно падали тяжёлые хлопья. И вдруг ветер принимался сдувать снег с крыш, над коньками их и печными трубами в самые ясные дни взвивались вьюги. И сельские мальчишки прыгали с высоких зубчатых заборов в сугробы, вздымалась и долго-долго плавала в воздухе белая, блестящая, алмазно загоравшаяся на солнце пыль… Все снежные перекраски и цветоносные трансформации с волнением подмечал Германтов, ничуть не завидуя их, деревенских сорванцов, показной удали.
Странный мальчик — он, здоровый, физически вполне развитый мальчик четырёх лет от роду, предпочитал, отслеживая все нюансы оттенков и фактур снега за окном, листать журналы с картинками.
И это перелистывание картинок стало вторым, пожалуй, не менее ярким, чем первое, снежное, впечатлением. Стопка потрёпанных дореволюционных журналов обнаружилась на книжной полке в комнате большого, потемневшего от времени бревенчатого дома с окошками в резных наличниках и прогнившей гонтовой крышей с лишаями мха, где Германтова поселили с бессловесной маминой тёткой, — мама отправилась в эвакуацию с театром, с концертными бригадами должна была выезжать на фронт и не могла взять Юру с собой. В тех журналах попадались разные гравюры с впечатляющими каменными ландшафтами, преимущественно, Парижа с обязательной наполеоновской аркой на Елисейских полях и Рима с не менее обязательными античными руинами, что, несомненно, чудесно предвосхищало будущие профессиональные интересы Германтова. Но тогда запомнились ему прежде всего почему-то две гравюры со штриховыми видами двух других городов, причём именно те две гравюры, которые потом с удивлявшей Германтова повторяемостью встречались ему год за годом на страницах книг и журналов… Эти встречи с давними знакомцами воспринимались им потом как направляющие его к неясной цели знаки упрямого чародейства.
Итак, ему, четырёхлетнему, навсегда запомнились снега военной зимы и две старинные, — восемнадцатого века — гравюры с видами Петербурга и Венеции.
● Как мешали ему теперь, ночью, точнее, на рассвете, пробелы между рваными фрагментами собственного автопортрета!
Ведь даже краткая биография, подумал, предательски распадалась под разновекторным давлением рефлексии; казалось, сколько-нибудь значимые картинки детства, которые он сам пытался складывать сейчас в хронологической последовательности, чтобы увидеть траекторию всей жизни своей, обрести некий сквозной сюжет, и те раз за разом дробились, а осколки-обрывки перемешивались чьей-то властной рукой… И чем заполнить пробелы ли, «пятна темноты», запавшие в душу, как выявить в противоречивых детских томлениях изначальную направленность натуры? Ни будущую целеустремлённость, ни тем более амбициозность в маленьком Юре Германтове нельзя было разглядеть.
● Он не знал своих бабушек и дедушек, их не было в живых, когда он родился, и это незнание не могло не обеднить его эмоциональный мир, ибо дедушки-бабушки омывают детскую душу особой, отличной от родительской любовью.
Но по сути он не знал и своих родителей.
— Ты будто подкидыш, бедненький мой, — вздыхала мама; потом и Сиверский подкидышем-кукушонком называл, ероша Германтову волосы и поблескивая очками… Конечно, подкидыш, кто же ещё: полдня проводил у Анюты с Липой — у них, кстати, тоже были старинные иллюстрированные журналы; попозже, когда немного подрос — мог часами торчать у соседа, художника Махова, вдыхая пьянящие ацетоново-олифовые запахи масляной живописи, всматриваясь в чудесно возникающие на холстах из-под ударов кисти загадочные изображения.
Обучение и воспитание примерами, впечатлениями?
И словами, само собой, но — без дидактики?
Возможно.
Никто — ни Анюта с Липой, ни Махов, ни Соня, — специально и целенаправленно ничему его не учили и учиться не заставляли, никто направленно — что такое хорошо, что такое плохо — не воспитывал; до чего же вольно он, оказывается, рос! Сказка, да и только! Никто ему не давил на психику.
И он, словно в благодарность за это приволье, никого не отвлекал вопросами, капризами, шумными играми… Он никому из домашних не надоедал, никому не доставлял неприятностей, не давал и поводов для естественного материнского беспокойства — ни кори, ни ветрянки, ни скарлатины; он не простужался даже, не помнил, чтобы ему когда-то ставили градусник…
Он не знал отца, почти не знал мать…
Да, отец исчез до его рождения, на нет и суда нет, а вот мама никуда не исчезала, а он только видел её, да и то изредка и как бы бесконтактно, со стороны — видел и старался запомнить плавные движения, поворот красивой головы; и слышал, конечно, как она пела. Когда она последний раз пела дома? Пожалуй, на встрече Нового года, да, да — на встрече тысяча девятьсот пятидесятого года, отмечали середину века… Или всё же это была встреча другого Нового года, попозже? И был он, соответственно, старше? Не проверить, по малости лет он вполне мог что-то с датировкою перепутать, а больше никого из тех, кто звенел в ту ночь бокалами, уже нет в живых. Но что точно, то точно: тогда ли, позже, но приехали гости из Львова, дальние родственники, Александр Осипович Гервольский с женой Шурочкой. Они за полчаса до боя курантов и гимна, мощно исполненного Краснознамённым ансамблем и немецким трофейным радиоприёмником, вернулись из театра имени Пушкина, из бывшей — и нынешней — Александринки, где давали не что-то легкомысленное, как полагалось бы по стандартам репертуара под Новый год, не какую-нибудь там затхлую костюмную комедию положений с переодеваниями, пощёчинами и сочными поцелуями, а премьеру «Живого трупа»; жарко обсуждали игру Симонова — Феди Протасова, и Лебзак — цыганки Маши. Сверкала нарядная ёлка, сверкал бутылками и баккара стол. Сиверский, искромётно-весёлый громовержец и по совместительству — тамада, произносил басовито-баритонные тосты-пожелания; бабахая пробками, пили замороженное шампанское, потом «Столичную» водку и «Цинандали»… Вдруг — звонок, явилась заснеженная Оля Лебзак собственной персоной, с гитарой и слегка уже захмелевшая в другой компании, у друзей-артистов, пировавших неподалёку, на Бородинке. О, восхищённо зааплодировать стоило сразу, едва Оля в перспективе коридора, небрежно тряхнув плечами, превратила снежинки в капли, скинула котиковую шубку на руки Сиверского! Фантастичный новогодний сюрприз для четы Гервольских, им подарили продолжение потрясающего спектакля. Однако Оля — в белой блузке, коричневом расстёгнутом жакетике и удлинённой болотно-зелёной юбке со смелым разрезом — сошла со сцены академического театра не только для заезжих гостей, но и для десятилетнего — о нём, на счастье, все позабыли, не отправили спать — Юры Германтова; не исключено, что и вообще для него одного сошла. Как она там, на сцене, покоряла и с ума сводила Федю Протасова, Германтов не знал, но он, видевший Олю раньше лишь мельком, теперь никак не мог уже уберечься от её манящей и опьяняющей близости, от неё, такой распутно-живой, горячей, нервно и будто бы обречённо откидывающей с бледного чела волнистую прядь тёмно-каштановых волос, от её серых, гипнотично-порочных, брызжущих запретными желаниями глаз и вкрадчиво-развязных движений; как остро, пряно пахли её духи… Оля жадно отпивала из большой запотевшей рюмки водку — кто ей на тарелку от избытка чувств подкладывал буженину? — и что-то, чудесно подзаряжаясь огненными глотками, с надрывной, но и с приглушённой при этом, как бы загнанной вовнутрь горечью плакальщицы, заранее оплакивавшей скорую собственную погибель, пела хриплым низким голосом, аккомпанируя себе на гитаре. У неё был, пока пела, прожигающий и при этом влажно-замутнённый какой-то, словно горючими слезами размытый взгляд… И как же он, потрясённый звучащим зрелищем и своим живым участием в нём, судорогой насквозь пробитый, не способный к простейшим умозаключениям, её полюбил, сразу и навсегда полюбил, испытав первый на своём веку и потому ошеломительный прилив эротизма. Голова закружилась, знакомые лица понеслись по кругу, как если бы все родичи и гости расселись не за столом, а на быстро-быстро крутящейся карусели; к тому же незаметно для себя и гостей сделал несколько больших глотков «Цинандали»; под каждый тост Сиверский с шутовскими гримасами делал глубокий вдох и салютовал — выдувал-выстреливал из какой-то трубочки свой салют; из пневматических залпов рождались ярко-рассыпчатые облака конфетти, и мигали-перемигивались разноцветные лампочки, мерцали, зеркалисто бликовали стеклянные ёлочные шары, пики, гирлянды золотого и серебряного дождя, да ещё кто-то из гостей слепил фотовспышками. За волной чувственности накрыла и — будто ещё и острое что-то пронзило сердце — зрительно-звуковая волна, тут же, на глазах, в вибрациях барабанных перепонок рождавшегося искусства. Как пела она, как пела; дорогой длинною, да ночкой лунною… Да, опять-таки впервые на своём коротком пока веку ощутил он, что две стихии — любви-страсти и искусства сливались в Оле, в её затуманенном взоре, дрожащем на грани срыва, но необъяснимо плывучем голосе, нервных движениях рук и плеч. Она, собственно, и была воплощением-олицетворением их, этих стихий, и обе эти стихии, слившись в одну, олицетворённую ею, теперь и его захлёстывали, он тонул, чувствовал, что тонул, пускал пузыри… Бывают ли настоящие цыганки с серыми глазами? — не мог не подумать Германтов, вспомнив о повадках вокзальных черноглазых гадалок, и тут цыганский романс вместе с Олей, в два голоса, но в отличие от Оли — без надрыва, а протяжно, будто б с долгой измучивавшей болью, исторгавшейся из неё, так что боль ту не оставалось сил сдерживать, запела мама, и, казалось, на длинной дороге в лунной ночи он услышал звон колокольчиков; очищая мандарин, уже не мог понять, кого он любит сильнее — Олю Лебзак или маму?
И потом мама пела одна.
Нет, не глаза твои увижу в час разлуки, не голос твой услышу в тишине…
Захмелевшая Оля обняла маму, прижала к себе, мама, стряхнув с глянцевитых волос конфетти, запела: гори, гори, моя звезда… Потом — мелькали образы далёких чудных стран… Потом — моё признанье вы забыли… Потом — но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня… Потом — только раз бывает в жизни встреча, только раз в холодный зимний вечер мне так хочется… Как обострённо он воспринимал всё в ту ночь, всё, что видел, слышал, недаром всё-всё, взгляды, жесты, интонации, сохранила память; тост, новый цветистый залп конфетти, и — я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю, в душе моей обиды нет… И — слёзы подступая, льются через край… И — я помню вальса звук прелестный, а потом — твои глаза зелёные, уста твои обманные… — А потом, потом, что же запела она потом? Снился мне сад в подвенечном уборе? Да. А потом ей дали передохнуть, слушали Козина — веселья час и боль разлуки готов делить с тобой всегда… Пусть осень у дверей, я это твёрдо знаю, слова любви сто раз я повторю… Не уходи-и-и, тебя я умоляю… Дружно, но нестройно и мучительно-радостно, кто в лес, а кто по дрова, подтягивали. Мама редко пела на домашних застольях, возможно, берегла голосовые связки, а когда, подвыпив, распевались безголосые гости, посматривала на них со скорбным видом — так, наверное, строгая экзаменаторша в консерватории посматривает на бездарных вокалистов-абитуриентов; да, береглась, побаивалась, что грозит ей искажение тембров и появление комков в горле, которые не прокашлять. С голосовыми связками её, последовательно ослабевавшими от звуковой вибрации из-за постоянно возраставшей репертуарной нагрузки, немало и, увы, безуспешно вскоре провозятся лучшие ларингологи и светилы-фониатры — не помогут ей специальные ингаляции, парафиновые компрессы… Но тогда форсированное чув¬ственное пение Оли, очевидно, и маму разбередило, она рискнула запеть в полную силу и уже не смогла остановиться. Он, не отводя глаз, следил за её открытым подвижным ртом, за волнующе менявшим контуры тёмным, с розоватым блеском нёба, провалом рта, обведённым ярко накрашенными, гибкими такими, выпуклыми губами. И как же дрожали звуки там, в таинственной коралловой глубине провала, в глубине горла, где, чудилось ему, перекатывались, ударяясь слегка друг о дружку, мелкие-мелкие, звонкие, как колокольчики, камушки, и тут же различимые на слух дрожь и слабые колебания отдельных звуков образовывали мощный и нежный, обогащённый своими тембрами у каждого звука, но сплошной неудержимый поток; а мама пела, пела: утро туманное, утро седое… Немели кончики пальцев, сердце сжималось от предчувствия огромной жгуче-счастливой и — непременно — горестной, с потерями и слезами, жизни, поджидавшей его: глядя задумчиво в небо широкое, вспомнишь ли лица, давно позабытые… И как же к лицу ей было светло-голубое платье с круглым вырезом на вздымавшейся груди, сшитое из парашютного шёлка! Вот она, рядышком, поющая и живая, повезло: обычно мамино пение неслось, заполняя волнующей игрой звуков комнату, с патефонной пластинки, угольно-чёрной, поблескивавшей при вращении хрупкого круга, а сама мама, живая, но какая-то отрешённая, расставляла на столе тарелки, фужеры… И вдруг чистой синевой вспыхивали её глаза.
— Синеокая, — сказал кто-то из гостей и предложил маме псевдоним, как бы совмещая комплимент с шуткой: — Лариса Синеокая, бесподобно!
— Для исполнительницы романсов — прекрасно звучит, — не совсем тактично поддержал другой гость, — особенно если шаль накинуть и усиливать жестокие романсы мимансом цыганщины.
Заметил, как у мамы дрогнула жилка на сильной стройной шее, качнулись финифтяные бусы. Мама округлым плечом повела, давая понять, что ей ближе серьёзный репертуар… но и впрямь была она синеокой — «смотрела синими брызгами».
С тех пор и Сиверский, обнимая её на людях, ласково глядя на неё сверху вниз, говорил:
— Синеокая ты моя.
А Германтов ревновал.
Как объяснить? Он и маму, и Сиверского любил, но всё равно ревновал маму к Сиверскому.
И — мучился, как мучился он, даже при нудном обсуждении гостями «вагнеров¬ских» и «вердиевских» признаков в голосах певцов. Да и как было ему не мучиться, не ревновать, если Сиверский маму всё ещё обнимал за плечи? Мама словно и тогда отсутствовала, когда сидела за столом рядом с ним; Германтову ситуативной близости её не хватало, он хотел, страстно хотел, чтобы она оставалась с ним, только с ним, всегда, но он стеснялся этого страстного своего желания, своей любви, и как мог своё стеснение скрывал, словно побаивался того, что об этом, наверное, неисполнимом желании и о безответной его любви к маме узнают другие.
Какая она была, какая?
В чуть полноватой стати её, в посадке и поворотах головы, в повадках и характере неторопливых движений было что-то от кустодиевских красавиц. Но в памяти лишь сохранился абстрактный образ: без зацепляющих навсегда словечек, улыбок, жестов… без запахов.
Мама даже тогда отсутствовала, когда вдруг гладила по волосам и целовала его, подкидыша, словно возвращала себе навсегда сына, прижималась на миг щекой к щеке, и его пробивала дрожь.
Думала не о сыне, о сцене?
И, отсутствуя, когда бывала дома, присутствовала там — в театре, на гастролях, в студии звукозаписи.
Но почему-то и в свой театр она сына не приводила. Не поверите, он так и не услышал, как она пела в опере, со сцены, прижимая ладонь к сердцу или, словно помогая высвобождению звуков, прижимая обе руки к вздымающейся груди, прохаживаясь меж пышно изукрашенными фанерными декорациями дворцовых зал; да и раз всего он побывал на утреннике в Мариинке, причём не на оперном спектакле, а на балете, как было принято, на «Щелкунчике»; сидел — в кассе ждала именная контрамарка — в первом, литерном ряду, утонув в зеленоватом плюшевом кресле; со сцены, такой близкой и по причине приближённости своей вовсе не сказочной, хотя на ней танцевали пыльные фетровые мыши, несло тошнотворно-сладкой смесью пота и пудры. <…>
Сборник современной черногорской литературы: Павел Горанович
О черногорской литературе современному российскому читателю ничего неизвестно. Где-то там жил Милорад Павич, и у него есть много рассказов о Черногории, но он серб. Где-то там жил Иво Андрич, и он нобелевский лауреат, но хорват, и вообще сам черт ногу сломит в этой балканской чересполосице. Читатели «Прочтения» имеют возможность первыми познакомиться с материалами сборника современной черногорской литературы, выпуск которого инициирован европейским культурным центром Dukley Art Community. В течение нескольких недель мы будем печатать стихи и рассказы, сочиненные в очень красивой стране «в углу Адриатики дикой».
Утраченные рукописи
Не скрою: я пишу ненастоящие,
лживые строки. Процедура
повторяется из текста в текст.
Но иногда можно наткнуться на стихи
с рискованной дозой истины.
Недавно, в поисках совсем других
текстов, среди редких рукописей,
я нашёл такие слова:
«Главные города — те,
что погребены, — не стоит
закладывать новые. Совершеннейшие языки
вымерли — не стоит помышлять о лучших.
Наиважнейшие школы располагались
в запущенных ныне садах.
Самые интересные рукописи утрачены…»
Имеет смысл их открыть. Нам, выжившим
читателям Вавилонской библиотеки.
Головокружение Сёрена Кьеркегора
I
Я — отпрыск тех, кто имел дерзость
примириться с собственным незнанием.
Я — человек с малым достоинством и слишком
очевидными недостатками, незавершённый космос.
Я, Виктор Отшельник, осмелился быть призванным
в срок, когда решаются судьбы искусства.
Проповедую. Объясняю, что не открыл ничего нового,
и всё же на меня смотрят с недоверием.
Утверждаю, что все эпохи окончены,
что все слова давно сказаны.
Всё напрасно — мне ставят в вину самобытность.
В своих поистине убогих размышлениях
я лишь копирую формы, имитирую
понимание. Могу только ожидать
жеста, которым будет вынесен приговор.
IV
Жизнь, открытая мне, равна страданию.
В самом деле, жизнь любого из нас — отзвук
страданий. Не осознавая,
мы переносим их легче, и даже мимоходом тоска
не касается нас, что достойно удивления.
На этой земле я могу быть пригоден лишь к дрожи
и трепету. Я брошен в жизнь и живу как попало.
Себя понять не могу, других — не желаю,
это было бы малопристойно. Я распят
между крайностями. Сам не знаю, за счёт
чего я всё ещё не исчерпал дни свои.
Итак, своё бытие постигнуть я не могу. Более того, и другим
не могу гарантировать, что они существуют здесь и сейчас.
Пребывание в мире подобно любой эмиграции
и всегда влечёт за собой тягостное одиночество. Я вижу это,
когда приписываю себе покрытые пеплом выводы
и упрямо берусь ставить множество вопросов.
Так, впрочем, поступают все старательные новички.
V
Эта жизнь холодна, как тротуар Копенгагена.
Всюду взращивается сиротство, похоже — это ключевая
особенность бытия. Слабое утешение — то, что во все
утраченные времена, под маской других имён, я вопрошал,
какая же истина открыта в ту злосчастную (или счастливую)
ночь, когда Сократ осушил кубок с ядом. С той древнегреческой
ночи, видимо, уже несомненно, что свобода выбора есть.
И мои записи тоже меняются при воспоминании
об этом событии. Надеюсь, никогда слова мои не будут обращены
ad se ipsum*. Все мои речи суть завещание.
Говорю это вам как природный эллин, как человек, отчуждённый
от современности. Когда вам будет представлен текст
моего завещания, судите сами — насколько умело
я преобразовал и описал явления. Если я повторялся,
то делал это умышленно, поскольку в повторах
видел единственный смысл своего творчества. Если цитировал,
значит, исследовал все относящиеся к делу миры.
Я отважился жить — вот мой величайший грех.
* К самому себе (лат.).
VI
Мне знаком звук повозок летними вечерами.
Смысл их движения мне понятен. Предназначение человека
и грех его я тоже познал. Это и есть то,
что оставлено мне, чем ограничена роду людскому
привилегия начинать сначала и находить новый путь. Неким
бумагам — быть может, напрасно, — я придаю значение.
Имею в виду ненаписанные стихи, всё, что не воплощено.
Из атмосферы я впитываю флюиды лирической грусти:
я — поэт, который не пишет стихов!
Ещё я знаю о смирении Сократа,
но никогда не признáюсь в этом.
Слишком скудны наши языки, чтоб мы могли осуществиться,
и всё же кое-кто из нас осмелился приписать миру
свои ничтожные дела. Я и сам веду дневник о сущих пустяках,
парадокс примиряет с жизнью.
Много это или мало — не мне судить.
В основном я писал о стране, о женщине —
это и считайте единственным оставленным мною наследством.
Генеральное наведение порядка
Безусловно, существуют дыры в озоновом слое.
Что будет завтра, тоже по большей части известно.
И то, что эти стихи напечатают, и счёт воскресного матча
команды «Примера дивизион», и целая пригоршня мелких
и крупных фактов, — всё это столь же очевидно. Как
аромат кофе и цвет моего пальто.
Обыденные вещи обладают особой несомненностью,
которой мы часто не принимаем во внимание.
Эту разновидность второстепенной бесспорности я всегда
особенно уважал. Несомненно, что
маленький Джорджи бегло изъяснялся по-английски.
То, что Земля вращается, видимо, бесспорно.
Кроме того, абсолютны многие топонимы, наши имена и
езда по проторённым путям.
Следует говорить лишь об общеизвестных вещах.
О тех предметах, что поэтами не прославлены.
Очевиден страх перед счастьем.
Но смерть — несомненней всего. Её знают одинокие люди
у стоек портье, в холодных гостиничных номерах
и автомобилях. Современники Мартина Хайдеггера.
Как пахнут книги
У всякой книги свой запах,
запах, равный её смыслу,
первому переживанию, связанному с ней.
Как же тогда пахнут книги
на пыльных полках
в забытых домашних библиотеках,
в убыточных книжных лавках столичного города?
Чем попахивает от книг нобелевских лауреатов?
Книги старых мастеров пахнут пергаментом,
исчезнувшими страницами, — может быть, их
не станет, едва мы раскроем выцветшие переплёты.
Эти книги занесены в жёлтые списки.
От книг графоманов разит муками типографских
работников. В рабочих университетах книги
запаха не имеют, обычно они красные и нетронутые.
Как пахнут сочинения моих друзей?
Как пахнут мировые бестселлеры, поваренные книги,
справочники, руководства типа «Искусство концентрации»?
(Не люблю книг, от которых тянет дымом:
тут уже замешаны пороки.) Как пахнут
священные книги, на священных языках мира?
А книги на мёртвых языках?
Книги язычников повёрнуты к солнцу,
они теряют свойства, когда мы к ним приближаемся.
Нейтральных запахов нет.
Собственность книголюба не напоминает
ни об одном запахе,
да и ни об одной книге.
От книг, брошенных в канцеляриях,
веет старыми живописными полотнами.
Чудесней всего благоухают книги
в аргентинской Национальной библиотеке,
причём именно приобретённые после 1955 года.
Не знаю, чем пахнут книги
узников, наверно — сырыми стенами
и прошлым. Как пахнут собрания сочинений классиков?
Как пахли книги, возвращённые
Кнуту Гамсуну? Чем его книги пахнут?
Я чувствую аромат единственной книги,
драгоценный, как знание немецкого языка.
Перевод Андрея Базилевского
Рисовала Милка Делибашич

Павел Горанович родился в Никшиче в 1973 году. Автор нескольких поэтических и прозаических книг, а также исследования о хорватском поэте Тине Ужевиче. Был главным редактором главного черногорского «культурного» журнала ARS. С 2015-го — министр культуры Черногории.
Жорж Перек. W, или Воспоминание детства
- Жорж Перек. W, или Воспоминание детства / Пер. с фр., сост., послесл. и коммент. В. Кислова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 392 с.
В книге собрана автобиографическая проза французского писателя Жоржа Перека. Роман «W, или Воспоминание детства» — уникальный пример совмещения действительности и вымысла: скудная на перипетии история сироты и жертвы холокоста срастается с красочной фантазией о тоталитарном обществе острова W, одной из самых страшных антиутопий XX века. Эссе «Эллис-Айленд» посвящено американскому транзитно-пропускному пункту, через который прошло около шестнадцати миллионов эмигрантов из Европы и описывает символическое место рассеяния и блуждания, испытания и надежды. Сборник дополняют заметки писателя, а также интервью с ним.
Ньокки осени той, или Ответ на несколько затрагивающих меня вопросов*
На другой стороне улицы, у края крыши дома напротив, неподвижно сидят три голубя. Над ними, правее, дымится труба; к дымоходам жмутся озябшие воробьи. Внизу шум улицы.
Понедельник. Девять часов утра. Вот уже два часа, как я пишу этот давно обещанный текст.
Первый вопрос, несомненно, таков: «Почему надо было ждать до последнего момента?» Второй вопрос: «Почему такое название и такое начало?» Третий вопрос: «Почему текст начинается с вопросов?»
Что в этом такого сложного? Зачем начинать с игры слов — в меру заумной, дабы потешить горстку приятелей? Зачем продолжать через описание — в меру псевдонейтральное, дабы все понимали, что я встал рано, поскольку не успеваю и чувствую себя неловко оттого, что не успеваю, хотя — совершенно очевидно — не успеваю только потому, что сама тема последующих страниц вызывает у меня неловкость. Мне неловко. Правильный вопрос: почему мне неловко? Должен ли я оправдываться за то, что мне неловко? Или же мне неловко, потому что я должен оправдываться?
Это может продолжаться очень долго. Литератору свойственно рассуждать о своем бытии и вязнуть в липкой жиже противоречий: проницательность и потерянность, одиночество и солидарность, фразерство об угрызениях совести и так далее. Это продолжается уже много лет и начинает утомлять. Вообще-то, мне это никогда не казалось интересным. Не мне зачинать процесс интеллектуалов, я не собираюсь снова лезть…
Моя задача, наверное, в том, чтобы достичь — не скажу, истины (с какой стати мне знать ее лучше других и, следовательно, по какому праву выступать?) — не скажу и действенности (это проблема между словами и мной), а скорее — откровенности. Это не вопрос этики, а вопрос практики. Это, несомненно, не единственный вопрос, которым я задаюсь, но это, мне кажется, единственный вопрос, который почти постоянным образом оказывается для меня кардинальным. Но как ответить (искренне), если именно искренность я и ставлю под сомнение? Что делать — и в какой уже раз, — чтобы избежать этих зеркальных игр, внутри которых «автопортрет» будет всего лишь каким-то по счету отражением изрядно прореженного сознания, гладко отшлифованного знания, тщательно вышколенного письма? Портрет художника в виде ученой обезьяны: могу ли я сказать «искренне», что я — клоун? Могу ли достичь искренности вопреки пышному и громоздкому аппарату, в глубинах которого последовательность вопросительных знаков, отмеряющая предыдущие параграфы, — это уже давно инвентаризованная фигура (сомнения)? Могу ли я и впрямь надеяться на то, что выкручусь при помощи нескольких более или менее ловко брошенных фраз?
«Способ является частью истины в той же мере, что и результат…» — эту фразу я уже давно тяну за собой. Но мне все труднее верится, что я сумею выкрутиться при помощи девизов, цитат, лозунгов и афоризмов: я уже извел целый арсенал: «Larvatus prodeo», «Я пишу, чтобы себя пройти», «Open the door and see all the people» и так далее, и тому подобное. Некоторым все еще удается меня очаровывать, волновать, они по-прежнему исполнены поучительности, но с ними можно делать что угодно, отбрасывать, подбирать, они обладают всей требуемой от них покорностью.
И все же…
Каков правильный вопрос? Вопрос, который позволит мне действительно ответить, ответить себе? Кто я? Что я? Где я?
Могу ли я измерить пройденный путь? Достиг ли я хотя бы некоторых из поставленных перед собой целей, если я действительно ставил перед собой какие-то цели? Могу ли я сказать сегодня, что я — такой, каким хотел когда-то стать? Я не спрашиваю себя, отвечает ли моим устремлениям мир, в котором я живу, потому что при ответе «нет» у меня все равно не возникло бы ощущения, что я значительно продвинулся. Но соответствует ли моим пожеланиям, моим ожиданиям жизнь, которую я веду?
Сначала все кажется простым: я хотел писать и я писал. В результате этих усилий я стал писателем; сначала и долго я был писателем для себя одного, сегодня — и для других. В принципе, мне нет нужды оправдываться (ни в своих глазах, ни в глазах других): я писатель, это установленный факт, данность, очевидность, определение. Я могу писать или не писать, могу неделями или месяцами ничего не писать, либо писать «хорошо», либо писать «плохо»: это ничего не меняет, это не делает мою писательскую деятельность побочной или дополнительной. Кроме писательства, я не делаю ничего другого (разве что выискиваю время, чтобы писать), я не умею делать ничего другого, я не захотел научиться чему-то другому…
Я пишу, чтобы жить, и живу, чтобы писать, и в какой-то момент я был недалек от того, чтобы вообразить, что письмо и жизнь могли бы полностью слиться. Я жил бы в окружении словарей, в уединении, в какой-нибудь провинциальной глуши; по утрам гулял бы в лесу, пополудни марал бы несколько страниц, а по вечерам мог бы иногда давать себе послабление и слушать немного музыки…
Разумеется, когда возникают подобные идеи (даже если это всего лишь карикатурные идеи), то понимаешь, что следует срочно задать себе несколько вопросов…
Я знаю в общих чертах, как я стал писателем. Но я не знаю точно почему. Неужели, чтобы существовать, мне действительно требовалось строчить слова и фразы? Неужели, чтобы быть, мне требовалось быть автором нескольких книг?
Чтобы быть, я ждал, когда другие меня обозначат, идентифицируют, признают. Но почему через письмо? Могу предположить, что по тем же самым причинам я долгое время хотел стать художником, но стал все же писателем. Почему это было именно письмо?
Имелось ли у меня нечто особенное сказать? Но что я сказал? Речь идет о том, чтобы сказать — что? Сказать, что существуешь? Сказать, что пишешь? Сказать, что ты писатель? Потребность сообщить — что? Потребность сообщить, что есть потребность сообщаться? Что в этот момент происходит общение? Письмо говорит, что оно есть, и ничего другого, и вот мы снова оказываемся в зеркальном дворце, где слова отсылают друг к другу, отражаются до бесконечности, но всегда упираются лишь в свои тени.
Я не знаю, чего именно — начав писать пятнадцать лет назад — я ждал от письма. Но мне кажется, я начинаю осознавать зачарованность, которую письмо вызывало — и продолжает вызывать — у меня, и в то же время провал, который эта зачарованность скрывает и выявляет.
Письмо меня оберегает. Я выступаю под защитой слов, фраз, искусно сцепленных параграфов, хитроумно запрограммированных глав. Я не лишен изобретательности.
Неужели мне все еще требуется защита? А если щит превратится в ярмо?
Когда-нибудь мне все же придется использовать слова для разоблачения действительности, для разоблачения своей действительности.
Вот что сегодня я могу сказать наверняка о своем замысле. Но я знаю, что он полностью осуществится только в тот день, когда — раз и навсегда — мы изгоним Поэта из города. В тот день мы сможем — не шутки ради и впервые запретив себе насмешливость, притворство и деланое геройство — взять кирку или лопату, отбойный молоток или мастерок. Дело даже не в том, что так мы добьемся какого-то прогресса (все, наверное, будет измеряться на другом уровне), а в том, что наш мир наконец начнет освобождаться.
* Во французском названии «Les gnocchis de l’automne ou réponse à quelques questions me concernant» («Осенние ньокки…» или «Осенние клецки…») обыгрывается фонетическое сходство с греческим изречением «γν§θι σεαυτόν» («познай самого себя»). Эта фраза, подсказанная Аполлону «семью мудрецами» и высеченная на храме Аполлона в Дельфах, лежит в основе сократовской теории познания.
Сборник современной черногорской литературы: Илия Джурович
О черногорской литературе современному российскому читателю ничего неизвестно. Где-то там жил Милорад Павич, и у него есть много рассказов о Черногории, но он серб. Где-то там жил Иво Андрич, и он нобелевский лауреат, но хорват, и вообще сам черт ногу сломит в этой балканской чересполосице. Читатели «Прочтения» имеют возможность первыми познакомиться с материалами сборника современной черногорской литературы, выпуск которого инициирован европейским культурным центром Dukley Art Community. В течение нескольких недель мы будем печатать стихи и рассказы, сочиненные в очень красивой стране «в углу Адриатики дикой».
Почему он вынужден был уехать так далеко, чтобы ловить рыбу?
Я уже три часа еду вдоль берега. В течение трех часов я не встретил на встречной полосе ни одной машины. Если бы встретился кто-нибудь, я бы, наверное, повернул руль на сорок пять градусов влево и врезался в того, кто встретился. Но нет, никого нет. Может, потому что воскресенье, или из-за дождя, или потому что в этих местах зимой как будто не бывает людей. Можно повернуть руль на тридцать градусов вправо и соскользнуть в море. Но такой вариант меня не привлекает. Грохот, который производит автомобиль, слетающий с дороги, может привлечь внимание, а в таком случае непременно найдется кто-нибудь, кто вытащит меня. Еду и рассматриваю дворы с левой стороны. Детей во дворах нет. Это из-за нее я покинул квартиру и направился к побережью. Час я добирался до залива и три часа кружил узкими дорогами вдоль воды. Знаю, что это предел. Пора сворачивать на магистраль и ехать к ней. В нашу квартиру. В город, который мы оба любим. Мы вместе уже целую жизнь, и странно, что этого не случилось раньше. Ведь мы так хорошо понимаем друг друга. Нам нравятся одинаковые вещи. Мы оба едим блинчики с вареньем. Она запивает их кофе с молоком, я — молоком. Мы вместе играли во дворе как брат и сестра. Мы никогда не ссорились. Мы всегда были вместе, и я никогда не оставлял ее ради того, чтобы поиграть с мальчишками, а она часто говорила девочкам, что ей больше всего нравится играть со мной. Нас записали в один класс, и мы были счастливы. Мы помогали друг другу, если домашние задания были трудными, или если дети нападали на нее или на меня. С самого начала нас называли женихом и невестой, или близнецами, хотя близнецами мы быть не могли (она на десять месяцев старше). Мы не хотели расставаться. Мама позже страдала, потому что считала нашу неразрывную связь следствием нашего слишком плотного совместного воспитания. Она говорила, что все было бы иначе, если бы нас с самого начала отделили друг от друга. Я бы нашел свою компанию, она — свою, говорила мама. Но мы оба знали, что ничего бы не изменилось. Наши отношения были следствием нашей любви. Когда мама умирала, мы вдвоем ходили к ней в больницу. Мы молча держали ее за руки (я всегда за правую, она — за левую, так было с самого начала), а ее тело корчилось от боли, которую не могли смягчить даже самые сильные седативы, потому что организм сопротивлялся их воздействию, как говорили доктора. После ее смерти мы поступили в вуз, и думали, что это последний общий период жизни. Однако учеба не развела нас. Она училась лучше меня. Она получала удовольствие, глядя на профессоров-стариков, трепещущих перед ней. Им одинаково нравились как ее ум, так и ее тело. Она часто с удовольствием рассказывала об их бесплодных попытках завоевать ее. Она рассказывала об этом, когда мы в кровати готовились к занятиям. Она всегда заканчивала прежде меня, мы ложились валетом. Ее стопы касались моей головы. Ей нравилось, чтобы я массировал ей пятки, пока она рассказывает о профессорах, старающихся соблазнить ее. Я знал, что она не выдумывает, потому что в те годы была очень красивой. Она и сегодня красива, но тот, кто видел ее фотографии, согласен с тем, что она в те годы была самой красивой. Она любила заниматься со мной в кровати. После окончания совместной учебы мы решили посвятить друг другу один год совместной жизни. У нас было достаточно денег, чтобы жить так, как нам хотелось, год не беспокоясь о работе. Год прошел в визитах, в разных вечеринках и в потреблении дорогого алкоголя. В то время мы начали пить крепкие напитки, которые прежде просто не выносили. Мы выбрали виски. С виски мы определились после нескольких нелегких опытов с водкой, текилой и джином. Сначала она думала, что наш напиток — джин. Ей нравилось, что джин имеет вкус сосновых иголок. Само собой разумеется, она никогда не пробовала сосновые иголки на вкус. Она часто придумывала смешные сравнения. Она сказала, что джин имеет вкус ели, которая растет за окном ее комнаты. Эта ель росла во дворе, в котором мы выросли. Причем, это была не ель. Позже, когда я стал выращивать растения на балконе нашей квартиры и что-то в этих растениях понимать, я узнал, что она выросла с видом на Cupressus sempervirens, уверенная в том, что видит в окошке ель. Кипарис был высок и строен, такой, какие можно увидеть только на кладбищах, и, конечно же, она не пробовала на вкус его иголок. Собственно, у кипариса не было иголок, о которых она говорила. Я думал, что джин просто напоминает ей запах кипариса. В конце концов, она отказалась от джина, и перешла на виски. Мы не выбрасывали бутылки. Скопилось больше сотни пустых бутылок, и некоторые из них стоили дороже, чем мы себе могли позволить. Но нас это не волновало. Единственно важным было ощутить во рту вкус соли (она сказала, что вкус доброго виски напоминает вкус моря у берегов страны, в которой она никогда не бывала), а такое наслаждение требует затрат. Так прошел год, которого хватило, чтобы выбросить из головы все, что накопилось в ней за время учебы. Мы освободились от бутылок и посвятили себя поискам работы. Работа стала первым препятствием в нашей жизни. Она не повлияла на наши отношения, но заставила привыкать к ежедневным восьмичасовым расставаниям. Такова была продолжительность ее рабочего дня в фирме, находившейся на расстоянии нескольких километров от моей. Сам я работал иногда по восемь, иногда по шесть часов, в зависимости от объема заданий, и оставался одиноким ровно столько, сколько не видел ее. День начинался с того момента, когда она входила в квартиру. Когда мы стали людьми, работающими за деньги, на совместную жизнь нам оставалось пять-шесть часов в день, которые мы старались использовать самым лучшим образом. Целый год прошел в привыкании тел к новому образу жизни. Поначалу мне казалось, что работа не утомляет меня. Она же приходила с работы усталой, исключительно с желанием лечь в кровать. Но вскоре все изменилось, и уставать стал я, а она начала легче переносить нагрузки. Мы ссорились. У меня не хватало сил жить в ее ритме, но я старался, я не хотел ничего менять. За годы взаимоустаканивания мы успешно синхронизировали привычки. После работы мы готовим обед, который поедаем в столовой. Сидим бок о бок, как в детстве. Если садимся на противоположные стороны стола, то оба чувствуем пустоту. Обед длится полчаса. Мытье посуды расписано между нами по дням и неделям. После обеда переходим в гостиную. Я раскладываю на диване подушки, она в это время варит кофе. Я выбираю телевизионную программу, а она готовит список рассказов, которые мы будем читать после телевизора. Мы оба любим книги. Во время учебы в средней школе мы всерьез подсели на чтение, наш любимый жанр — короткие рассказы. Чаще всего мы читаем в один прием десять рассказов. Первые пять читает она. В течение трех лет нашей адаптации к новым условиям мы придумали игру, которая сделала отдых более занимательным. Игра состоит в том, что один из нас читает, а второй залезает под одеяло и щекочет те части тела, о которых начинает думать, услышав определенное слово или предложение. Виски хорошо идет под рассказы. Щекотание бедра хорошо идет после Вышла купить молока, а щекотание пятки после слова Готово. Однажды я пощекотал ей бок после Молча едем по улице, а еще раз правое колено при чтении того же рассказа после Почему он вынужден был уехать так далеко, чтобы ловить рыбу? Ей нравится быть остроумной, и после каждого Люблю тебя (в наших рассказах так говорят часто, потому что нам нравятся любовные истории) она сильно щекочет мой пупок. Это одна из ее шуток. Игра с чтением рассказов и щекоткой чаще всего продолжается долго, после чего мы выбираем либо прогулку, либо прослушивание музыки перед сном. Она решает, каким будет конец дня. Обычно она выбирает прогулку по парку, потому что ей нравятся парки и ночные прогулки. Но три дня назад все изменилось. Это и стало причиной моего рывка на побережье. Уже полчаса я мчусь по магистрали. На нижней дороге я не встретил ни одной машины, попытка свалиться в море все еще не представлялась мне интересной, и я принял решение спрятаться. По магистрали промчалось несколько машин, но я не захотел врезаться в них. Взял курс на город. Через полчаса я проскочу меж гор. Когда мы вместе приближаемся к городу и включаем фары, то с нетерпением ожидаем, когда перед ними возникнут цепочки огоньков. Ей это нравится, и она всегда в этот момент сжимает мою руку повыше локтя, или же целует в щеку. Особенно мне не хватает чтения. Из-за чтения мы и поругались. Мы договорились, что выбранные места надо щекотать коротко, нежным касанием, и только в том случае, если прочитанное слово или предложение того заслуживают. Правило нежного и короткого щекотания выбранных мест возникло не на пустом месте. Мы ни разу не перешагнули через определенную степень близости. В тот вечер, когда что-то случилось, она читала один из наших любимых рассказов, и она произнесла фразу, которая, по моему мнению, заслуживала щекотания именно того места, которое я пощекотал. Предложение, после которого я пощекотал ее, было Нет, не надо, прошу тебя. Она произнесла эти слова, когда я находился под одеялом, и сразу после прошу тебя пощекотал, коротко и нежно, ее это место. Я смеялся, потому что мне это показалось смешным (наверное, потому что мы не часто щекотали эти места во время чтения), и она повторила это предложение. Вспотев под одеялом, я вновь услышал Нет, не надо, прошу тебя, и опять пощекотал место. Мне показалось, что она хочет этого. Она заговорила громче, и еще несколько раз, с выражением, произнесла эту фразу. Каждое следующее Нет, не надо, прошу тебя вливало новые силы в мои пальцы, и в итоге я против своей воли и вопреки нашему договору, потея и задыхаясь, вставил в это место свой палец. Свет резко ударил по глазам. Она сорвала одеяло и посмотрела на меня взглядом, который мне не нравится. Свет был слишком ярким, я разглядел только абрис лица, в центре которого был темный круг, который прожгла в моем взгляде лампа. Я услышал ее громкое Нет, повторившееся несколько раз. Я знал, что она чувствует то же, что и я. Мы перешагнули границу, и оба поняли это. И поняли, что не можем остановиться, и стало страшно. Я смотрел на нее с другого конца кровати, сжавшись в клубок у ее ног. Я чувствовал себя глупо. Может, потому что я был только в нижнем белье. Или из-за темного пятна, которое проступило между двумя пуговицами на трусах. Я слушал ее рыдание, которое она старалась скрыть, зажав рот ладонью. Так продолжалось целую минуту, после чего она взяла простынь и ушла в другую комнату. Я думал, она вскоре выйдет оттуда, посвежевшая и готовая к разговору. Но она не вышла до утра. Я продремал несколько часов, а когда проснулся, ее уже не было. Впервые она ушла из дома, не разбудив меня. Целых три дня она не разговаривает со мной, потому что знает: случилось то, что должно было случиться. У нас есть только мы сами, и больше никого. У нее до меня не было мужчины, я никогда не был с женщиной. Ничто не может вечно удерживать тело, и я знаю, что она думает точно так же. Я больше не выдержу. Надеюсь, она будет в хорошем расположении духа, и все будет в порядке, когда я приду. Должна же она, наконец, понять. Скоро цепочка красных и желтых полос прорвется меж гор, и город проступит сквозь туман долины. Я выключаю фары. На мгновение закрываю глаза и отдаюсь несущемуся навстречу свету. Огоньки усыпляюще танцуют под веками. Она танцует, только пребывая в хорошем настроении. Или когда мы оба пьяные. Я слышу плавно приближающийся звук клаксона. Я поворачиваю руль на тридцать градусов влево.

Илия Джурович (lija Đurović) родился 9 мая 1990 года в Подгорице. Окончил музыкальную школу, учился на философском факультете в Белграде, работал в черногорской газете «Вести». Малую прозу сочиняет с 2005 года, публикует с 2010-го.
Сью Таунсенд. Ковентри возрождается
- Сью Таунсенд. Ковентри возрождается / Пер. с англ. И. Стам. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 256 с.
Жизнь у Ковентри не задалась с самого начала, как только ее нарекли в честь английского провинциального городка. Нет, у Ковентри все как у людей — милый домик, нудный муж, пристойные детки-подростки. Одним словом, самая заурядная жизнь. Но однажды случается катастрофа — Ковентри убивает гнусного соседа, сама того не желая. И, поняв, что с привычной жизнью покончено раз и навсегда, Ковентри пускается в бега. Этот роман Сью Таунсенд — из золотого запаса английской литературы, истинное сокровище, в котором упрятаны и превосходный юмор, и тонкие наблюдения, и нетривиальные мысли.
1. Вчера я убила человека
Есть две вещи, которые вы должны узнать обо мне немедленно. Первая — я красивая, вторая — вчера я убила человека по имени Джеральд Фокс. И то и другое случайности. Родители мои некрасивы. Отец похож на теннисный мяч, лысый и круглый, а мать — точь-в-точь пила для хлеба — тонкая, зубастая, а язык — как бритва. Я никогда их особенно не любила, подозреваю, что и они меня не больше.
Да и Джеральда Фокса я не настолько любила или ненавидела, чтобы его убивать.
Зато я люблю своего брата Сидни и знаю, что он меня тоже любит. Мы вместе смеемся над Теннисным Мячом и Хлебной Пилой. Сидни женат на унылой женщине по имени Руфь. Прежде чем заговорить, Руфь вздыхает, а сказав, что хотела, вздыхает снова. Вздохи у нее вместо знаков препинания. Сидни от жены просто голову потерял; ее меланхоличность его очень возбуждает. Детей у них нет, да они их и не хотят. Руфь говорит, что жизнь слишком уж пугает ее, а Сидни не желает ни с кем делить перепуганную Руфь. Если погода жаркая, они занимаются любовью семь раз в неделю, а то и чаще, а когда уезжают за границу, то редко выходят из номера в гостинице. О своей семейной жизни Сидни рассказывает мне почти все, проявляя при этом необыкновенную стыдливость, как только речь заходит о деньгах. «Нет, нет, давай не будем об этом», — с содроганием говорит он, наотрез отказываясь обсуждать финансовые вопросы.
Он тоже живет в городе, где мы оба родились, и работает управляющим в магазине электротоваров; он большой мастер навязывать фотоаппараты, проигрыватели компакт-дисков и портативные цветные телевизоры людям, которым все это не по карману. Работа у Сидни ладится, потому что он, как и я, красив. У него такая улыбка, что покупатели не в силах устоять. Их завораживает глубина его темно-карих глаз и пушистость его длинных ресниц. Подписывая кредитное обязательство, они любуются его руками. Когда он говорит, что тот предмет длительного пользования, который им так нужен и который они только что оплатили, будет доставлен лишь недели через две, они пропускают это мимо ушей. Забыв обо всем на свете, они внимают его берущему за душу, вкрадчивому, с пленительной хрипотцой, голосу. Из магазина уходят ошеломленные. Одна женщина все махала Сидни рукой, пятясь к дверям, и в конце концов угодила прямиком на багажник мотоцикла; тот провез ее ярдов пятнадцать, а потом сбросил в кювет. Все, кто находился в магазине, выбежали ей на помощь, но только не Сидни: он остался охранять выручку.
У Сидни очень холодное сердце. Сам он никогда не страдал, и его раздражают страдания других людей. Он отказался смотреть новости по телевизору «с тех пор, как там без конца стали показывать этих проклятых голодающих». Однажды я спросила его, чего бы ему в жизни хотелось. «Ничего, — ответил он, — у меня уже есть все». Ему тогда было тридцать два. Я спросила: «Но что же ты будешь делать дальше, в оставшиеся до смерти годы?» Он засмеялся и сказал: «Зарабатывать деньги, да побольше, и покупать на них вещи, да побольше». Мой брат невыносимо практичен. Он не знает, что вчера я убила человека. Сейчас он отдыхает на вилле в Португалии, в провинции Алгарви, и не подходит к телефону.
Сидни — единственный в мире человек, который не будет шокирован тем, что меня ищет полиция. Мой брат — человек отнюдь не строгих правил, и я почти рада этому: такие люди — большое утешение в трудные минуты.
У меня необычное имя: Ковентри. В день, когда я родилась, мой отец как раз был в Ковентри. Он привез грузовик песку к месту бомбежки. «Слава богу, что его не послали в какой-нибудь Гигглзуик», — повторяла моя мать не меньше трех раз в неделю. Ничего более похожего на шутку она не сказала за всю свою жизнь.
Сидни тоже назвали в честь города. Отец увидел в журнале «Всякая всячина» фотографию моста через сиднейскую гавань и влюбился в него. Он знал и его вес, и длину, и даже как часто его красят.
Когда я подросла, я долго ломала голову: с чего это он нас так окрестил? Глядя на отца холодными глазами подростка, я видела, что он одуряюще скучен и начисто лишен фантазии.
Само собой, мы с Сидни всегда ненавидели свои имена. Я мечтала о каком-нибудь бесцветном имени — вроде Пат, Сьюзен или Энн, а Сидни хотел, чтобы его звали Стив. Впрочем, каждый мужчина из тех, кого я знаю, всегда хотел, чтобы его звали Стив.
Так вот. У меня необыкновенное лицо, тело и имя, но, к несчастью, я вполне обыкновенная женщина, без каких-либо заметных талантов, без влиятельных родственников, без дипломов, без какого бы то ни было опыта работы и без собственных средств. Вчера у меня были муж и двое детей-подростков. Сегодня я одна, я в Лондоне, я спасаюсь бегством и у меня нет с собой сумочки.
2. Вечер в пивном баре
Они давно сидели в пивном баре, Ковентри Дейкин и ее подруги. Дело происходило в понедельник вечером. Ковентри было совсем невесело. Когда она уходила из дома, ее муж Дерек повысил на нее голос. Сам он собирался на Ежегодное пленарное собрание Общества любителей черепах и считал, что Ковентри должна посидеть с детьми.
— Но, Дерек, им уже шестнадцать и семнадцать лет, вполне можно оставить их одних, — прошептала Ковентри.
— А что, если к нам вдруг ворвется шайка хулиганов, изобьет до смерти Джона и изнасилует Мэри? — зашипел Дерек.
Оба они считали, что в присутствии детей спорить нельзя, поэтому ушли препираться в сарай для черепах. Снаружи быстро темнело. Во время последней тирады Дерек сорвал с грядки кустик салата и теперь, аккуратно отщипывая листья, скармливал их своим любимым черепахам. Ковентри слышала, как щелкают друг о друга их панцири, когда черепахи устремились к его руке.
— Но, Дерек, у нас и в помине нет хулиганских шаек, — сказала она.
— Эти бандиты имеют машины, Ковентри. Они приезжают из густо населенных кварталов и выбирают богатые дома на окраине.
— Да ведь у нас скромный муниципальный район.
— Но мы же собираемся купить собственный дом, так?
— И откуда твои хулиганы, набившиеся в машину, узнают об этом?
— По дверям и окнам в георгианском стиле, которыми я заменил прежние. Но если тебе непременно хочется оставить Джона и Мэри одних, без всякой защиты, то пожалуйста. Иди развлекайся со своими вульгарными подружками.
Ковентри не стала защищать подруг, потому что они и впрямь были вульгарны.
— Мне, во всяком случае, претит мысль о том, что ты сидишь в пивной.
Дерек надулся; в темноте Ковентри видела его выпяченную нижнюю губу.
— А ты гони эту мысль. Сосредоточься на своих скользких черепахах. — Она почти кричала.
— Черепахи вовсе не скользкие, и ты бы это знала, если бы заставила себя потрогать разок хоть одну.
Между мужем и женой повисло долгое молчание, нарушавшееся лишь на удивление громким хрустом, который издавали пирующие черепахи. От нечего делать Ковентри принялась читать их имена, которые Дерек каллиграфически вывел светящейся краской на панцире у каждой особи. Руфь, Наоми, Иаков и Иов.
— А разве им еще не пора впадать в спячку? — спросила она у мужа.
Это было больное место. Уже прошло несколько морозных дней, но Дерек все оттягивал горестный миг. По правде говоря, он очень скучал по черепахам в долгие зимние месяцы.
— Предоставь мне решать, когда именно им пора впадать в спячку, хорошо? — сказал Дерек. А про себя подумал: «Надо завтра по дороге с работы прихватить соломы».
Дерек волновался за своих любимцев. Очередное катастрофически неудачное лето совсем отбило у них аппетит, подкожного жира почти не осталось, и шансы на то, что они очнутся после долгого зимнего сна, очень сократились. Он попытался было кормить черепах насильно, но перестал, когда у них появились явные признаки душевной угнетенности. Теперь он ежедневно их взвешивал и записывал вес каждой в специальную тетрадь. Он винил себя в том, что раньше не заметил их истощения, хотя как он мог его распознать сквозь толстые панцири, и сам не знал. У него же не рентгеновский аппарат вместо глаз, правда?
— Ну-с, прошу. — Дерек распахнул перед Ковентри дверку сарая.
Она протиснулась в узкую щель, избегая его касаться, и, ступая по темной влажной траве, на которой летом резвились черепахи, пошла к дому.
Пивной бар, где сидела Ковентри с подругами, назывался «У Астера». Он был переоборудован заново в стиле голливудской продукции тридцатых годов, когда в кино блистал Фред Астер* . Оформитель пивного заведения распорядился снять вывеску «Черная свинья», висевшую над входом, убрал массивные деревянные столы и удобные скамьи. Теперь любителям пива приходилось сгибаться в три погибели над розовыми кофейными столиками с хромированными ободками. Их большие зады, не помещаясь, свисали с крошечных табуретов, обитых розовой синтетикой. В новом виде пивная походила на довоенный голливудский ночной клуб, но завсегдатаи упрямо цеплялись за свои простецкие привычки: отвергая все попытки навязать им коктейли, они предпочитали потягивать пиво, пусть даже из высоких стаканов.
Официантов обрядили в костюмы под Фреда Астера, но те прощеголяли в них первую неделю, потом взбунтовались, не в силах больше терпеть неудобства от цилиндров, крахмальных воротничков и фраков, и влезли в привычную одежду. Грета, весившая шестнадцать стоунов** и служившая барменшей в «Черной свинье» с тех пор, как окончила школу, отказалась от должности в первый же вечер после открытия обновленной пивной. Она едва дождалась конца рабочего дня.
— Ну и видок у меня был — ни дать ни взять задница в цилиндре, — сказала Грета уже на улице.
— Это уж точно, Грета, — подтвердил один из завсегдатаев, истосковавшийся по заманчивой ложбинке между грудями в вырезе Гретиного платья.
Дереку понадобилось целых пять минут на то, чтобы устроить Руфь, Наоми, Иакова и Иова на ночь, и еще несколько минут — чтобы запереть окна и дверь сарая на все засовы и замки. Черепахи теперь животные редкие и ценные, кража черепах стала в Англии явлением вполне заурядным. Поэтому Дерек рисковать не желал. Он не представлял, что будет делать, если у него украдут любимый черепаший квартет. Мало того, что он их обожает, — у него не хватило бы средств восстановить поголовье. Когда он вернулся в дом, то обнаружил, что Ковентри его не послушалась и ушла в пивную.
— Извините, мне необходимо уйти, сегодня Ежегодное собрание, — объяснил он равнодушно внимающим детям. — Вы без нас тут управитесь?
— Конечно, — ответили они.
Когда за Дереком захлопнулась дверь в георгианском стиле, дети открыли бутылку отцовского вина, настоянного на цветах бузины, и с бокалами в руках уселись смотреть полупорнографическую киношку под названием «Грешные тела».
* Знаменитый танцор, звезда американской эстрады и кино 1930–1940-х годов. — Здесь и далее примеч. перев.
** Более ста килограммов.
Михаил Эпштейн. Ирония идеала: парадоксы русской литературы
- Михаил Эпштейн. Ирония идеала: парадоксы русской литературы. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 385 с.
Русская литература склонна противоречить сама себе. Книга известного литературоведа и культуролога Михаила Эпштейна рассматривает парадоксы русской литературы: святость маленького человека и демонизм державной власти, смыслонаполненность молчания и немоту слова, Эдипов комплекс советской цивилизации и странный симбиоз образов воина и сновидца. В книге прослеживаются «проклятые вопросы» русской литературы, впадающей в крайности юродства и бесовства и вместе с тем мучительно ищущей Целого. Исследуется особая диалектика самоотрицания и саморазрушения, свойственная и отдельным авторам, и литературным эпохам и направлениям. Устремление к идеалу и гармонии обнаруживает свою трагическую или ироническую изнанку, величественное и титаническое — демонические черты, а низкое и малое — способность к духовному подвижничеству.
ЯЗЫК И МОЛЧАНИЕ КАК ФОРМЫ БЫТИЯ 1. Тишина и молчание Молчание обычно толкуется как отсутствие слов и противопоставляется речи. Людвиг Витгенштейн, заканчивает свой «Логико-философский трактат» известным афоризмом: «6.54. О чем невозможно говорить, о том следует молчать»1. «Wovon man nicht sprechen kann, dar uber mub man scheigen». Молчание начинается там, где кончается речь. Здесь выражено присущее логическому позитивизму стремление отделить наблюдаемые «атомарные» факты и доказуемые, «верифицируемые» суждения, от области так называемых метафизических тайн. О последних нельзя производить логически состоятельных суждений — и поэтому следует молчать.
Но верно ли, что молчание и слово исключают друг друга? Парадокс в том, что само построение витгенштейновского афоризма, параллелизм его частей, объединяет молчание и говорение и тем самым ставит под сомнение то, что хотел сказать автор. «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Значит, у молчания и речи есть общий предмет. Именно невозможность говорить о чем-то делает возможным молчание о том же самом. Молчание получает свою тему от разговора — уже вычлененной, артикулированной, и молчание становится дальнейшей формой ее разработки, ее внесловесного произнесения. Если бы не было разговора, не было бы и молчания — не о чем было бы молчать. Разговор не просто отрицается или прекращается молчанием — он по-новому продолжается в молчании, он создает возможность молчания, обозначает то, о чем молчат.
Молчание следует отличать от тишины — естественного состояния беззвучия в отсутствие разговора. Предмет еще не выделен, пребывает, так сказать, в именительном падеже, еще не встал в предложный падеж, чтобы стать темой разговора — или молчания. Нельзя сказать «тишина о чем-то», или «быть тихим о чем-то» — тишина не имеет темы и не имеет автора, она, в отличие от молчания, есть состояние бытия, а не действие, производимое субъектом и относящееся к объекту. Кратко это различие выразил М. Бахтин: «В тишине ничто не звучит (или нечто не звучит) — в молчании никто не говорит (или некто не говорит). Молчание возможно только в человеческом мире (и только для человека)» 2.
О том же различии свидетельствует лингвистический анализ Н.Д. Арутюновой: «глагол молчать… предполагает возможность выполнения речевого действия» 3. Про немого или иностранца, не владеющего данным языком, обычно не говорят, что они «молчат», это предикат относится только к существу, способному говорить, а значит, само молчание принадлежит виртуальной области языка. Выбор между речью и не-речью — это скрытый акт речи.
На различении тишины и молчания построен рассказ Леонида Андреева «Молчание»: после самоубийства дочери вся тишина, какая только есть в мире, превращается для ее отца-священника в молчание, которое давит и преследует его, поскольку выражает нежелание дочери ответить на вопрос, почему же она бросилась под поезд, выбрала смерть. «Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят». И потом, придя на могилу дочери, отец Игнатий «ощутил ту глубокую, ни с чем не сравнимую тишину, какая царит на кладбищах, когда нет ветра и не шумит омертвевшая листва. И снова о. Игнатию пришла мысль, что это не тишина, а молчание. Оно разливалось до самых кирпичных стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город. И конец ему только там — в серых, упрямо и упорно молчащих глазах» — в глазах его погибшей дочери, которая накануне самоубийства отказалась отвечать на вопросы отца и матери о том, что мучило ее4.
Хотя внешне, акустически молчание тождественно тишине и означает отсутствие звуков, структурно молчание гораздо ближе разговору и делит с ним интенциональную обращенность сознания на что-то. Как говорил Гуссерль, сознание есть всегда «сознание-о». Молчание есть тоже форма сознания, способ его артикуляции, и занимает законное место в ряду других форм: думать о…, говорить о…, спрашивать о…, писать о…, молчать о… Влюбленные могут говорить, а могут и молчать о своей любви. Еще в древности ту же мысль о «словности» и смыслонаполненности молчания выразил Аполлоний Тианский, греческий мистик-неопифагореец: «молчание тоже есть логос» 5.
Можно так перефразировать заключительный афоризм витгенштейновского «Трактата»: «О чем невозможно говорить, о том невозможно и молчать, потому что молчать можно только о том, о чем можно и говорить». Или, формулируя предельно кратко, «молчат о том же, о чем и говорят». То, о чем невозможно говорить, пребывает в тишине, а не в молчании, как не-предмет, не «о».
Отсюда тенденция осознавать тишину, которая доходит до нас из прошлого, как молчание о чем-то, невысказанность чего-то, хотя сами вопросы, о которых молчит прошлое, часто исходят именно от настоящего. Например, «молчание» Древней Руси, о которой с недоумением и болью пишут русские мыслители ХХ века, скорее всего было просто тишиной, предсловесностью. Лишь после того как реформы Петра развязали России язык, подарили ей новую интенциональность образованного, светского разговора и изящной словесности, допетровская эпоха стала восприниматься как молчаливая. Как отмечает Георгий Флоровский в «Путях русского богословия» (1937), «с изумлением переходит историк из возбужденной и часто многоглаголивой Византии на Русь, тихую и молчаливую. <…> Эта невысказанность и недосказанность часто кажется болезненной» 6. Об этом же писал Георгий Федотов в статье «Трагедия древнерусской святости» (1931): «Древняя Русь, в убожестве своих образовательных средств, отличается немотой выражения самого глубокого и святого в своем религиозном опыте» 7. Словесные эпохи, да еще такие многоглаголивые, как русский ХХ век, осмысляют тихие времена как молчаливые, вкладывая в них свою интенцию говорения и вместе с тем не находя в них никакого воплощения этой интенции.
2. Слово как бытие Итак, при всей противоположности слова и молчания они рождаются из одного интенционально-смыслового поля и в предельных случах обратимы. Порой создается ситуация, при которой «слово ничего не говорит», а «молчание говорит все» или «слово говорит о том же, о чем молчит молчание». Символом этой традиции может служить русская икона первой половины XVIII века «Иоанн Богослов в молчании» 8. На иконе мы видим Иоанна Богослова, левой рукой открывающего свое Евангелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть…» Правая рука Иоанна Богослова поднесена к устам и как бы налагает на них знак молчания.
На первый взгляд, смыслы этих жестов прямо противоположны: одна рука открывает «Слово», другая призывает его утаивать. Но суть в том, что на высшем уровне слово и молчание взаимообратимы: о чем Иоанн говорит в своем писании, о том же он и молчит своими устами. Когда молчание и слово говорят об одном и том же, сказанное приобретает двойную значимость9. Именно потому, что «Слово было Бог», оно требует молчания и произносится в молчании. «Всевышний говорит глаголом тишины» (Ф. Глинка).
Отсюда и основополагающее для восточнохристианской мистики и аскетики «умное делание»: непрерывное внутреннее произнесение молитвы, которая приводит ум в состояние полного безмолвия. Исихазм (буквально «безмолвие»), учение, возникшее среди афонских монахов в XIV веке, — это, в сущности, и есть дисциплина умолкания-через-говорение, т.е. произнесение такого внутреннего молитвенного Слова, которое есть само бытие и исключает внешнюю речь, действие языка. Слово, через которое «все начало быть», очевидно, само является бытием. Оно не сообщает о чем-то, находящемся вне слова, оно не информативно, а формативно. В дальнейшем мы будем различать эти две функции слова: формативную и информативную. Очевидно, то Слово-Логос, которым Бог сотворил мир согласно библейской Книге Бытия — это формативное слово. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт., 1:3). «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так» (Быт., 1:9). Слово, которое «сказал Бог», не сообщает о свете, о воде и суше, как если бы они уже существовали, но само творит все эти начала мироздания, как и то Слово-Логос, о котором говорится в начале Евангелия от Иоанна. Когда же словом впервые начинает пользоваться человек, в его устах оно приобретает другую, назывательную функцию. Господь приводит к человеку все сотворенные существа, «чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым…» (Быт., 2:19–20). Те существа, которым человек дает имена, существуют независимо от этих имен. Слово Бога творит мир, слово человека сообщает о мире.
Очевидно, что человеческий язык, в контексте этих библейских представлений, несет прежде всего информативную — назывательную, именовательную — функцию, сообщая о мире, находящемся за пределами языка. Но нельзя отнять у языка и формативную функцию, особенно ясно выступающую в «священном языке», на котором человек обращается к Богу и сам как бы уподобляется Богу. Таков язык заклинания и молитвы, цель которых — не сообщать о каких-то явлениях, но вызывать сами явления.
1 Витгенштейн Л. Философские работы, ч. 1. М.: Гнозис, 1994. С. 73.
2 Бахтин М.М. Из записей 1970–71 годов // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 338.
3 Арутюнова Н.Д. Феномен молчания // Язык о языке / Под общ. рук. и ред. Н.Д. Арутюновой. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 418.
4 Андреев Л. Избранное. М.: Современник, 1982. С. 82, 87.
5 Цит. по кн.: Brown N.O. Love’s Body. N.Y.: Vintage Books, 1966. P. 256.
6 Прот. Флоровский Г. Пути русского богословия (1937). Париж: YMCA PRESS, 1988, 4-е изд. С. 1, 503.
7 Федотов Г.П. Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. СПб.: София, 1991. Т. 1. С. 307.
8 Икона хранится в Иркутском художественном музее. Я сужу о ней по репродукции, изданной Иркутским отделением Российского фонда культуры (ВРИБ «Союзрекламкультура», 1990).
Известно, что Евангелие от Иоанна считается самым сокровенным, «тайноведческим» из всех евангелий и именно поэтому мистически связанным с православием — в том же ряду символических соответствий, где преемственность церковной власти сближает ап. Петра с католичеством, а свобода богословского исследования сближает ап. Павла с протестантизмом.9 Письменное слово вообще предполагает молчание, вбирает его в себя и именно поэтому подлежит толкованию, «договариванию» того смысла, который в нем сокрыт.
Ричард Л. Брандт. В один клик
- Ричард Л. Брандт. В один клик. Джефф Безос и история успеха Amazon.com / Пер. с англ. И. Ющенко. – М.: Карьера Пресс, 2015. – 272 с.
Издательство «Карьера Пресс» выпустило историю успеха основателя Amazon.com Джеффа Безоса, который из фрика-программиста превратился во влиятельного интернет-предпринимателя нашей эпохи. Автор книги «В один клик» американский журналист Ричард Л. Брандт в первую очередь показывает, как характер и способ мышления отдельного человека могут повлиять на создание выдающейся бизнес-стратегии, меняющей условия рынка.
Глава 2 Портрет предпринимателя в молодые годы
<…>От рождения Джефф отличался умением глубоко сосредотачиваться на любом деле. В школе Монтессори,
где он проучился первые классы, он так глубоко погружался в любое предложенное ему задание, что, для того
чтобы переключить его, учителям приходилось уносить
его за другой стол вместе со стулом. Предпринимательская цепкость была у него в крови.
Мать и дед поощряли рано возникший у Джеффа интерес к технике и к возне с электронными устройствами
и приборами. «Подозреваю, что наша семья спасла от
банкротства не один магазин электроники», — вспоминала она позже. Джефф часами возился в гараже —
разбирал и собирал радиоприемники, строил роботов,
конструировал экспериментальные штуковины. Однажды он решил попробовать готовить еду с помощью
солнечной энергии и обернул остов зонтика алюминиевой фольгой, а допотопный пылесос чуть не стал у него
машиной на воздушной подушке. Оберегая свою приватность, он собрал устройство, которое подавало сигнал всякий раз, когда в его комнату пытались забраться
младшие брат с сестрой.
Впервые о будущей профессии он заговорил в шесть
лет. Вероятно, под влиянием жизни на «Лейзи Джиз», он избрал стезю археолога. «Причем, прошу заметить,
это было еще до фильмов об Индиане Джонсе».
Когда Джеффу пришла пора идти в детский сад, семья переехала в Хьюстон. Несколько лет спустя родители записали мальчика в программу для одаренных детей
Vanguard начальной школы «Оукс Элементари». До
школы умников приходилось ездить по двадцать миль
в один конец. Сегодня школа с гордостью называет Безоса (а также журналистку Линду Эллерби и Джона Грея,
автора книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»)
в числе своих выпускников.Да, Безос был запойным читателем. А может быть, так
в нем очень рано начала проявляться страсть к победе —
в четвертом классе он ввязался в школьное соревнование, участники состязались в том, кто больше прочтет за
год книг, получивших премию Ньюбери. Джефф одолел
три десятка томов (больше всего ему понравилась «Трещина во времени» Мадлен Л’Энгл), но на первое место
выйти не смог. В этой школе запоем читали все.Кроме того, в школе Безос впервые открыл для себя
программирование. От хьюстонского производителя
школа получила терминал (персональных компьютеров
в те годы еще не было), а неизрасходованное время его
работы отдавала мейнфрейму компании-производителя. Терминал соединялся с мейнфреймом посредством
акустического телефонного модема с рычагом, на который полагалось класть трубку, чтобы установить соединение. Вместе с компьютером прибыл том инструкций
по его запуску, но никто в школе не знал, как подступиться к задаче. Джефф вместе с несколькими учениками оставался после уроков, штудировал инструкции и
разбирался в основах программирования, однако через
неделю прелесть новизны угасла, а на мейнфрейме обнаружилась примитивная игра по мотивам сериала «Звездный путь». С этого момента на компьютере школьники
только играли. Каждый выбрал себе одного из персонажей сериала, и Безос, как большинство его друзей-«ботаников», выбрал старшего помощника Спока. В качестве запасного варианта у него шел капитан Кирк. Если
бы этих героев ему заполучить не удалось, он согласился
бы на роль корабельного компьютера.Однажды в школу приехала писательница Джули
Рэй. Она писала для местного издательства руководство
«Как разбудить талант: обучение одаренных детей в Техасе» (почему-то на Amazon.com этой книги нет) и хотела увидеть, как устроена школьная жизнь. Ей нужно
было несколько умных детей, чтобы проследить за их
обычным школьным днем. Одним из таких детей стал
Безос, в книге получивший имя Тим.Больше всего писательницу поразила история об
устройстве, которое называлось Куб Бесконечности —
из тех штук, которые школы для одаренных детей покупают, чтобы побудить смышленого ребенка задуматься.
Куб был выстелен зеркалами, которые были подсоединены к моторчикам и все время меняли угол наклона.
Любой помещенный в куб предмет многократно отражался в бесчисленном множестве зеркал, отражения
складывались в узор, и все вместе производило впечатление взгляда в бесконечность. Джефф обожал смотреть,
как работает куб, и мечтал раздобыть себе такой же. Но
мама решила, что двадцать долларов за игрушку — это
многовато, поэтому Джефф стал делать куб самостоятельно. Он купил зеркала, подключил их к моторам —
все в точности как в Кубе Бесконечности. Как он объяснил журналистке: «Понимаете, всегда кто-нибудь вам
скажет, какую кнопку нажать. — И добавил: — Надо же
и самому думать… своей головой».В своей книге Рэй назвала «Тима» «дружелюбным,
но серьезным» мальчиком «с выдающимся интеллектом». Правда, отметила она, по мнению учителей мальчик «не слишком одарен в области лидерских качеств».Возможно, причина заключалась в том, что Джефф
был «ботаником», не нуждался в компании и предпочитал развлекаться в одиночку. Подобно многим «ботаникам» двадцатого века, он любил засесть у себя в комнате
или в библиотечном зале с книжкой в руках, блуждая по
мирам, созданным воображением писателей-фантастов.
Он перечитал всех классиков от Роберта Хайнлайна до
Айзека Азимова, от Фрэнка Герберта до Рея Брэдбери.
Большинство книг в «маленьком подобии Центра Карнеги» — библиотеке Котуллы — были пожертвованы
местными жителями, среди которых нашелся любитель
научной фантастики, одаривший библиотеку полной ее
подборкой.Еще Джеффу нравилось читать о Томасе Эдисоне и
Уолте Диснее — двух предпринимателях, которым он
мечтал подражать. В интервью, которое он дал некоммерческой организации Academy of Achievment, которая
стремится знакомить студентов с «величайшими мыслителями и наиболее успешными людьми эпохи», Безос
вспоминал: «Я всегда интересовался изобретателями
и изобретениями». Эдисона он почитал как «величайшего изобретателя», а Диснея — как «настоящего
первопроходца и изобретателя», который «мыслил так
масштабно, что встать на его пути не мог никто — в отличие от Эдисона, многие работы которого оказались погублены. Дисней сумел собрать вокруг себя множество людей, которые объединили силы для достижения общей
цели». Самым тяжелым ударом для Джеффа стала утрата
читательского билета, которого он лишился за слишком
громкий смех в библиотеке. «Это было ужасно неудобно». А вообще он не боялся наказаний, потому что, когда мама в качестве наказания велела ему посидеть у себя,
он запирался в комнате и вволю читал.Чтобы научить Джеффа общаться с другими детьми,
родители записали его в футбольную команду молодежной лиги — футбол в Техасе крайне популярен. Невысокий тонкокостный Джефф с трудом удовлетворял
требованиям, касавшимся веса игроков, и мать боялась,
что его «затопчут». Но если лидерских качеств Джеффу и недоставало, он с лихвой восполнял недостающее
за счет интеллекта. Всего за две недели он запомнил,
какой игрок чем должен заниматься, запомнил, кто из
одиннадцати его товарищей по команде играет в атаке, а кто — в обороне, и тренер приставил способного
мальчика к делу, назначив его капитаном защиты.Когда Джеффу было тринадцать, его семья переехала в Пенсаколу (Флорида), а еще полтора года спустя —
в Майами. Едва ступив на порог старшей школы «Майами Пальметто», находившейся в пригороде Майами
Пайнкресте и считавшейся одной из лучших школ города, он тут же сообщил одноклассникам, что намерен
стать лучшим выпускником. Те поверили, подивившись
его уму, воле к победе и уверенности. «С ним всегда
было невероятно интересно», — вспоминает его школьный товарищ Джошуа Вайнштайн.Первая летняя работа, которую нашел на каникулах
Джефф, едва ли была из тех, что призваны изменить
мир, — Джефф жарил картошку и котлеты в «Макдоналдсе». Но, даже стоя над фритюром и помешивая
кипящее масло, Джефф подметил, что надо бы последить за усовершенствованиями, появляющимися
в результате автоматизации макдоналдсовских кухонь.
Позже он заметил: «Наконец-то картошка стала сама
выскакивать из масла. Большой технический прорыв,
между прочим!»В первый год учебы в Пайнкресте Джефф познакомился с Урсулой (или Уши) Вернер. Окончив школу,
Джефф и Урсула решили, что пришла пора поработать на
себя самих. Они придумали собственный бизнес, двухнедельный учебный летний лагерь для пятиклассников,
назвав его DREAM Institute (это расшифровывалось
как Directed REAsoning Methods — «методы целенаправленного мышления»). Они брали по 150 долларов
с человека и рассказывали своим подопечным об ископаемом топливе и его добыче, о межзвездных перелетах
и о перспективах колонизации космоса, о черных дырах
и электрическом поле, а также о таких совершенно загадочных вещах, как телевидение и реклама. Как говорилось в их собственных рекламках, которые Джефф печатал для родителей на матричном принтере, начинающие
предприниматели «показывали, как важно мыслить
по-новому в давно исхоженных областях».История об их лагере попала в газеты. Как-то
в среду в июле 1982 года репортер газеты Miami Herald
явился к Джеффу домой, чтобы посмотреть, как идут
занятия в лагере. Посещавшие лагерь Кристина, Марк,
Говард, Меррелл и Джеймс, как обычно, в девять утра
собрались у Джеффа в спальне («комфортабельное помещение, ковровое покрытие»). В тот день они читали
отрывки из «Путешествий Гулливера» и «Обитателей холмов» и три газетные статьи (о треске, гибнущей
из-за загрязнения океанов, об иностранной политике
президента Рейгана и о распространении ядерного оружия). Потом Джефф коротко рассказал о компьютере
Apple II, который был у его семьи. Во время обсуждения «Путешествий Гулливера» один из мальчиков,
Джеймс, спросил — если лилипуты были такие маленькие, а Гулливер — такой большой, то, наверное, чтобы
его обезглавить, им пришлось бы работать несколько
поколений подряд?жефф и Уши прекрасно справлялись с работой.
Детям эти занятия очень нравились. Джеймс, будущий
пятиклассник, сказал, что им рассказывают «обо всяких здоровских штуках, ну правда здоровских. Мы уже
проходили черные дыры в космосе, и звезды… и что
одна чайная ложка вещества, из которого сделана нейтронная звезда, весит десять миллиардов тонн». Он сказал репортеру, что лагерь нравится ему больше школы.
«В школе учишься за оценки. Когда эти оценки зарабатываешь, на тебя как будто давят со всех сторон». Меррелл, девочка из той же группы, сказала, что ей нравится
неофициальная обстановка в лагере. «Учителя можно звать не мистер Безос, а просто Джефф, — сказала
она. — Это как будто тебя старший брат учит».Джефф и Уши гордо заявляли, что всего за две недели
могут открыть своим ученикам «новые способы мышления». «Мы не просто рассказываем детям о том и о
сем, — говорил Джефф. — Мы стараемся, чтобы они
применяли свои знания на практике». Уши добавляла, что они решили учить пятиклассников потому, что
«в этом возрасте они очень творческие, и к тому же уже
умные — могут понять, как устроен мир». Кроме того,
как заверили репортера Джефф и Уши, они избегали
ошибки, которую делают многие учителя, которые недооценивают способности учеников. «Их надо встряхнуть, чтобы они решили, что могут больше, чем им кажется», — сказала Уши.Уши была на год старше Джеффа, но они были словно созданы друг для друга. Оба окончили школу первыми учениками. Уши получила полную стипендию
в университете Дьюка и стипендию Родса. Джефф еще
в школе посещал занятия по Студенческой программе
естественных наук при университете Флориды, завоевал
Национальную стипендию за успехи в учебе, три года
подряд получал награду как лучший ученик в области
естественных наук и дважды — в области математики.
На спонсируемом газетой Miami Herald престижном
конкурсе Silver Knight, к участию в котором допускались студенты старших классов, Джефф завоевал приз за
естественные науки.Больше всего он хотел пойти по стопам деда и повторить его путь в области космических исследований.
В 2003 году, уже разбогатев, Безос объявил о том, что
финансирует программу Blue Origin, в рамках которой
туристы смогут подняться до границы атмосферного слоя. Корреспонденту журнала Wired Безос сказал
так: «Весь мой интерес к космосу объясняется тем, что
в пять лет я попал под влияние NASA».В старших классах эссе Безоса под названием «Влияние нулевой гравитации на скорость старения обычной домашней мухи» принесло ему победу на конкурсе
NASA. (Правда, в эссе нет ни слова о том, каким образом муха угодила в нулевую гравитацию.) В качестве награды Безоса привезли в Космический центр Маршалла
в Хантсвилле (Алабама) и устроили ему экскурсию. Мог
ли поклонник «Звездного пути» хотеть большего?Перспектива космических путешествий захватила
Джеффа с головой. Научная фантастика была для него
не развлекательным чтением, а средством, помогавшим
устремить мысль в будущее. Произнося речь на выпускном вечере (этой чести он был удостоен как лучший
выпускник), Джефф призвал к колонизации космоса,
заявив, что такова судьба человечества. А когда люди переселятся на другие планеты, Землю можно будет «сохранить» и превратить в национальный парк. Безос
сказал, что мечта стать космонавтом шла у него сразу за
желанием стать археологом.Правда, когда в 2001 году корреспондент журнала
Time спросил, когда Безос заинтересовался компьютерами, тот ответил: «Это была моя любовь с четвертого
класса». Рудольф Вернер, отец Уши, за которой Джефф
ухаживал в школьные годы, позже вспоминал, что увлечение Джеффа космосом было частью большого плана.
«Он говорил, что будущее человечества лежит за пределами нашей планеты, ведь с человечеством всегда может
что-нибудь случиться, так что космический корабль нам
бы очень пригодился». Уши даже шутила, что Джефф
хотел стать миллиардером только затем, чтобы купить
собственную космическую станцию. Когда корреспондент журнала World спросил Безоса, есть ли у него на самом деле столь амбициозная цель, Безос сначала рассмеялся, но потом ответил серьезно: «Я бы не прочь в этом
поучаствовать. Потому что сейчас мы держим все яйца в
одной корзине».ак это часто бывает со школьными романами, связь
Джеффа и Уши распалась, когда они отправились учиться в колледж. Потом Уши вернулась в Дьюк, а Джефф
отправился в Принстон, намереваясь сделать блестящую карьеру в науке.Поговаривают, что в Принстоне Джефф обнаружил,
что не может быть лучшим всегда и во всем, и потому с изучения физики переключился на компьютеры. По крайней мере, много лет спустя в интервью журналу Wired
Джефф заметил, что квантовая механика положила конец его интересам как физика. Вдруг выяснилось, что он
не может быть лучшим по всем предметам. «Принстон
дал мне понять одну важную вещь: я недостаточно умен,
чтобы быть физиком», — говорил он в редкие моменты смирения. (Правда, это не помешало ему вступить
в принстонскую группу «Студенты за исследование и
развитие космоса».)На самом деле, по всей видимости, передумал он где-то после окончания школы, но до поступления в колледж, потому что в июне 1982-го, когда Джефф только-только выпустился из старших классов, газета The
Miami Herald опубликовала статью о лучших выпускниках школ Флориды. В этой статье говорится, что
Джефф намерен изучать электромеханику и бизнес-администрирование в Принстоне — собственно, так оно
и вышло. Он получил степень в области компьютерного
инжиниринга и электромеханики.К компьютерам он питал особую любовь. Джефф-«ботаник» обожал программирование. Он говорил,
что в Принстоне «записывался на все компьютерные
курсы и не только выучился взламывать компьютеры,
но и узнал кое-что об алгоритмах и математических основах программирования. Это было ужасно интересно,
захватывающе и просто здорово».В других интервью Безос не раз говорил о любви
к компьютерам. «Мне всегда легко давалось программирование. Я умел обращаться с компьютерами — потрясающая это все-таки штука. Их можно научить делать что
угодно, и они это станут делать. Компьютеры — самый,
наверное, поразительный механизм двадцатого века».Изучая компьютеры, Джефф накопил столько высших оценок, что средний балл в его аттестате был 4,2,
а самого Джеффа приняли в общество «Фи Бета Каппа». Для дипломной работы Джефф создал компьютерную систему, вычислявшую последовательности
ДНК, — так генетики ищут расхождения в последовательностях нуклеотидов. Впрочем, тот же самый метод
применяется и в программировании для поиска вариаций в программах и данных, в том числе финансового
характера.Дождавшись каникул, Джефф немедленно принялся
применять свои таланты программиста. Летом 1984 года
его отца, сотрудника Exxon, со всей семьей на время перевели в Норвегию. Джефф поехал с родителями и все
лето работал в Exxon программистом — разрабатывал
компьютерную модель мейнфрейма IBM 4341, которому
предстояло рассчитывать суммы, уплачиваемые компанией за нефтедобычу. На следующее лето Джефф отправился
в Силиконовую долину и поступил в Исследовательский
центр Санта-Тереза (Сан-Хосе), которым владела IBM.
Позднее Безос в своем резюме хвастался, что переписал
весь компьютерный интерфейс IBM, причем отведено на
это было четыре недели, а он управился за три дня.Мало кто помнит какие-либо подробности о принстонских годах Безоса — разве что с учебой не связанные. Он был членом Квадрангла — клуба едоков, председателем которого был Дэвид Ришер, позже занявший
в компании Amazon пост руководителя коммерческой
службы. Но все, что помнит Ришер о Безосе-студенте, —
что тот любил играть в пив-понг, игру, в которой полагалось загнать шарик для пинг-понга в кружку пива, а потом это пиво выпить.Романов у Джеффа почти не было — возможно,
принстонские девушки просто не любили пив-понг.
Сам Джефф объяснял свою сдержанность в романтическом плане так: «Понимаете, я не из тех, о ком через
полчаса после знакомства говорят: «Ах, он такой, такой!» Я немного, ну, тормоз, и… в общем, вряд ли какая-нибудь женщина на меня посмотрит и закричит: «Ах,
этого человека я искала всю жизнь!»И. Дж. Чичилниски, еще один соученик Джеффа, видел его едва ли не каждый день, но сегодня может вспомнить только, что Безос был «умным, целеустремленным
и организованным человеком». Правда, он таки произвел на Чичилниски достаточно сильное впечатление,
чтобы тот рекомендовал Безоса своей матери, Грасиэле
Чичилниски, когда та стала подыскивать толковых молодых компьютерщиков для своей новой компании, работающей в области сетевых коммуникаций. Компания
называлась Fitel. Она стала отправной точкой стремительной карьеры молодого компьютерщика.
Сергей Костырко. Дорожный иврит
- Сергей Костырко. Дорожный иврит. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 248 с.
Новая книга критика и прозаика Сергея Костырко, имеющего долгий опыт невыездной советской жизни, представляет путешествие по Израилю. Главы писались в течение семи лет — сначала туристом, захотевшим увидеть библейские земли и уверенным, что двух недель ему для этого хватит, а потом в течение шести лет ездившим сюда уже в качестве человека, завороженного мощью древней культуры Израиля и энергетикой его сегодняшней жизни.
<…>
6 ноября
12.12 (в кофейне)Утро было чуть потеплее, чем накануне. Проглядывало солнце.
Плавалось хорошо. Даже заплатил за лежак под зонтом. То
есть расположился с комфортом. Снимал. Единственное, что
донимало, это работающий на полную мощность транзистор
мужика через два от меня лежака: мужик балдел от русского
рэпа.Все та же проблема — затормозиться, не спешить. Не думать,
что буду делать через час-два, а через час-два, делая запланированное, не думать, что я буду делать после, и уже заранее
приноравливаться к этому «после». И так до бесконечности.
Научиться жить здесь и сейчас.Выбеленная голубизна неба с легкой дымкой.
Сижу в кофейне за последним столиком, сбросив шлепанцы
и грея вытянутые на песок подошвы под солнцем. Передо
мной — серо-желтый взрыхленный песок, уплотняющийся
вдали в бледно-желтую раскаленную полосу пустыря между
пляжами. Протянутый дальше взгляд студится сине-сиреневой с добавлением зеленцы жесткой поверхностью моря.
Над ним черта горизонта. Хотя нет. Не черта. То есть не
штрих и не тонкая линия. И даже не тончайшая натянутая
нитка. Это обрез — между жесткой плотью моря и нежной
голубизной неба.Из звуков: воркование двух гуляющих вокруг моих ног голубей, влажный шелест волн, похожий на плеск листьев.
И еще — рокот вертолета, крик детей, клекот зонта и листьев
моей записной книжки под ветром.Записи ни о чем. Просто физиологическое проживание пейзажа и скольжения по бумаге шарика моей ручки, оставляющего
за собой вот этот след.7 ноября
15.11 (в Яффе)Утром солнце. Много плавал. Видел Мириам. Договорились,
что в следующий четверг она проведет меня к себе на занятия
в университет.Поехал в Яффу на блошиный рынок. Километры старинных
улиц, заложенных бытовым мусором, который время превращает — на моем уже веку — в антиквариат. Деревянные
кровати, кофры, семисвечники, молитвенники в переплетах,
инкрустированных камешками; утюг с угольным подогревом,
похожий на тупую морду зубатой рыбины; металлические
кувшины с узкими длинными горлышками, керамические
штофики, джезвы, подносы, бронзовые ступы, настольные
лампы, абажуры, люстры, кальяны, вышивки в застекленных
рамках и т.д. и т.д.Даже представить не могу, какой длины получился бы свиток
с полным инвентаризационным списком выложенного здесь
на продажу.Отдельно, внутри этих кварталов, рыночек в несколько рядов
с развешенной секонд-хэндовской одеждой, проходя сквозь
который, чувствуешь себя внутри тесно набитого платяного
шкафа. Мне сюда вообще соваться бессмысленно — это место
для востроглазой Маши Галиной.Ну а для меня — ковры, расстеленные прямо на тротуарах,
и лавки, забитые картинами в рамах. Холсты неведомых
никому художников пятого-шестого ряда, стоящие у входов
в магазинчики, из мглы которых светит настольная электрическая лампа, и свет ее дотягивается до картин, сложенных
в штабеля. Ближневосточный ремейк гоголевского «Портрета». Слюнки капают от вожделения — заторчать бы в такой
лавке часа на два — на три, перекладывая, рассматривая,
смакуя, но — неловко: я не покупатель.Крупная надпись с цифрами 50% при входе, то есть скидка
на пятьдесят процентов — интересно, от какой цены? Или
вот у этой осевшей пены существует некий общепринятый
прейскурант? в качестве приманки у входа в магазин зимний
пейзаж с альпийской, надо полагать, каменной избушкой на
склоне горы с заснеженными деревьями. Рядом в старой облупленной раме графика а-ля «Захаров 60-х годов». И еще три
летних пейзажа, явно писанных в прошлом веке, но — под
старину, с ядреной зеленью деревьев и такой же пронзительной синевой обязательного водоема.У другой лавки портрет сидящей балерины — тщательно,
по-брюлловски, но с машковской плотоядностью проработаны обнаженные плечи, вздымающийся из пачки верх груди
и, естественно, обнаженные ноги. И тут же на небольшой
подставке три «рисунка Ильи Зверева», в девяностые годы
бывшие обязательной принадлежностью ассортимента чуть
ли не каждого художественного салона Москвы. Отличались
только ценой; скажем, на аукционе в «Гелосе» «Зверев» выставлялся и по сто долларов, и по две-три тысячи. Разницу
в уровне работ сразу не определишь. «По три тысячи — это
атрибутированный Зверев», — дипломатично объясняла мне
искусствовед Надя из «Гелоса». То есть, переводя на общеупотребительный язык, подлинный. Зверев сегодня — это
индустрия. Каждый набивший руку профессионал способен
тиражировать его ставшую салоном стилистику до бесконечности. И вот он я стою на улице Яффы и рассматриваю здешних «Зверевых». Зверев — он и в Яффо Зверев.Книги и виниловые пластинки. Нормально. То есть книга
постепенно превращается в винил. В снобистскую позу интеллектуала.Суетно. Тупеешь от изобилия цвета, фактуры, звуков, запахов
и т.д. Невозможно сосредоточиться для записывания даже вот
так, вроде как спокойно расположившись за столиком уличной кофейни. Всемирный секонд-хэнд, вынесенный волнами
еврейской эмиграции (или репатриации, как правильно?) со
всех концов Европы, Азии, Африки и, если верить каким-то
мексиканским сувенирным поделкам под индейский быт,
Америки. Правда, с преобладанием все-таки ашкеназского —
российские свистульки, чешский фарфор, немецкие гобелены.
Это абсолютно еврейский рынок, и не только из-за того, что
здесь на каждом шагу предлагают мезузу, минору, Тору и т.д.,
а из-за этих вот гуляющих по рынку сквозняков галута.Нет, Яффа — это уже не вполне арабский город, как представлял я себе, читая про историю Тель-Авива: собственно Тель-Авив изначально возник как еврейский пригород
арабской Яффы. в прошлом году я вылетал отсюда в Москву
днем и увидел Яффу из самолета — оказалось, что она уже
целиком внутри Большого Тель-Авива: с одной стороны — сам
Тель-Авив, почти безбрежный, с другой — Бат-Ям, тоже не
сказать что небольшой пригород, а там еще Холон, Рамат-Ган,
Бней-Брак, Гиватаим и т.д. И, сидя за столиком, я пытаюсь
определить на глазок соотношение проходящих мимо харедимных евреев и женщин в джаляби и платочках. Получается
примерно поровну, основная же масса уже сливается в некий
космополитический поток.Разговор с ташкентскими евреями, отцом и сыном (в фалафельной на рынке). Отец спросил, где лучше — в Москве
или в Тель-Авиве? Здесь у меня сын в охранниках, он просто
дежурит, то есть ничего не делает и — 1600 шекелей. Считай
задарма. А в Москве как? Далее отец начал вспоминать про
свой душевный покой при Брежневе: «А здесь нас все время
пугают по телевизору — то террористами, то засухой, то бедуинами, то войной с арабами. Создают исключительно нервную
жизнь. И вожди здесь какие-то мелкие, не то что наш Сталин.
Нет, в советское время мы жили счастливо».Изданные в «НЛО» «Дневники» Гробмана я научился читать
только на третий или четвертый год своего израильского
гостевания, после того как немного освоил реалии здешней
жизни, насмотрелся в разных семейных архивах черно-белых
и выгоревших цветных фотографий, сделанных нашими репатриантами в первые годы своего здесь пребывания, ну и, соответственно, войдя во множество эмигрантских сюжетов.
Вчера у Гробманов я предложил им тему отдельного номера
«Зеркала», по аналогии с тем, что делают нью-йоркский
«Новый журнал» и владивостокский «Рубеж» — «вступление
в эмиграцию», и именно на материалах 1970-х годов. Это
может быть безумно интересным как сюжет взаимопроникновения культур русско-советской, которую привезли даже
самые независимые и отвязные, и, скажем так, культуры западно-восточной, израильской.— Ты наивный, — сказали мне Гробманы. — Никакого взаимопроникновения не произошло. Наши все закаменели в том
времени, из которого приехали. Они до сих пор живут в своем
«советском гетто».Ну да, конечно, — Радио Рэка. Слушаю его, как отзвук старинной жизни с теми 70–80-х годов эстрадными певцами,
бардовскими песнями и советским клокотанием в голосах
пенсионеров, звонящих на студию с вопросами: почему им
не предоставляется то-то и то-то и почему вокруг них такой
«бардак».Поразительно провинциальный уровень литературно-критических текстов обнаружил вдруг в газете «Вести».
— Господи, а ведь когда-то для этой газеты писал Гольдштейн!
— Нет, Гольдштейн писал для нас. А для «Вестей» он делал
разные интервью. То есть и редакция, и читатели газеты не
очень понимали, с кем имеют дело.Все так, в новом «Зеркале» републикация статей Гольдштейна
конца семидесятых, которые он писал для гробмановской
газеты «Знак времени». Разбег перед книгой «Расставание
с Нарциссом», сделавшей Гольдштейна знаменитым в России,
и только в России. Я помню, как в 1999 году сошлись на высочайшей оценке этой книги враждебные литературные лагеря,
оформившиеся вокруг премий «Букер» и «Антибукер», —
Гольдштейн стал одновременно лауреатом и той и другой
премии; но, судя по рассказам Наума и Иры, на положении
его в Израиле это не отразилось никак.23.20 (наверху, в мастерской)
Вечером — клуб «Биробиджан». Пошли втроем — Валера,
Ира и я.Основатель (или один из основателей) клуба художник Макс
Ломберг. Название клуба — ход сильный. Биробиджан
в Израиле, может быть, самое галутное, да еще с советским
привкусом слово — несостоявшаяся еврейская родина на
Дальнем востоке в СССР, возможно с элементом советского
пионерского энтузиазма: Палестина на промерзшей заболоченной восточной окраине сибирской тайги. Место для
ссылки раскулаченных русских крестьян из Приморья, куда,
кстати, в 1930 году коммунисты-односельчане выслали моих
дедушку с бабушкой и четырехлетней мамой из-за брата
Афанасия, у которого дедушка работал в батраках. Но если
судить по историческим материалам, у советских евреев даже
был какой-то энтузиазм. Вот все это для нынешних израильтян
«галутное», память о национальном унижении, а Ломберг взял
и сделал названием продвинутого клуба.Шли пешком. Теплый, почти парной воздух, блеск огней
казался маслянистым. Прошли почти всю Алленби. Угловое
здание на перекресточке. Никаких вывесок, темно-серая
железная дверь с тротуара. Небольшой зальчик, темно,
светится экран. На ощупь нашли свободные места. Мне
досталось место под кондишеном. Ледяной холод сверху.
На экране строем шагают молодые люди. Потом фрагменты
танцев. Перемежается фрагментами интервью, которые дают
сидящие перед камерой молодые люди. Текст произносится
на иврите с английскими субтитрами. К тому ж фильм заканчивался. Зажгли свет. Зал небольшой, с антикварной
люстрой под потолком. Заполнен целиком. Средний возраст
собравшихся — около тридцати. К экрану вышла девушка.
Что-то начала говорить на иврите задумчиво-застенчиво,
интеллигентно. Похоже на то, что спрашивает, будут ли
вопросы. Вопросов не было. Зал также застенчиво молчал.
Она ушла. Свет погас. Начался другой фильм. Обнаженный
мужчина в ванне. Пар от воды. Мужчина погружается в воду.
Капающая кровь. Потом — квартира, девушка. Сидят за столом. Свечи. Режут торт. Крупно нож и кусочки торта. Красное
вино течет в бокалы, капает на стол. Мужчина уже одетый.
Потом тот же стол, но — разоренный, на фоне распахнутого
в черную ночь окна. Как если бы он еще раз покончил с собой, выбросившись в окно. Но опять стол полуразоренный.
Стулья. Снято сверху. Потом опять девушка, опять мужчина.
Их напряженные взгляды. Горит торт, горит крутящаяся на
проигрывателе пластинка, звучит голос девушки. Ну и так
далее. Титры.Я дождался, когда включат свет, и выбрался на улицу.
Домой шел пешком.
<…>
Нейт Сильвер. Сигнал и шум
- Нейт Сильвер. Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие нет / Пер. П. Мироновой. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. — 608 с.
Аналитик Нейт Сильвер стал известен в 2000-х годах предсказаниями результатов соревнований по бейсболу, а затем и политических выборов. На президентских выборах в США в 2008 году ему удалось, основываясь на оценке данных опросов, верно предсказать победителя в 49 из 50 штатов, а на выборах 2012 года он показал абсолютный результат, предсказав победителя в каждом из 50 штатов и округе Колумбия. В данный момент Нейт Сильвер ведет блог FiveThirtyEight в New York Times.
Глава 2
КТО УМНЕЕ: ВЫ ИЛИ «ЭКСПЕРТЫ*» ИЗ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ? Для многих людей выражение «политический прогноз» практически стало синонимом телевизионной программы McLaughlin Group, политического круглого стола, транслируемого по воскресеньям с 1982 г. (и примерно с того же времени пародируемого в юмористическом шоу Saturday Night Live). Ведет эту программу Джон Маклафлин, сварливый восьмидесятилетний человек, предпринимавший в 1970 г. неудачную попытку стать сенатором США. Он воспринимает политические прогнозы как своего рода спорт. В течение получаса в передаче обсуждаются четыре-пять тем, при этом сам Маклафлин настойчиво требует, чтобы участники программы отвечали на совершенно различные вопросы — от политики Австралии до перспектив поиска внеземного разума.
В конце каждого выпуска McLaughlin Group наступает время рубрики «Прогнозы», в которой каждому участнику дается несколько секунд, чтобы выразить мнение по тому или иному актуальному вопросу. Иногда они имеют возможность выбрать тему самостоятельно и поделиться своим мнением о чем-то, весьма далеком от политики. В других же случаях Маклафлин устраивает им своего рода неожиданный экзамен, на котором участники должны дать так называемые вынужденные прогнозы и ответить на один конкретный вопрос.
На некоторые вопросы Маклафлина — например, назвать следующего претендента на место в Верховном суде из нескольких достойных кандидатов — сложно ответить. На другие намного проще. Например, в выходные перед президентскими выборами 2008 г. Маклафлин спросил у участников, кто одержит верх — Джон Маккейн или Барак Обама?.
Казалось, что ответ на этот вопрос не заслуживает длительного размышления. Барак Обама опережал Джона Маккейна практически в каждом национальном опросе, проводимом после 15 сентября 2008 г., когда банкротство Lehman Brothers привело к одному из самых сильных спадов в экономике со времен Великой депрессии. Также Обама вел по результатам опросов почти в каждом колеблющемся штате: Огайо, Флориде, Пенсильвании и Нью-Гемпшире — и даже в тех нескольких штатах, где демократы обычно не выигрывают, таких как Колорадо и Виргиния. Статистические модели, наподобие той, что я разработал для FiveThirtyEight, показывали, что шансы Обамы на победу в выборах превышают 95 %. Букмекерские конторы были менее конкретны, однако все равно оценивали шансы Обамы как 7 против 1.
Однако первый участник дискуссии, Пэт Бьюкенен, уклонился от ответа. «В этот уик-энд свое слово скажут неопределившиеся», — заметил он, вызвав смех остальных участников круглого стола. Другой гость, Кларенс Пейдж из газеты Chicago Tribune, сказал, что данные кандидатов слишком «близки друг к другу, чтобы делать ставки». Моника Кроули из Fox News была упрямее и заявила, что Маккейн выиграет с перевесом «в пол-очка». И лишь Элеанор Клифт из Newsweek констатировала очевидное мнение и предсказала победу Обамы и Байдена.
В следующий вторник Обама стал избранным президентом. Он получил 365 голосов выборщиков против 173, отданных за Джона Маккейна, — результат, практически совпавший с предсказанным на основании опросов и статистических моделей. Хотя это и не убедительная историческая победа, все равно это был не тот случай, когда трудно предсказать результаты выборов — Обама обогнал Джона Маккейна почти на десять миллионов голосов. И казалось бы, что всем, кто делал противоположные прогнозы, следует объясниться.
Однако через неделю, когда те же участники McLau ghlin Group собрались снова, ничего подобного не произошло. Они обсуждали статистические нюансы победы Обамы, его выбор Рама Эмануэля в качестве главы администрации и его отношения с президентом России Дмитрием Медведевым. Никто не упомянул о неудачных прогнозах, сделанных на национальном телевидении, невзирая на массу свидетельств обратного. Скорее, участники передачи попытались сделать вид, что исход был полностью непредсказуемым. Кроули сказала, что это был «необычный год» и что Маккейн провел ужасную предвыборную кампанию, забыв упомянуть, что сама хотела сделать ставку на этого кандидата неделей ранее.
Специалистов по прогнозированию редко стоит судить по одному-единственному прогнозу, но в данном случае можно сделать исключение. За неделю до выборов единственная правдоподобная гипотеза, позволявшая поверить в победу Маккейна на выборах, заключалась в массивном всплеске расовой враждебности по отношению к Обаме, почему-то не замеченной в ходе опросов. Однако подобную гипотезу не высказал ни один из экспертов. Вместо этого они, казалось, существовали в альтернативной вселенной, в которой не проводятся опросы, отсутствует коллапс экономики, а президент Буш все еще более популярен, чем Маккейн, рейтинг которого стремительно падает.
Тем не менее я решил проверить, не был ли данный случай аномальным. Насколько вообще умеют предсказывать участники дискуссии McLaughlin Group — люди, получающие деньги за свои разговоры о политике?
Я оценил достоверность примерно 1000 прогнозов, сделанных в последней рубрике шоу как самим Маклафлином, так и участниками его передачи. Около четверти из них или были слишком расплывчатыми, что не позволяло их анализировать, или касались событий в отдаленном будущем. Все остальные я оценивал по пятибалльной шкале, варьировавшейся в диапазоне от абсолютно ошибочных до полностью точных.
С таким же успехом участники шоу могли бы подбрасывать монетку. 338 их прогнозов были неточными — либо полностью, либо в значительной степени. Точно такое же количество — 338 — оказалось верными полностью или в значительной степени (табл. 2.1).

Кроме этого, ни одного из участников дискуссии — даже Клифта с его точным прогнозом итогов выборов 2008 г. — нельзя было выделить как лучшего среди остальных. Я рассчитал для каждого участника показатель, отражавший долю их личных верных индивидуальных прогнозов. Наиболее часто принимающие участие в обсуждении — Клифт, Бьюкенен, покойный Тони Блэнкли и сам Маклафлин — получили почти одинаковую оценку от 49 до 52 %, что означало, что они могли с равным успехом дать как верный, так и неверный прогноз [7]. Иными словами, их политическое чутье оказалось на уровне любительского джазового квартета, состоящего из парикмахеров. <…>
Но что можно сказать о тех, кому платят за правильность и тщательность исследований, а не просто за количество высказываемых мнений? Можно ли считать, что качество прогнозов политологов или аналитиков из вашингтонских мозговых центров выше?
Действительно ли политологи лучше «экспертов»? Распад Советского Союза и некоторых других стран Восточного блока происходил невероятно высокими темпами и, учитывая все обстоятельства, довольно упорядоченным образом**.
12 июня 1987 г. Рональд Рейган, стоявший перед Бранденбургскими воротами, призвал Михаила Горбачева разрушить Берлинскую стену. И тогда его слова казались не менее дерзкими, чем обязательство Джона Ф. Кеннеди отправить человека на Луну. Рейган оказался лучшим пророком: стена рухнула менее чем через два года.
16 ноября 1988 г. парламент Республики Эстония, государства размером со штат Мэн, заявил о суверенитете Эстонии, то есть о ее независимости от всемогущего СССР. Менее чем через три года Горбачеву удалось отразить попытку переворота со стороны сторонников жесткой линии в Москве, а затем советский флаг был в последний раз спущен перед Кремлем; Эстония и другие советские республики вскоре стали независимыми государствами.
Если постфактум падение советской империи и кажется вполне предсказуемым, то предвидеть его не мог практически ни один ведущий политолог. Те немногие, кто говорил о возможности распада этого государства, подвергались насмешкам. Но если политологи не могли предсказать падение Советского Союза — возможно, самого важного события в истории конца XX в., — то какой вообще от них прок?
Филип Тэтлок, преподаватель психологии и политологии, работавший в то время в Калифорнийском университете в Беркли, задавал себе именно такие вопросы. В период распада СССР он организовал амбициозный и беспрецедентный проект. Начиная с 1987 г. Тэтлок принялся собирать прогнозы, сделанные обширной группой экспертов из научных кругов и правительства по широкому кругу вопросов внутренней политики, экономики и международных отношений.
Тэтлок обнаружил, что политическим экспертам было довольно сложно предвидеть развал СССР, поскольку для понимания происходившего в стране нужно было связать воедино различные наборы аргументов. Сами эти идеи и аргументы не содержали ничего особенно противоречивого, однако они исходили от представителей разных политических направлений, и ученые, бывшие сторонниками одного идеологического лагеря, вряд ли могли так легко пользоваться аргументацией оппонентов.
С одной стороны, непосредственно от Горбачева зависело довольно много, и его желание реформ было искренним. Если бы вместо того, чтобы заняться политикой, он предпочел стать бухгалтером или поэтом, то Советский Союз мог бы просуществовать еще несколько лет. Либералы симпатизировали Горбачеву. Консерваторы же мало верили ему, а некоторые из них считали его разговоры о гласности простым позерством.
С другой стороны, критика коммунизма консерваторами была скорее инстинктивной. Они раньше остальных поняли, что экономика СССР разваливается, а жизнь среднего гражданина становится все более сложной. Уже в 1990 г. ЦРУ рассчитало — причем неверно, — что ВВП Советского Союза примерно в два раза меньше, чем в США (в расчете на душу населения, что сопоставимо с уровнем демократических в настоящее время государств типа Южной Кореи и Португалии). Однако недавно проведенные исследования показали, что советская экономика, ослабленная длительной войной в Афганистане и невниманием центрального правительства к целому ряду социальных проблем, была примерно на 1 трлн долл. беднее, чем думало ЦРУ, и сворачивалась почти на 5 % в год с инфляцией, темпы которой описывались двузначными цифрами.
Если связать эти два фактора воедино, то коллапс Советского Союза было бы легко предвидеть. Обеспечив гласность прессы, открыв рынки и дав гражданам больше демократических прав, Горбачев, по сути, наделил их механизмом, катализирующим смену режима. А благодаря обветшавшему состоянию экономики страны люди с радостью воспользовались представленной возможностью. Центр оказался слишком слаб, чтобы удержать контроль, и дело было не в том, что эстонцы к тому времени устали от русских. Русские и сами устали от эстонцев, поскольку республики-сателлиты вносили в развитие советской экономики значительно меньше, чем получали из Москвы в виде субсидий.
Как только к концу 1989 г. в Восточной Европе начали сыпаться костяшки домино — Чехословакия, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Восточная Германия, — Горбачев, да и кто-либо еще вряд ли смогли бы что-то сделать, чтобы предотвратить этот процесс. Многие советские ученые осознавали отдельные части проблемы, однако мало кто из экспертов мог собрать все кусочки головоломки воедино, и практически никто не был способен предсказать внезапный коллапс СССР. <…>
* В данном случае автор использует слово «pundit», которое переводится не только как «эксперт», «ученый», «аналитик», но и является ироническим обозначением «теоретиков», пытающихся научно объяснить события на финансовых рынках, в экономике.
** Из всех революций в Восточном блоке в 1989 г. лишь одна, в Румынии, привела к значительному кровопролитию.