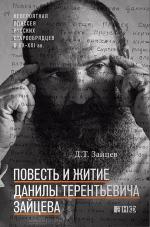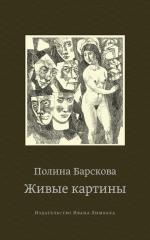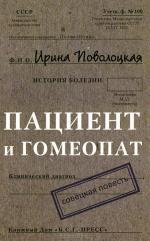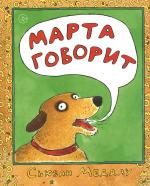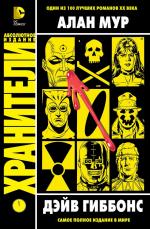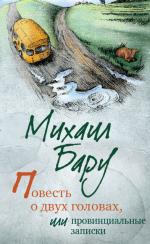- Данила Зайцев. Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015. — 708 с.
Данила Зайцев – русский старообрядец-часовенный из Аргентины, родившийся в 1959 году в Китае. В его «Повести…» отражена история многих старообрядческих родов, их бегства из большевистской России в Китай, а оттуда – в Южную Америку. В центре повествования – жизнь автора и его семьи, с подробным рассказом о неудавшейся попытке переселения в Россию в 2008-м. Зайцев пишет о непростых отношениях в общинах: возникающих ссорах, недопонимании и личных трагедиях. Но в центре книги – повседневная жизнь русских людей, следующих стародавним заветам, ради соблюдения которых они готовы переносить страдания, нищету и лишения.
ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ 1 ПРЕДКИ моего отца. Прадед Сергей Зайцев из Томска, прозвища кержаки. Хто и в како время выехали из Керженса1, не знаю. Дед Мануйла Сергеявич родился в Томске в 1898 году, в 1906 году переехали в Горный Алтай, а в 1918 году переехали в деревню Надон.
Предки моего отца с материнной стороны. Прадед Агап Пантелеяв из Алтая, Бухтармы. Баба Федора Агаповна родилась в 1903 году, в 1919 году переехали в деревню Надон, и в тем же году вышла замуж за деда Мануйла. В 1921 году родилась Елена, 10 апреля 1922 года родился тятя Терентий Мануйлович. Баба Федора родила шестнадцать детей, но в живых остались семеро: Елена, Терентий, Капитолина, Григорий, Харитинья, Александра и Прокопий.
Семья Зайцевы были умеренно религивозны. Весёлы, голосисты, музыканты, в доме водилась гармонь, балалайка. Вели жизнь спокойну, жили в достатках, имели скота, сеяли зерно, были хорóши рыбаки и охотники, жили умирённо, не захватывали и не завидовали, к религии относились благожелательно, но не аскетами, хотя деда Мануйла брат Егор был наставником. Жили очень дружно и весело, в деревне имели дружбу со всеми, и за ето их любили, часто их дом был забит гостями, играла гармонь и балалайка, и пели песни.
Предки моей матери. Прадед Корнилий Захарьев, по прозвищу кержаки. В како время выехали из Керженса — неизвестно, как попали в Алтай — не знам. Мой деда Мартивьян Корнилович родился в 1902 году в деревне Чинкур. Предки моей материнной стороны. Прапрадеда Иларивон Шутов с Урала, потом стали называть Шутовскя заимка, а впоследствии переименовали в Шутовские заводы. Был очень богат и очень религивозной, соблюдал все заповеди Господни, был добр и милостив. Но смерть его страшна и чудна. Когда пришли красны к власти, раскулачили и нашего прапрадеда. Казнили как могли, вырезали ремни, жгли, били, топили, издевались, томили в тюрме. Бог знат что только ни делали, и в консы консах2 повели их на расстрел. Поставили их к стене, дали команду «огонь». После выстрела все пали, а наш прапрадеда Иларивон как стоял, так и стоит. Подошли, в упор ишо выстрелили — он всё стоит. Подбежал старшина, хотел сашкой зарубить. Сашка переломилась — он всё стоит. Все обезумели. Он попросил пить. Подали ему напиться, он пивнул трижды, вообразил на себе крестное знамя, ляг и скончался. Ето всем было ужасно.
Прадед Савелий Иларивонович скитался со своей семьёй и как-то попал в Алтай, деревню Чинкур. Наша баба Евдокея Савельевна родилась в 1905 году, в Чинкур попала девкой, от 1924 по 1926 год. Попали зимой — голодны, холодны, оборванны, настрадавшись, обратились к прадеду Корнилию Захарьеву за помощью. Захарьевы жили по-богатому. Прадед был очень религивозной аскет, но не милостив, за любую провинку детей избивал до полусмерти. Деда Мартивьян был старший, от все етих побояв получился травмирован, стал полудикóй и боялся всего. Даже, когда приходили из моленной, прадед спрашивал, какоя сегодня было поучения, у детей поочерёдно. Увы, ежлив подробно не расскажет!
Вот прадед Савелий Иларивонович когда обратился к прадеду Корнилу, тот посмотрел на семью и сказал: «Отдашь Кейкю за Мартьянку — помогу, нет — как хошь». Родители погоревали, потужили. Что делать? Холодно, голодно, дочь жалко, жених пугливый — потужили да и отдали. Баба Евдокея его не любила, но что поделашь: родители просют, да и ситуация заставляет, а пойти против родителей — ето Бога оскорбить.
Сколь прожили и когда женились — не знаю, но мать моя Настасья Мартивьяновна родилась 29 ноября 1933 года.
2 1933 год — начин войны, дунганы с Китаям. У дунганов план был завоевать у китайцев провинцию Синьцзян, особенно Горный Алтай. Стали наступать на город Шарасума, по пути к городу каки деревни попадали китайски, вырезали всех, женчин и детей. Ето грозило и русским. Начальник города, дутун, знал, что китайцам с дунганами не справиться, так как оне невоисты. Обратился к нашим старообрядцам отстоять свой город, так как оне хорошие охотники, только оне могут помогчи. Послал отряд к русским старообрядцам с просьбой подать руку в беде. Наши боялись ввязываться в такие конфликты. Етот отряд китайцев, который шёл к нашим, — в пути их перехватили дунганы и всех перебили. Один раненый коя-как добрался до нас и сообчил, что дунганы за своим следом ничего не оставляют.
— Дутун с просьбой к вам: помогите прогнать дунган. Ежлив оне нас победят, всему населению будет беда и вам, русским, ета же судьба.
Тогда наши задумались и решили послать отряд в сорок человек хороших охотников. В пути сорвали один пост, взяли три пленника и указали: «Проводите нас в город Шарасуму, и мы вас убивать не будем, а нет — тут и положим, а в дороге все равно найдём провожатого». Пленники знали, что ето не пустые слова и разговор идет с честными людьми, повинились и ночами провели в город, наши их не тронули и отпустили.
Дутун с радостью принял наших бородачей, и всему городу была большая радость: знали, что к ним пришли славные охотники, которы их кормили мясом.
Тут наши организовались и пошли в наступление. Дунганы почувствовали силу русских, пошли на отступление. Русски сняли осаду с города и погнались за ними вместе с китайцами, прогнали и вернулись в город. Их встретили с великой радостью. Дутун просил наших остаться в полку, но наши не захотели и уехали домой.
После етого время стало неспокойно. Банды дунганов набегали на деревни и грабили, жгли, казнили и так далея, появлялись советские шпионы и разжигали дунганов. У дунганов было хорошее оружие, откуда оно — конечно, советское, а у наших самоделашно, вот и отбивайся как хошь.
3 Однажды советские пригласили наших старообрядцев на охоту, в ету группу попали троя наших — наш деда Мартивьян и ишо два мужика. Ушли и больше никогда не вернулись, и советские также — вот и догадывайся, что с ними получилось. Маме было шесть месяцав, осталась сироткой. Бабе Евдокее пришлось пахать и сеять, но она была си льна и здорóва, крóтка, богобоязна, добрая, её все любили и всегда называли Савельевной. Как-то раз в праздник на речке шутили и здумали бабу Евдокею сбросить в речкю, но не смогли. Было их трое, баба всех сбросала в воду; свёклу одной рукой сжимала. Многи сватали вдовуху, но она ни за кого не выходила.
Так прошло десять лет. Тут появился Демид Шарыпов и давай сватать прилежно — баба Евдокея никак не выходила. Тут посторонние стали сватать: дескать, ты одна, тебе трудно, жених богатой. Но все знали: Демид Шарыпов злой, первая жена ушла в могилу лично от его рук, оставила ему дочь Наталью. Баба Евдокея погоревала да и вышла замуж за него. Ето вышло за то, что в ето время жила с мамой ни кола ни двора.
Почему так получилось. Было ето в 1934 году, маме был год, дунганы начали мстить русским, за то что русски освободили китайцев. И вот набегают дунганы на деревню Чинкур. Баба Евдокея высаживала хлеб в печь, увидела сдалека пыль и догадалась, что ето дунганы, схватила коня, маму под мышку и убегать, за ней ишо один дед. А остальных в деревне всех заказнили, больших и маленьких, и всё сожгли. Русские за ето обиделись и давай их выслеживать и бить. Обчим, спокойно не жили: хлеб сеяли, а винтовки всегда под боком были.
Баба Евдокея родила Демиду сына Степана и дочь Марью, маме было уже двенадцать лет. Демид Шарыпов правды очутился очень злой. Когда едет с работы, вороты должны быть открыты и на столе пища подана не горяча, не холодна. Не дай бог что не так — всем будет беда. Маме доставалось всех больше, так как она ему была чужая, за ето он её ненавидел и издевался как мог, бил как хотел.
У бабе Евдокеи окрóмя отца было двоя дядяв и одна тётка — Анатолий и Егор и Парасковья. Дядя Анатолий и тётка Парасковья остались в России, но судьба их неизвестна, а дядя Егор был в Китае. У бабе было два брата — Михаил и Ефим. Отца Савелия и брата Михаила убили на войне, а Ефим служил допоследу.
Как толькя затихла с дунганами война, народ стал обживаться. Ета тишина стояла всего четыре года. Тут появился вождь Кабий — мусульман, но пошёл на китайцев и собирал войско, хто попадёт. Зашёл и к русским, хотел и русских забрать, но русски отказали: мол, оружие у нас нету и с китайцами не хочем враждовать. Кабий сказал: «Хорошо, мы у вас возмём двух заложников и поишем оружие. Ежлив найдём, то всех вас перережем». Вот тут-то было переживанья. Но слава Богу, не нашли, спрятано было очень хорошо, тогда заложников отпустили, и кабиевцы пошли на китайцев одне. Китайцы их поджидали город Канас, у них стоял 10-й полк. Как толькя кабиевцы подошли, китайцы ударили с миномётов, кабиевцы стали отступать, а китайцы за ними. Ета война продолжалась не больше трех месяцев, и опять стала тишина два года с половиной.
Тут появился новый вождь, Оспан-батур, каргызин3, и собирал войско — всех, хто попадал под руки. Хто не шёл, того казнил, так что и русским пришлось пойти служить Оспану. Опять же политика была советская, советские дали Оспану оружие и дали флаг красный со звездой и полумесяцем. Ето было от 1940 года по 1950 год. Советская политика была такая: китайцев с мусульманами сразить, а русских вернуть в Россию, Оспану внушали: «Завоюешь провинцию Синьцзян — будет ваша».
На ету войну попали дядя Ефим Шутов, деда Мануйла Сергеевич Зайцев, хотя оне и были на дунганской войне. Тяте было восемнадцать лет, он тоже попал на службу, прослужил один год и пошёл на войну. Ета война была нечестна, Оспан был не главнокомандующим, а как бандит, грабил, казнил, насиловал, сжигал, вёл всяки несправедливости, в полку имел шпионов советских. Ето притесняло наших старообрядцев, но некуда было податься.
Советские открыли експедицию в Китай, и добровольсов принимали хорошо и платили хорошо. Тятю в 1946 году ранили, и он попал в больницу, пролежал в больнице три месяца. За ето время оне списывались с отсом, и дед Мануйла внушал тяте: не вёртывайся в отряды, потому что нет справедливости, убили тóго-другого-третьяго. Тогда тятя ушёл на експедицию и работал у советских, и много русских так же поступили, Оспан из рук советских не мог никого забрать. А в деревнях появились советские консула и стали агитировать, чтобы вернулись на родину, сулили горы: «Ничто вам не будет, нарежут вам земли, и будете жить спокойно, в России свободно». Но мало хто им верил. Слухи были противоположны: в России народ голодовал и жили нищими.
Однажды к Оспану подъезжает с отрядом вышняго рангу чиновник и друг Оспану — Жёлбарс, и стал при всем войске внушать Оспану:
— Друг, брось оружие, ето кончится нехорошим. Советские стравляют вас с китайцами и весь Китай объединяют, всех нас ждёт одно уништожение, и ето кончится нехорошим.
Оспан отвечает другу:
— Ха, я здесь хозяин, всё ето моё. Никого не допушшу, всех вырежу, но землю не отдам.
Тогда Жёлбарс другу:
— Но, друг, как хошь, — и громким голосом крикнул: — Хто за мной? — Тишина, и двадцать пять солдат вышли вперёд, все русски. В етим отряде был наш дед Мануйла. Жёлбарс сказал: — Хорошо, на таким-то месте буду ждать двадцать четыре часа, подумайте хорошень.
Тут наши старообрядцы задумались и решили все уйти с Жёлбарсом. Но советский шпион Осип предупредил Оспана не пускать русских солдат к Жёлбарсу:
«А то обессилешь». Утром, когда русские были готовы выехать, Оспан приказал всех обезоружить, а хто побежит, того казнить. Тогда русские потихонькю стали уходить на експедицию к советским.
В деревнях получились две партии: красные и белые. У красных была власть, и оне творили что хотели, грабили, били, издевались — над своими же. Мужики были на войне, жёны одне дома, и красны что хотели, то и творили. Много таких было, но лично нам запомнился — фамилия Шарыповы. Сам отец, Василий Васильевич Шарыпов, был спасовского согласия наставником, а сынок Яков Васильевич — красный атеист, изъедуга, кровопивец. Ниже узнам о етой фамилии. Все ети красны имели советские паспорта.
На одной из деревень жила и баба Евдокея и рассказывала, как красные поступали с местным населением: садили на лёд, вымогали золото, грабили, уводили коров, забирали всё — продукт, посуду, оставляли голых. И слова не скажи — сразу казнить. Пошёл голод. Хто посмелея, побежали на юг в Илийский округ за тысяча вёрст, в город Кульджу: там было тихо.Баба Евдокея жила за Демидом Шарыповым — однофамильсами, но не родственниками с теми Шарыповыми. Были александровского прихода часовенного согласия, жили в достатках, у Демида всё было клеймёно, он был мастер на все руки. У бабе всё расташили: баню, городьбу4, дословно всё.
У Оспана было два русских офицера: Никифор Студенко и Лаврен Рыжков. Лаврен был идивот, трус и так далея, Никифор был герой, любимый солдатами и так далея. Впоследствии Лаврен Рыжков очутился в Бразилии и Никифор Студенко очутился в Парагвае. А ето получилось вот так. Всё предвиделось, что с Оспаном всё кончится плохо, ночью собрались триста русских солдат и ушли от Оспана; в етой группе был и Демид Шарыпов.
1949 год. Тятя и все мужики вернулись с експедиции с документами и взялись за красных — вёртывать всё. Тут и баба Евдокея всё своё вернула, так как у них было всё клеймёно. Тут был большой позор красным изменникам, и советские не вмешивались: знали, что изменники поступал неправильно.
Тятя в 1949 году посватал маму. Маме было семнадцать лет, а тяте двадцать семь лет. Баба не отдавала, говорила: парень разбалованной, семья слаба. Тут сватали молодыя ребята и религиозны, но маме тятя понравился: красивый, весёлой, сапоги хромовы. Не послушала бабу: пойду да пойду. Но баба со слезами отдала и говорила: «Настькя, будешь слёзы лить».
Расскажем маленькя об Ивановых. Фёдор Иванов с России попал до революции, в каки годы — неизвестно. Когда наши бежали с России после революции, то Ивановы уже жили очень богаты. На речке Сандырык копали золото, то Ивановы его скупали. Фёдор Иванов был грамотный и умный, все его любили и все к нему шли на работу охотно, потому что он платил очень хорошо, за хорошу работу всегда переплачивал и был милостив, часто ставил обеды бедным; хто приходил с просьбой, всегда шёл навстречу, никогда не отказывал. Популярность его всегда росла, и выбрали его губернатором. Служил он честно, все его любили. Был у него один сын Сидор Фёдорович, а у Сидора пять сыновей и три дочери. Живут в Бразилии.
1950 год. Комиссия властей — китайцев и советских — приехали проверить, что же войско Оспана, и решили, что ето просто банда, и решили заплатить хорошу цену, хто выдаст Оспана. Тут нашлись свои же каргызы и, связанного, отдали его китайцам, а остальным власти китайски объявили сдаться. Русски сразу сдались, их посадили, на слабым режиме — кого как, по-разному.
Про деда Мануйла никаких новостей, но знали, что он ушёл с Жёлбарсом. Но ето был очень умный человек. Он прождал двадцать четыре часа; так как нихто к нему больше не пришёл, он отправился со своим отрядом мирным путём, никого не обижал, с нём шёл американский консул. Оне через Монголию и Тибет попали в Индию, там оружие сдали, им дали свободу. Наши русски, двадцать пять человек, через американскоя консульство попали в Америку, в Нью-Йорк. А те триста человек, в которым дед Демид Шарыпов, отступали, шли пакостили, громили, местное население обижали. Их окружили, всех пословили, кого ка знили, кого расстреляли, так что баба Евдокея опять осталась вдовой.
Тут появился советский какой-то Лескин. Но ето политика уже была — русских вернуть в Россию, а китайцев усилить во всем регионе. У каргызов на флагу убрали полумесяц, и стал китайский красный флаг со звездой. Русских старообрядцев стали притеснять, чтобы вернулись на родину. Хто сумел заполнить анкеты — запрос в ООН, тот сумел спастись, а хто не сделал запрос, те все вернулись — но не на родину, а на целину: в Киргизстан и Казахстан. На границе их обобрали и оставили без ничего. Вот тебе и земли и свобода!
1 Керженец — один из ранних старообрядческих центров в глухих лесах по левому притоку Волги реке Керженец и ее притоку речке Бельбаш (Нижегородская губерния). Массовое переселение старообрядцев-кержаков на Урал и в Сибирь началось в результате разгрома керженского центра в 1710–1729 годах.
2 В конце концов.
3 Киргиз.
4 Ограду.
Автор: Arseny Shmartsev
Полина Барскова. Живые картины
- Полина Барскова. Живые картины. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 176 с.
В Издательстве Ивана Лимбаха выходит первая книга прозы поэта Полины Барсковой. Сборник «Живые картины», двенадцать произведений которого объединены темой памяти, — результат многолетних архивных изысканий автора по истории блокады. Основанные на материалах дневников и писем тексты в некотором роде продолжают поэтический цикл Барсковой «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков: 1941–1945».
В книге, написанной «между прозой и поэзией, между вымыслом и документом, на территории травмы и стыда, голода и безумия блокады», литература становится не только исследованием, но способом освобождения персонажей от проклятия исторической амнезии.ПРОЩАТЕЛЬ
I
Снежные хлопья всё росли и обратились под конец в белых куриц. Одна из них, отряхнувшись,
оказалась небольшим пьяницей с пластиковым
пакетом в руках. Из мешка торчала герань.Подойдя к девочке, прохожий стал заглядывать ей в лицо. Совершенно размокшее, оно было раскрашено как будто для подслеповатых взглядов оперного райка: огромные брови, огромные губы, тяжёлые собачьи глаза, преувеличенные
жирными чёрными тенями. — А тепло ли тебе,
милая? А не жениха ли ты здесь ждёшь? — Мне
бы спичек. — А меня жена из дома выгнала. А давай я тебе скажу. — Он рыгнул и монотонно
страшно зашептал, не глядя: — Cмотри…Смотри: так хищник силы копит:
Сейчас — больным крылом взмахнёт,
На луг опустится бесшумно
И будет пить живую кровь…— Ого, — почти не удивившись, засмеялась
она. — Прямо греческий хор. Мне бы спичек?
Не были бы Вы так любезны? Не найдётся ли у
Вас случайно?Было ясно, что Морозко поддаётся только
на избыточную вежливость.За три часа под снегом её карманный коробок совсем сник.
— А нету, вот цветок бери.
Она рассеянно, послушно ухватила полный
снега мешок и стала идти.Справа из светло-бурого неба на неё вывалился клодтовский конь, весь выгнутый, но уже
готовый поддаться, злой.II
Пока его очередная мучка-мушка отдыхала, пытаясь отдышаться, покрытая лёгким потом,
Профессор, прислонясь лицом к стеклу, вспоминал и вспомнил до слова (уникальная па-
мять!):«Невдалеке от эстрады в проходе стоял человек.
Крепко сбитый, выше среднего роста, он
держал руки скрещёнными на груди.Он был странно одет, почти неприлично для
тех времён, для довоенного 13-го года: на нём
был шерстяной, белый, безукоризненной чистоты свитер: лыжник, пришедший прямо из снегов, это впечатление усиливалось обветренным
цветом лица и слегка кудрявыми тускло-рыжеватыми волосами; светлые, почти стеклянные,
как у птицы, глаза.Все проходили мимо него, слегка даже задевая его в тесноте, никто не подозревал, что
они проходят мимо самого Блока.Фотография поэта оповестила всю Россию
о его облике — фотография передержанная: чёрные кудри, чувственный рот, полузакрытые,
с прищуром чёрные глаза, образ демона в бархатной куртке, с отложным воротником, а главное — этот демон вторил ещё каким-то ранее
виденным оперным образам!»Профессору нравилось представлять его
себе — белоглазого, с обветренной кожей неузнаваемого невидимку, не того, кого они все ждут.Он и сам себе казался таким невидимкой,
никто не знал ни его, ни его настоящего голоса,
и это незнание было его смыслом и утешением.III
Тоска — томление — прелесть архива: ощущение головоломки, мозаики, как будто все эти
голоса могут составить единый голос, и тогда
сделается единый смысл, и можно будет вынырнуть из морока, в котором нет ни прошлого,
ни будущего, а только стыдотоска — никто не
забыт ничто не забыто — никому не помочь, а
забыты все.Кто я, не Харон ли я?
Ночной кораблик в Питере, стайка резвых
иностранок: — А Вы нас покатаете? — Покатаем? — А Вы насколько пьяны? — Да пошла ты! —
ласково-удивлённый клёкот. Мы заходим на
кораблик, и я вижу возле рулька початую бутылищу, даже скорее жбан. Харону трудно на трезвую голову: души ропщут.Архивист перевозит души из одной папки в
другую, из такой папки, откуда никто никогда
не услышит, в такую, откуда кто-нибудь — ну
хоть совсем ненадолго.Читатель становится архивом для того, чтобы произвести новых читателей, это уже физиология, остановиться читать нельзя.
Иногда казалось, что единственный способ
снова сделать это читаемым — переписать всё
заново, как башмачкин, букву за буквой, язычок
старательно высунут: как у котика, как у ботика.
Обвести блёкнущие каракули, таким образом их
обновив, привнеся в сегодня сам этот акт по-над-писывания.Слово за словом, исчезающие, как жир и сахар в ноябре, склонения спряжений. Запятые и
тире бледнеют и падают, перестают делать смысл,
не дышат и тают. Знаки препинания умерли в
блокадных дневниках первыми, лишние знаки,
как лишние люди, бескарточные беженцы из
Луги и Гатчины.Главное — противостоять времени: время будет давить на тебя.
Но смысл всей затеи — не дать чужому времени смешаться с временем, которое ты несёшь себе, в себе.
IV
Вот и ещё один голос высовывается, выплывает,
расправляется и раздаётся.Катя Лазарева, шести лет в 1941 году, сероглазая суровая насмешливая.
Играли с мамой в буриме. Мама начинала:
Шёл дистрофик с тусклым взглядом,
Нёс корзинку с мёртвым задом.Катя заканчивала:
Шёл дистрофик по дороге.
У него распухли ноги.Или так:
Идёт дистроф, качается, вздыхает на ходу:
Сейчас стена кончается, сейчас я упаду.
А по вечерам они устраивали шарады.«Первая часть слова: поэт — чёрные кудри, чувственный рот, полузакрытые, с прищуром чёрные глаза, образ демона в бархатной куртке.
Вторая часть слова: папа в длинной ночной
рубашке изображает грешника, которого чертовка-мама жарит на сковороде».Как было сыграно междометие «А», Катя Лазарева не помнит, но всё слово в целом было
представлено так: саночки с ведром воды и
баночками для столовской каши, которые тащил спотыкающийся от голода дистрофик.
БЛОКАДА.V
А вот и ещё один голос.
Всю жизнь итальянский еврей Примо Леви с
упорством бестактного вредоносного насекомого
сумасшедшего писал о выпавшей ему неудаче.Смущённое мировое сообщество выдавало
ему премии и призы, благо теперь это было совсем легко. Получая приз, он ещё полгода его
переваривал, как удав, а потом выпускал из себя
новый том.Ни о чём другом он ни писать, ни говорить
не мог, и сны видел про это, и в болезненную
безликую жену входил про это, и истерики долго умирающей матери устраивал про это.В его случае продвижение от одного текста
к следующему означало укрупнение кадра, уточнение детали:
при пытке ощущение скорее таково нежели
воняло теперь более так чем двухнедельная
дизентерияКак и все наделённые природой и историей
таким тембром, он не смог хорошо приклеиться
к быстрому течению времени, оно его отторгло
и выбросило — в пролёт лестницы.Смущённая мировая общественность постановила, что это был несчастный случай, и присудила ещё одну премию — за изящество и скорость полёта, за то, что освободил он их всех от своих воспоминаний.
Донна Тартт. Щегол
- Донна Тартт. Щегол / Пер. с английского А. Завозовой. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 827 с.
В издательстве Corpus в конце ноября выходит новая книга «Щегол» лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт. Роман, расхваленный англоязычной критикой, создавался более 10 лет — это огромное эпическое полотно о силе искусства и о его способности перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса. Единственным утешением мальчика становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.
глава седьмая
Магазин в магазине
1.
Когда меня разбудил грохот мусоровозов, чувство было такое, будто меня катапультировало в другую вселенную. Горло саднило. Замерев под пуховым одеялом, я вдыхал темный запах подсохших ароматических саше и обугленных поленьев
в камине, к которому примешивались слабенькие, но неувядающие нотки скипидара, смолы и лака.Так я пролежал какое-то время. Поппер, который спал, свернувшись клубочком у меня в ногах, теперь куда-то пропал. Я заснул
прямо в одежде, которая была грязной донельзя. Наконец — меня
подкинуло приступом чихания — я сел, натянул свитер поверх
рубашки, пошарил под подушкой, убедился, что наволочка с картиной на месте и пошлепал по холодному полу в ванную. Волосы
у меня ссохлись в колтуны, которые гребенкой было никак не разодрать, и даже после того, как я смочил их водой и расчесал снова,
один клок так спутался, что я не выдержал и в конце концов старательно отпилил его заржавленными маникюрными ножницами,
которые отыскал в шкафчике.Господи, подумал я, крутнувшись от зеркала, чтобы чихнуть.
Зеркала мне давно не попадались, и теперь я с трудом себя узнал:
на челюсти синяк, на подбородке — россыпь прыщей, из-за простуды лицо отекло и раздулось — даже глаза опухли, набрякли
сонно веки: лицо какого-то сдвинутого туповатого надомника.
Я был точь-в-точь ребенок сектантов, которого местные правоохранительные органы только что спасли, вытащили его, сожмуренного, из какого-нибудь подвала, набитого огнестрельным оружием и сухим молоком.Я заспался: было уже девять. Выходя из комнаты, я расслышал
звуки популярнейшей утренней программы на WNYC, до нереального знакомый голос диктора, номера по Кёхелю, дурманное спокойствие, все то же теплое мурлыканье утреннего радио, под которое я так часто просыпался дома, на Саттон-плейс. Хоби сидел
с книгой за столом на кухне.Но он не читал — уставился в другой конец комнаты. Увидев
меня, вздрогнул.— А, вот и ты, — он вскочил, неуклюже сгребая в сторону гору писем и счетов, чтобы освободить мне место. Одет он был для работы в мастерской — в вельветовые штаны с пузырями на коленях
и старый суглинисто-коричневый побитый молью свитер в дырах,
а залысины и коротко остриженные волосы делали его похожим
на обложку учебника латыни Хэдли — грузный мраморный сенатор с оголившимися висками. — Ну, как самочувствие?— Нормально, спасибо, — голос был сиплый, скрипучий.
Он снова сдвинул брови, пристально поглядел на меня.— Господи боже, — сказал он, — да ты у нас нынче, как ворон, каркаешь.
Это он к чему? Сгорая со стыда, я протиснулся на стул, который
он для меня расчистил — стесняясь даже глаза на него поднять,
и потому уставился на книгу: растрескавшаяся кожа, “Жизнеописание и письма” лорда такого-то, старинный том, который, вероятно, попал сюда с какой-нибудь распродажи имущества, старенькая миссис имярек из Покипси, перелом шейки бедра, детей нет,
все очень печально.Он наливал мне чаю, пододвигал тарелку. Пытаясь как-то скрыть
свое замешательство, я нагнул голову и вгрызся в тост — и чуть
не подавился: горло драло так, что и куска нельзя было проглотить.
Я так поспешно потянулся за чаем, что расплескал его на скатерть
и неуклюже кинулся вытирать.— Нет, нет, да ладно тебе, вот…
Салфетка моя промокла насквозь, я не знал, что с ней делать,
растерявшись, уронил ее на свой же тост и принялся тереть глаза
под очками.— Простите, — выпалил я.
— Простить? — он глядел на меня так, будто я спрашивал, как добраться в какое-то не слишком ему знакомое место. — Ой, да ну
что ты…— Пожалуйста, не выгоняйте меня.
— Это еще что? Тебя — выгнать? Куда я тебя выгоню? — Он сдвинул
очки-половинки на кончик носа, поглядел на меня поверх стекол. —
Ну-ка, не глупи, — сказал он веселым и слегка раздраженным тоном. — Если тебя куда и надо выгнать, так это обратно в кровать. У тебя голос, будто ты чуму подхватил.Но говорил он неубедительно. Оцепенев от неловкости, изо всех
сил стараясь не разреветься, я уперся взглядом в осиротевшее место возле плиты, где когда-то стояла корзинка Космо.— А, да, — сказал Хоби, когда заметил, что я смотрю в пустой
угол. — Да. Видишь вот. И ведь уже глухой был как пень, и по
три-четыре приступа за неделю, а мы все равно хотели, чтоб он
жил вечно. Я рассопливился тогда, как ребенок. Если б мне кто
сказал, что Космо переживет Велти… а он полжизни протаскал
этого пса по ветеринарам. Слушай-ка, — сказал он переменившимся голосом, наклонившись ко мне и пытаясь заглянуть мне,
жалкому, онемевшему, в глаза. — Ну, ты чего? Понимаю, тебе много всего пришлось пережить, но сейчас-то не стоит обо всем этом
думать. Вид у тебя убитый — да, да, именно такой, — твердо прибавил он. — Убитый и, прости Господи, — он слегка поморщился, — уж какой-то дряни ты наелся, это видно. Но ты не волнуйся,
все нормально. Иди-ка, поспи еще, давай, правда, а потом мы все
с тобой обговорим.— Я знаю, но… — я отвернулся, пытаясь удержать сопливое, щекотное апчхи. — Мне некуда идти.
Он откинулся на спинку стула: деликатный, осторожный, чуток
пропыленный.— Тео, — он забарабанил пальцем по нижней губе, — сколько тебе лет?
— Пятнадцать. Пятнадцать с половиной.
— И, — казалось, он пытается понять, как бы это половчее спросить, — что там с твоим дедушкой?
— А-а, — беспомощно отозвался я, помолчав.
— Ты с ним говорил? Он знает, что тебе некуда податься?
— Ой, пизд… — это само вырвалось, Хоби поднял руку, все нормально, мол, — вы не понимаете. Ну, то есть не знаю, Альцгеймер
у него там или что, но когда ему позвонили, он даже не попросил
меня к телефону позвать.— И, — Хоби оперся подбородком на кулак и глядел на меня, будто
скептически настроенный препод, — ты с ним так и не поговорил?— Нет, ну то есть лично — нет, там была одна тетенька, помогала
нам…Лиза, Ксандрина подружка (участливая такая, все таскалась
за мной и мягко так, но все настойчивее и настойчивее напирала
на то, что надо известить “семью”), в какой-то момент устроилась
в уголке с телефоном, набрала номер, который я ей продиктовал —
и положила трубку с таким лицом, что, увидев его, Ксандра единственный раз за весь вечер рассмеялась.— Тетенька? — переспросил Хоби в наступившей тишине, таким
голосом, каким сподручно, наверное, разговаривать с умственно
отсталыми.— Ну да. То есть, — я заслонил лицо рукой, цвета в кухне были
слишком уж яркими, голова у меня кружилась, держался я с трудом, — Дороти, наверное, взяла трубку, и Лиза сказала, она типа
такая — “щас, подождите”, никаких тебе: “О нет!”, или “Да как же
это случилось?”, или там “Ужас какой!”, просто: “Ща, секунду, я его
позову”, а потом трубку взял дед, и Лиза ему все рассказала про аварию, он выслушал и говорит: ясно, очень жалко, но таким, знаете,
тоном, как Лиза сказала. Никаких там: “Чем мы можем помочь?”,
ни “Когда похороны?”, ничего подобного. Просто, типа, спасибо
вам за звонок, он очень важен для нас, пока-пока. Ну, то есть я бы
это и так ей сказал, — взволнованно прибавил я, когда Хоби промолчал и ничего не ответил. — Потому что, ну правда, отца-то они
не любили — на самом деле не любили: Дороти ему мачеха, они
друг друга с самого первого дня возненавидели, а с дедом Декером
он вообще никогда не ладил…— Ясно, ясно. Тише, тише…
— … и да, конечно, с отцом, когда он был подростком, много проблем было, наверное, потому он с ним так — его арестовывали,
не знаю, правда, за что, честно, не знаю почему, но они вообще,
сколько я себя помню, знать его не желали и меня тоже…— Да успокойся ты! Я же не говорю, что…
— … потому что, вот честное слово, я с ними даже почти и не виделся никогда, я совсем их не знаю, но у них же нет никаких причин меня ненавидеть, хотя дед мой не то чтобы весь такой приятный дядька, отцу от него здорово доставалось…
— Шшшш, ну-ну, хватит! Я вовсе не стараюсь на тебя надавить,
просто хотел узнать… нет, вот что, слушай, — сказал он, когда
я попытался перебить его, он отмахнулся от моих слов, будто сгоняя со стола муху.— Юрист моей матери здесь. Здесь, в городе. Вы сходите со мной
к нему? Нет, — объяснил я, заметив, что он недоуменно сдвинул
брови, — не прямо юрист-юрист, а этот, который деньгами заведует? Я с ним по телефону говорил. Перед отъездом.— Так, — вошла Пиппа — хохоча, разрумянившись от холода, — да
что такое с этим псом? Он что, машины никогда не видел?Ярко-рыжие волосы, зеленая вязаная шапка, увидеть ее вот так,
при свете дня — как ледяной водой в лицо прыснуть. Она слегка приволакивала ногу, это у нее, скорее всего, со взрыва осталось, но то
была легкость кузнечика, диковатое, грациозное начало танцевальной фигуры, и на ней было наверчено столько слоев теплой одежды,
что она вся была как крохотный цветастый кокон на ножках.— Он мяукал, как кошка, — сказала она, раскручивая один из своих пестрых шарфов, Попчик пританцовывал у ее ног, закусив
поводок. — А он всегда так чудно пищит? Представляете, такси
проедет, и он — ввууух! Аж взлетает! Парусил на поводке, как воздушный змей! Все просто со смеху покатывались. Да-да, — она
нагнулась к псу и чиркнула его костяшками пальцев по голове, —
а кому-то вот надо искупаться, правда? Он ведь мальтиец? — спросила она, глянув на меня.Я рьяно закивал головой, зажав рукой рот, чтоб не чихнуть.
— Я люблю собак. — Я едва слышал, что она там говорит, так заворожило меня то, что она глядит прямо мне в глаза. — У меня есть
книжка про собак, и я выучила все-все породы. Если бы у меня
была большая собака, то ньюфаундленд, как Нэна в “Питере Пэне”,
а если маленькая — не знаю даже, никак не могу определиться.
Мне нравятся все маленькие терьерчики — особенно джек-расселы, на улице они всегда самые общительные и забавные. Но я вот
еще знаю одного очень славного басенджи. А недавно познакомилась с замечательным пекинесом. Он совсем-совсем крошечный,
но такой умница. В Китае их могли держать только аристократы.
Очень древняя порода.— Мальтийцы тоже древние, — просипел я, радуясь, что могу ввернуть интересный факт. — Эта порода еще в Древней Греции была
известна.— Ты поэтому мальтийца выбрал? Потому что порода древняя?
— Эхммм… — я давился кашлем.
Она что-то еще стала говорить — не мне, собаке, но меня скрутил очередной приступ чихания. Хоби быстро нашарил первое,
что под руку попалось — полотняную салфетку со стола, — и сунул
ее мне.— Так, ну хватит, — сказал он. — Марш обратно в кровать. Не надо,
не надо, — отмахнулся он, когда я попытался вернуть ему салфетку, — оставь себе. И скажи-ка, — он оглядел мою жалкую тарелку:
пролитый чай и разбухший тост, — что тебе приготовить на завтрак?В перерывах между чихами я выразительно, по-русски, в Борисовом духе передернул плечами: да что угодно.
— Ладно, тогда, если не возражаешь, сварю тебе овсянки. Она для
горла полегче. А носков у тебя, что, нет?— Эээ… — Пиппа — горчично-желтый свитер, волосы цвета осенней листвы — была поглощена собакой, и цвета ее смешивались
и мешались с яркими красками кухни: сияют в желтой миске полосатые яблоки, посверкивает игольчатым серебром жестянка изпод кофе, куда Хоби ставит кисти.— А пижама? — спрашивал Хоби. — Тоже нет? Ладно, поищем
что-нибудь у Велти. Когда переоденешься, я это все в стирку брошу.
Так, иди, давай-ка, — сказал он, хлопнув меня по плечу так неожиданно, что я аж подпрыгнул.— Я…
— Можешь здесь оставаться. Столько, сколько захочешь. И не волнуйся, к поверенному твоему я с тобой схожу, все будет хорошо.
Ирина Поволоцкая. Пациент и гомеопат
- Ирина Поволоцкая. Пациент и гомеопат: Совецкая повесть. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014. — 192 с.
В своих повестях и рассказах российский режиссер и сценарист Ирина Поволоцкая продолжает лучшие традиции русской прозы с ярко выраженной стилистической составляющей. Для каждого произведения писательница изобретает свой язык, стиль и неповторимую интонацию, поэтому они так не похожи друг на друга и пишутся подолгу. Повесть «Пациент и гомеопат» была удостоена премии Ивана Петровича Белкина в 2012 году.
I — Лю-чин! Лю-чин! — повторяла счастливо маленькая девочка, скача на одной ножке вкруг него, толстого, круглого, втиснувшегося в плюшевое, обтертое на подлокотниках кресло, а потом
вздохнувшего после такой работы, но все равно щеголеватость была в Лючине, элегантность
непонятная холеного тела в рыжих веснушках,
так заметных на белых до синевы ручках, прямо
женских, с тонкими пальчиками и ногтями аккуратными, полированными.— Лю-чин! — прыгала девочка, поворачиваясь к нему то стриженым затылком, то короткою
челкою с подвешенным бантом. — Лю-чин! Ты
китаец?— Нет, — сказал он и засмеялся.
— Китаец! — Она потянула веки к вискам. —
Вот, китаец!— Ксана! Иди сюда! — позвал из-за двери
женский голос.— Не пойду! — капризничала девочка, пристально заглядывая в глаза. — Не хочу к ним! Хочу с тобою! Китайчики веселые, хорошие, у меня
книжка есть. Мальчик Ли! Девочка Лю! Лю-чин!
А я хах-лу-шка, хах-лу-шка Ксаночка!Она все прыгала в своем байковом платьице,
а он, Лючин Евгений Бенедиктович, смеялся, да
он бы и прыгал тоже, потому что влюблен был
в ее юную тетку, влюбился вот, и теперь в кармане серого в полоску пиджака, вечером наденет, довоенного, правда, но из бостона, и моль
не съела, пока был в эвакуации, лежали билеты в Большой. Лёля ее звали, и она вошла три
месяца назад в эту комнату, когда он так же, как
и сейчас, сидел и ждал Алексея Павловича, своего начальника по управлению, а тот, как всегда, опаздывал, собираясь, и шофер Коля сидел
тут же, только на стуле, и тоже ждал, но из соседней комнаты вышел не Алексей Павлович,
а она и сказала:— Здравствуйте! — и протянула руку: — Леля! — а потом уже к Коле, они, конечно, знакомы
были: — Как мама, Николай Викторович?Коля встал со стула. Узкое молодое лицо его
всегда было какое-то темное, будто невыбритое, а глаза серые светлели. Он стал подробно
и длинно объяснять что-то про возвраты и приступы материнской болезни весной, осенью,
Лючин и не вслушивался, он глядел на нее. Она
была совсем не похожа на свою сестру, рыжую
красавицу Аню, жену Алексея Павловича. Глаза
карие и брови, сросшиеся на переносице, отчего выражение почти хмурой серьезности, но родинки над верхней губой так и прыгали, когда
она разговаривала.— До весны, слава богу, еще далеко… — сказал Коля.
Да, в тот день, вернее утро, когда он впервые увидал ее, до весны было далеко, а сегодня
март. По семейной московской привычке смену времен года он вел по старому стилю: только
в середине марта начиналась весна, а тринадцатого января наступал Новый год. Почему-то
всегда на старый Новый год было веселее, будто тот календарный — только репетиция этого,
по крайней мере, у него было так, и когда она
согласилась пойти с ним тринадцатого января
в ЦДРИ и стала звать на «вы», но Женя, — оказалось, что все тридцать четыре года его жизни были для того, чтобы она так стояла и сидела
рядом, стеснялась и мерзла в своем длинном,
но с короткими рукавами платье и говорила об
этом, а вокруг сумасшедше забавлялась послевоенная артистическая Москва… Для Лели было в диковинку, а у Евгения Бенедиктовича мать
играла на театре, блистала в оперетте — Ираида Ладонежская, такой псевдоним и такая немножко Кармен; было модно когда-то: на висках завитки, свои, безо всяких щипцов, несколько полновата, тут он в нее, но грациозна,
ноги ловкие, тонкие в щиколотках, и голос —
редкое контральто. С ее ранней смерти и таким образом с его раннего детства экзальтированные женщины с вытравленными волосами
кидались к нему с поцелуйными нежностями:
«Я подруга Иды!» — и потом через годы: «Боже мой! Ты совсем большой, Женьчик!» — а теперь, после войны: «Как идет время!» — и роняли слезы, воздевая руки. Но он обожал их,
они его совершенно умиляли; он и маленький
чувствовал себя взрослым рядом с ними, когда
они сходились на печальные годовщины Идиной смерти, нарядные как птицы, спервоначалу
тихие, порхали по квартире, а поклевав яблочный пирожок и выпив по рюмочке-другой, как
горлышко прочищали, щебетали и румянились,
пудрились прямо за столом и морщили крутые
лобики, рассыпая крошки, и убегали гурьбой,
словно девочки.— Полетели, сердешные! — всегда без улыбки
говорила его няня Настя, и еще вслед: — Ида наша, та серьезнее была, — и качала головою.Настя давно умерла, и отец, к которому он так
и не успел прилететь в сорок третьем из Кыштыма, засекреченного уральского городка, где работал в войну, — ничего эта девочка о нем не знала: щеки ее горели, в руках она сжимала сумочку
из бисера на серебряной цепочке, а он смотрел
на ее детские пальцы, в чернилах, без маникюра. Леля на втором курсе училась. Иняза. Потом он провожал ее, они с матерью в Лефортове
жили; трамвай остановился как раз у подъезда,
спичкой дуга чиркнула по проводам, и когда он
думал о Леле, всегда была эта короткая вспышка над снегом.Существование его теперь стало мыслью
о ней. День проходил, он Лелю видел, или она
звонила, и воспоминание делалось на миг длиннее — так бусы нижут, — усмехнулся Лючин, но
еще одну бусинку на нитку: сегодняшний утренний звонок.— Здравствуйте, Женя. Это Леля. Я вас не разбудила? Знаете, мне надо до театра еще платье
забрать, у Колиной мамы. Они в Замоскворечье
живут. Со мной? А мы успеем?И вздохнул Евгений Бенедиктович, припоминая, зажмурился и шеей повертел. Никак не мог
привыкнуть к форме Лючин, но Хозяин ввел, даже у них в геологии надобно было носить форму.
А в спецателье шили скверно.…Тогда зимой, спрыгнув с трамвая, на мгновение опершись о его протянутую к ней руку, она
скоро обогнала его и пошла впереди. Оренбургский платок, стянутый на затылке двумя концами, пальто в талию, подол платья, который она
подымала правой рукой без варежки, варежку
она в карман сунула, а бисерную сумочку другой рукой прижимала к себе, — он помнил все,
хотя глядел только на фетровые ботики, скользящие по снегу, присыпанному песком; он понимал: она боится споткнуться в своем длинном платье, и она споткнулась, подымаясь
по ступенькам к лифту, а он даже не успел помочь ей — он просто покорно шел за нею в этом
коридоре, проложенном в пространстве всем
тем, что была она, а Леля, бросив подол, — они
уже в лифт вошли, — стала разматывать платок и сразу забрызгала Евгения Бенедиктовича
растаявшими снежинками, и холодные капли
упали ему на нос. Рядом с нею он будто вовлекался в эти девичьи хлопоты: поправить прядь,
провести рукой по лбу, тронуть губы пальцем,
и снова прядь со лба, и вдруг в сумочку — достала платок носовой, повертела, положила обратно, потом вынула конфетку: «Хотите? Театральная!» Он отказался, а она развернула бумажку и сказала: «Фантик!» — а конфету в рот,
и родинки так и запрыгали… У них дома, а она
его домой позвала, конечно, не спали — старый
Новый год! — гости, но, верно, свои: какая-то
дама, коротко стриженная и в брюках, а тогда редко так одевались, ну и, конечно, Алексей Павлович с Аней, и еще одна женщина, потом оказалась соседка по квартире, сухонькая,
бледная, без помады, лицо молодое в морщинах: после войны таких лиц много было…— Мама, это Женя!
И мама Нина Васильевна, блестя глазами,
а стало понятно, в кого Леля, по-старинному
протянула ему руку:— С Новым годом!
И он обрадованно склонился к ее руке, а Леля засмеялась:
— Вы, Женя, очень галантный, а мама неисправима! — и сама, не дожидаясь помощи, забросила платок на вешалку.
— Да, я галантный, — сказал Лючин, ему всегда было легко говорить после шампанского,
а они там в ЦДРИ шампанское пили, и так же легко и нестеснительно он опустился перед Лелей
на колени и стал снимать с ее ног фетровые ботики, но кнопочка кожаная никак не расстегивалась; он поднял глаза к Леле, а она стояла в этом
своем нарядном платье, голубом, с длинным вырезом, а пальтишко с мерлушковым воротником,
детское почти, держала в руках — Лючин, замешкавшись с несчастною кнопочкой, мешал ей —
она как жеребенок стреноженный смотрела.— Простите, Леля, — шепнул он и вдруг увидел, что она краснеет, и даже капельки пота выступили на верхней губе с родинками. А у него
стало сухим горло.— Аня, поставь чаю для молодежи! — Это Нина Васильевна с дивана крикнула, она уже в столовой была, там они с Алексеем Павловичем
спорили громко, Лючин тогда не знал, что они
всегда так спорят, а соседка, такая девушка-старушка с лицом строгим, остановила:— Сидите, Аня, я сама чайник поставлю для Лели и Евгения Бенедиктовича! — Она так отчетливо
выговорила «Бенедиктовича», как по слогам.Это он теперь, ожидая Алексея Павловича,
вспомнил, а тогда ему все равно было, он и соседку Машу не знал, а вот она уже, верно, слышала о нем — это ему тоже сейчас в голову пришло, раз она сказала — для Лели и Евгения Бенедиктовича.— Шампанское, Женя, кончилось! Ничего, что
без отчества сегодня? — И, улыбаясь, Алексей
Павлович налил ему в рюмочку муската и сразу же, поворотяся лысою головой к Нине Васильевне: — Я с вами совершенно не согласен. Это
очень нужное произведение.— Ну вот, вы всегда так, — вспыхнула Нина Васильевна (они правда с Лелей похожи были), — говорите, а сами не читали даже, а утверждаете! — И еще сказала: — Нельзя же так заранее. Из газет.
— Мама! — Это уже Аня с неожиданной для
себя резвостью закричала, а Нина Васильевна
дернула плечом:— Мне ничего сказать нельзя, — и встала. —
Чай, наверное, готов. — И, самолюбиво облизав
губы, на кухню, курить, папиросы схватила, они
на пианино лежали, и Леля вскочила за ней.Лючин испугался, что они поссорились, но
по тому, как с усмешкою наблюдала за происходящим дама в брюках, с умилением догадался, что это как игра такая, что они все тут близкие и родные, а строгая соседка внесла чайник,
за ней Нина Васильевна с заварочным, и, как ни
в чем не бывало:— Кому налить? Кто хочет чаю? — А все хотели,
и, воспользовавшись суматохой, Лючин вышел
из комнаты и в пустой кухне увидал Лелю. Облокотившись на подоконник — а за окном была совершенная чернота, — она смотрела куда-то, Лючин
не знал, на что она смотрела, только подойдя ближе понял — там, в пустом пространстве, тоже была она, Леля, но совершенно недосягаемая, и огни противоположного дома светились у ее плеч,
как елочная гирлянда. Кстати, вспомнил, елка была у Лели под потолок, с фонариками, и флажками, и дождем серебряным; так пристально вспоминает по минуточке, а про елку забыл… Да, Леля — недосягаема, и теперь повторил про себя,
как тогда, когда слышал ее дыхание и видел затылок высокий и ровненький шов на воротничке.— Леля, — сказал он, глядя на этот шовчик, —
Леля, у вас сегодня было самое красивое платье.А Леля, не оборачиваясь:
— Вы забыли, какое платье у Целиковской…
— Нет. Не забыл. На тебе было удивительное
платье.Он так и сказал — на тебе… Сам не ожидал, но
получилось. Один раз — на «ты». За три месяца.— Его сшила мама Николая Викторовича. —
Леля обернулась, и он почти со страхом увидел
так близко Лелины губы с веселыми родинками,
а губы нахмурились чему-то.
Большой собачий секрет
- Сьюзан Меддау. Марта говорит. — М.: Издательство «Ай», 2014. — 32 с.
«В тот день, когда Элен дала Марте суп с макаронами в виде букв, случилось нечто необычное. Вместо того, чтобы отправиться в желудок, буквы из супа попали прямиком Марте в мозг, а вечером Марта начала говорить». Таково начало истории о собаке Марте, девочке Элен и ее родителях.
По ту строну океана Марту знают все. Она входит в сонм собачьих святых наряду с Лэсси и Хатико, является героиней телешоу, анимационного сериала, компьютерной игры и других проектов. Американка Сюзан Меддау придумала и нарисовала историю о Марте в 1992 году и сразу получила за книгу престижную награду журнала New York Times. С тех пор с Мартой произошло несколько невероятных историй. Всего их шесть, и все они в одночасье вышли в новом московском издательстве «Ай» (в смысле «глаз»).
Говорящая собака сначала вызывает у хозяев настоящий восторг, к ней появляется масса вопросов (не последний из которых «Почему ты пьешь из туалета?»). Испытывая приступы гордости, они демонстрируют Марту гостям на домашних вечеринках. Потом оказывается, что Марта не просто может говорить — она любит говорить, «тщательно выговаривает согласные и смакует каждую нежную гласную. Марта любит слова. Много слов. А еще она любит составлять их в бесконечные предложения».
В общем, рот Марты не закрывается никогда: она травит бесконечные собачьи байки, пересказывает нелепые сны, ставит своих хозяев в неловкое положение тем, что всегда говорит то, что думает. Она интересуется, почему этот парень такой толстый, передает бабушке мамины слова о том, что ее стряпня похожа на собачий корм, постоянно отпускает спойлеры во время просмотра телевизора и, в конце концов, вызывает настоящую усталость.
Путь собаки Марты в мире слов мучительно напоминает такой же путь любого ребенка. Вот он говорит свои первые слова — и это чудо! — они увековечены в особой маминой тетрадке. Вот он, стоя на табуретке, рассказывает Деду Морозу и гостям стихотворение про елочку — и у родителей от умиления дрожит в руках камера. Вот он открывает вам страницу за страницей картины своего удивительного, никем еще неизведанного детского мира, посылает яркие ракеты своего воображения, очаровывает и зачаровывает.
Но проходит время, и эти самые слова, которые теперь льются неиссякаемым потоком, мешают вам работать, не дают послушать новости, поговорить по телефону, поспать, наконец, воскресным утром. Порой эти же самые слова становятся причиной неловкостей, особенно если вы имели неосторожность обсудить при ребенке навязчивых гостей или привычку свекрови варить макароны не меньше получаса. А потом этот ребенок, как и Марта, желает обсудить с вами свое меню, или количество карманных денег, или список подарков на день рождения. Потом он, как и Марта, часами висит на телефоне и несанкционированно заказывает пиццу. Потом не просто бросается словами, но и мусорит, и ранит ими.
Список этот можно продолжать до бесконечности, но одно очевидно — вы узнаете Марту, и, возможно, полюбите ее. Хотя бы за то, что пока вы читаете истории о ней своему болтуну, он молчит.
Татьяна Москвина представит автобиографию
В субботу, 1 ноября, в Николаевском дворце состоится презентация новой книги известного журналиста, писателя и театрального критика Татьяны Москвиной.
«Жизнь советской девушки. Биороман» продолжает издательскую серию Редакции Елены Шубиной «На последнем дыхании», которую открыли «100 писем к Сереже» Карины Добротворской. Предельная искренность как обязательное условие мемуаров проявляется здесь и в описании ленинградского быта 1960–1980-х годов, и в трудном пути к самой себе. Все это, по словам Сергея Николаевича, главного редактора журнала «Сноб» и одного из идейных вдохновителей серии, «выписано с той беспощадной тщательностью, которая выдает автора как последовательного приверженца русской реалистической школы, тонкого психолога и дотошного исследователя уходящей советской натуры».
В числе слушателей наверняка можно будет увидеть известных петербургских писателей-фундаменталистов, литературных критиков и авторов журнала «Время культуры», главным редактором которого является Татьяна Москвина.
Встреча пройдет по адресу: пл. Труда, 4. Начало в 18.00.
Премия Андрея Белого объявила лауреатов
Обновленный и заметно омоложенный состав жюри, в который в этом году вошли писатели Виктор Iванiв, Дмитрий Голынко, Алла Горбунова, литературоведы и критики Павел Арсеньев, Мариета Божович, Александр Житенев, Кирилл Корчагин, выбрал победителей в шести номинациях.
В области поэзии были отмечены Кирилл Медведев со сборником стихотворений социальной направленности «Поход на мэрию» и Ирина Шостаковская с рукописью «2013-2014: the last year book».
В «Прозе» на первое место вышел Алексей Цветков-младший с авангардистским текстом «Король утопленников», который, помимо Премии Андрея Белого, замечен в лонг-листе «НОСа».
Беседы с современными композиторами Дмитрия Бавильского, вошедшие в книгу «До востребования», а также серия критических статей последних двух лет редактора литературного журнала «Носорог» Игоря Гулина оказались лучшими в номинации «Литературные проекты и критика».
В сфере гуманитарных исследований жюри выделило работу философа Игоря Чубарова «Коллективная чувственность: Теории и практики левого авангарда». Поэзия лучшего лирика Португалии Фернандо Пессоа стала доступна российскому читателю благодаря переводу его «Морской оды» Наталии Азаровой, а «За заслуги перед русской литературой» будет награжден итальянец Паоло Гальваньи — переводчик стихотворений Е. Шварц, В. Филиппова, Ш. Абдуллаева, В. Кривулина, С. Стратановского, Е. Фанайловой, О. Седаковой, А. Ильянена, Л. Рубинштейна, Г. Айги и других.
Как сообщает Комитет премии, церемония награждения лауреатов будет проведена в Петербурге в конце декабря.
Тик-так-бумм!
- Алан Мур, Дэйв Гиббонс. Хранители. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 528 с.
Не надо быть книжным червем, чтобы понять, что владение самым полным в мире изданием графического романа «Хранители» Алана Мура и Дэйва Гиббонса прерогатива не только коллекционеров и гиков. Килограммовый фолиант в суперобложке, для создания которой использована страница буклета Британского конвента любителей комиксов, внушает отверзающему его священный трепет. Вдохнув аромат типографской краски, вы переноситесь в стоящий на пороге ядерной катастрофы Нью-Йорк 1985 года.
Герои комикса, созданные на основе персонажей серии Charlton Comics, существуют в замкнутом кропотливо выстроенном мире, невероятно похожем на наш, но населенном суперлюдьми, которые находятся вне закона. Усилием воли изменяющий атомную структуру Доктор Манхэттен, обладающий совершенным умом Озимандия, наиболее человечный из всех Ночная Сова, ведущий двойную жизнь Роршах, агрессивный Комедиант и чувственная Шелковая Тень разобщены и не вынашивают совместных планов по борьбе с преступностью.
Несмотря на то, что супергероями они называются условно (лишь Доктор Манхэттен может продемонстрировать сверхъестественные способности), а сняв маски и костюмы, и вовсе перестают отличаться от простых американцев, каждый из персонажей ведет гонку на выживание со своими моральными принципами. По словам Алана Мура, «заурядные, лишенные телепатии, не подвергавшиеся мутациям и не слишком высокомерные гуманоиды» в какой-то момент стали казаться ему более ценными, чем «любители поворачивать вспять реки и потрясать планеты».
Героиня фильма «Люси» Люка Бессона утверждает, что в мире реально существует лишь одна единица измерения — время. Эту же мысль почти на тридцать лет раньше обозначили создатели комикса «Хранители». Иллюзия тикающих за спиной часов, после остановки которых произойдет неминуемый взрыв, не развеивается до конца романа.
«Будущего нет. Прошлого нет. Понимаешь? Время едино. Оно как драгоценный камень, только люди упорно смотрят на каждое ребро алмаза по очереди, хотя общая структура видна в каждой грани», — рассуждает Доктор Манхэттен — единственное существо на планете, способное в секунду изменить ход истории всего человечества. Например, уменьшить потери Соединенных штатов во Вьетнамской войне или помочь Америке получить преимущество перед СССР в гонке вооружений.
«Утром: дохлый пес в переулке, на раздавленном брюхе след покрышки. Этот город меня боится. Я видел его истинное лицо. Улицы — продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью. Когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть… У них ведь был выбор, у них у всех. Они могли пойти по стопам хороших людей вроде моего отца или президента Трумэна… А теперь весь мир стоит на краю и смотрит вниз, в преисподнюю, все эти либералы, интеллектуалы и краснобаи… И вдруг оказывается, что им нечего сказать», — слова из дневника Роршаха, до последнего отстаивающего свою правду, станут эпитафией на смерть случайных американцев, оказавшихся не в том месте не в то время, эпитафией, зачитанной под композицию Тайлера Бэйтса The American Dream.
Формат комикса — это всегда набор иллюстраций, которые благодаря фантазии читателей превращаются в связную историю. От того, насколько она привлекательна, зависит, станут ли картинки подсказками в литературном квесте. Обращая внимание на задний план рисунков в «Хранителях», можно предугадать развитие событий, до того как Алан Мур и Дэйв Гиббонс раскроют карты.
Обложки и эскизы, постеры и афиши, пошаговая прорисовка отдельных сцен, личная переписка создателей комикса, их напутственные слова и сомнения, отрывок из сценария, постраничный комментарий, разъясняющий некоторые интертекстуальные моменты и песни Боба Дилана, с которого все началось, — этими артефактами наполнено абсолютное издание графического романа конца XX века.
Говорят, чтобы предотвратить нечто ужасное, иногда нужно совершить плохой поступок. Этому принципу, недолго думая, следуют все супергерои. Они-то точно знают, что время принять решение уже пошло.
Михаил Бару. Повесть о двух головах
- Михаил Бару. Повесть о двух головах, или Провинциальные записки. — М.: Livebook, 2014. — 480 c.
Издательство Livebook выпустило книгу заметок Михаила Бару о русской провинции. «Повесть о двух головах» открывает мир малоизвестных, а подчас и вовсе незнакомых городов вроде Южи или Васильсурска, Солигалича или Горбатова. Остроумно и добродушно автор описывает глубинку с ее неповторимой и захватывающей историей, уникальными людьми, тайнами, летописями и подземными ходами.
Самое интересное в поездках по провинции — это
процесс выбора городка, в который поедешь. Мечтаешь о том, чтобы приехать в такой медвежий
угол, куда до тебя никто не добирался, и чтобы
там — музей с несметными сокровищами и привидениями, с библиотекой Ивана Грозного; чтобы
в глухом углу заброшенного кладбища тебе под
расписку о неразглашении показали могилку старца Федора Кузьмича; чтобы через городок этот
проезжал Александр Сергеевич или Антон Павлович, не говоря о Николае Васильевиче, и все трое
оставили записи в книге постояльцев местной гостиницы и написали на обоях в нумере на втором
этаже кто — стих, кто — небольшой рассказ,
а кто — и маленькую повесть; чтобы на улицах стояли удивительной красоты памятники архитектуры всех стилей; чтобы из подземелья местного, еще
домонгольского храма, с удивительной сохранности фресками, вел подземный ход за реку; чтобы
можно было по нему пройти и найти наконечник
копья или стрелы, или берестяную грамоту, или страничку из старинного девичьего альбома с четверостишием Антона Павловича; чтобы Москва
была как можно дальше и чтобы никто слыхом
не слыхивал ни о вечном, как игла для примуса,
президенте, ни о депутатах, ни о ценах на нефть,
ни даже о курсе доллара и евро.Исключая президента, все остальное найти довольно просто. Даже страничку с четверостишием Чехова в девичьем альбоме.
Устюжна
А мне нравится здешний городок. Конечно,
не так многолюдно — ну что ж? Ведь это
не столица.Н. В. Гоголь «Ревизор»
В Устюжну я ехал через Тверь, Бежецк, Красный
Холм и Весьегонск. Последний участок дороги от Весьегонска до Устюжны составляет всего шестьдесят
километров. Первые тридцать километров дорога
идет от Весьегонска до границы Вологодской области и вторые тридцать — от границы до Устюжны.
Всякий знает, что дороги районного значения между
областями в нашем государстве… Если дорога
от Красного Холма до Весьегонска имеет вид убитой,
то от Весьегонска до Устюжны она выглядит так,
точно над трупом еще и надругались. Деревень здесь
совсем немного — все больше леса и болота. Места,
надо сказать, довольно глухие, но… нет-нет, да
и промчится, вздымая облака желтой пыли, огромный черный джип с московскими номерами, состоящими из сплошных семерок, или заполнит собой
всю дорогу чудовищных размеров трейлер, на котором везут на берег Мологского залива, аккуратно завернутую в чехол белоснежную красавицу-яхту. Кто
ее владелец… неприметный ли чиновник жилищнокоммунального хозяйства, отказывавший себе во
всем все четыреста… нет, пятьсот лет своей беспорочной службы и откладывавший всю до копейки
зарплату и квартальные премии на покупку корабля,
или мэр какого-нибудь города, не имевший сил отказаться от подарка, преподнесенного ему на юбилей
благодарными предпринимателями, или депутат,
случайно нашедший эту яхту под дверью своей однокомнатной квартиры, или прокурор, который, конечно, порядочный человек, да и тот, если сказать
правду, свинья.На улице с названием «Торговая Площадь» солнечно и пыльно. Когда-то красивые купеческие особняки,
с растрескавшейся и частью обвалившейся лепниной,
магазин канцтоваров с оригинальным названием
«Канцлер», Ленин в двубортном пальто и с кепкой
в руке. Рано он ее, конечно, снял. Ветер в начале мая
холодный. Голова-то у него выкрашена серебрянкой,
а она защищает хорошо от перегрева, но не от холода.
Первый этаж двухэтажного дома, где располагается
«Пирожковая», выкрашен в ядовитый ярко-розовый
цвет. Перед входом в заведение с озабоченным, деловым видом ходила рыжая собака с белым, закрученным колечком хвостом. Я заметил, что провинциальные собаки, в отличие от столичных, всегда при
каких-то делах. Лежит себе где-нибудь у входа на станцию метро «Тимирязевская» ленивая, безразличная
ко всему собака и нос воротит от сосиски, заботливо
подложенной кем-то из торговок кроссвордами или
горячей выпечкой. Не то ее провинциальная сестра.
Всегда-то она занята: или ожидает важного известия,
или спешит поделиться этим известием с другими
собаками. И при такой занятости провинциальная
собака всегда выкроит минутку, чтобы подойти к тебе
поздороваться за кусочком хлеба или колбасы, или
колбасы с хлебом, всегда подождет, если ты колбасу
вот-вот купишь, или проводит туда, где эта колбаса
продается. Почему она отказалась от пирожка с докторской колбасой, который продавался в «Пирожковой» на углу улицы Торговая Площадь и Конного переулка, — понятия не имею. Взяла зубами пирожок
и отнесла его в кусты, в кучу какого-то сора. На всякий случай я из солидарности с ней отказался еще
от двух пирожков с капустой, купленных там же.Внутри храма Рождества Богородицы, в котором
находится устюженский краеведческий музей, еще
холоднее, чем на улице. Молодые девушки, работающие музейными старушками, сидят на своих стульях в валенках, закутанные в толстые шерстяные
кофты. Когда заходишь в зал, где находится живопись и коллекция русского и западноевропейского
фарфора, то, честно говоря, чувствуешь себя неловко. Шел ты в гости к соседям по лестничной площадке на чай и потому на тебе домашние тапочки и потертые джинсы, а они тебя встречают во фраках,
вечерних туалетах, подлинниками Айвазовского,
Кустодиева и Верне. И ты стоишь в пропыленных туристических ботинках и с рюкзаком за спиной перед
огромным, в роскошной золоченой раме «Видом
Принцевых островов у Константинополя с высоты
птичьего полета на Мраморном море», и тебе хочется
немедля выйти и если и не переодеться во фрак, то
хотя бы вычистить ботинки.Айвазовский, Кустодиев, Кузнецовский и Мейсенский фарфор в собрании провинциального музея
объясняются просто. Некоторое время, еще при советской власти, Устюжна относилась к Ленинградской области, и ленинградские музейщики в качестве
шефской помощи… Вроде как в Юрском периоде
здесь было море, а потом оно отступило и оставило
после себя картины, фарфор и часы немецкой работы в корпусе из золоченой бронзы.Но и без Айвазовского, без тонких французских
кофейных чашек есть что посмотреть в Устюженском музее. И не только посмотреть, но даже и ограбить. В лихие девяностые вынесли из музея шесть
старинных икон. Таких икон, что уже через малое
время одна икона оказалась в частном немецком,
а другая в таком же частном английском собраниях.
У немца пришлось ее выкупать, англичанин же усовестился и вернул купленную у воров икону даром.
Теперь она в Москве, в храме Христа Спасителя. Там,
сказало начальство, целее будет. Вот сделаете себе
надежную охрану — тогда и вернем ее в Устюжну.
Начальство — оно ведь как замполит из известного
советского анекдота — ртом работает. Денег у него
в этом рту на охрану нет. Хоть обыщись. Пошли
по наименее затратному пути — запретили фотографировать оставшиеся иконы. Будь я директором музея — тоже бы, наверное, запретил от греха подальше. Я бы даже смотреть запретил. Завязывал бы
глаза посетителям в этом зале и водил бы их за руку,
останавливаясь перед той или иной иконой, и доверительным шепотом сообщал бы: «„Борис и Глеб“.
Пятнадцатый…» Впрочем, лучше и не говорить какого века. Нечего людей смущать. Сказать просто —
старая. Даже очень.По правде говоря, не за иконами и картинами
ехал я в Устюжну, которая была и есть город замечательных кузнецов, а не иконописцев. Железной руды здесь было много, и выплавлять из нее металл
стали еще две с половиной тысячи лето тому назад.
Потому, начиная со средних веков, к имени Устюжна всегда прибавляли фамилию — Железопольская, а то и просто называли ее Железным Устюгом.
Устюженские кузнецы были так искусны в своем
ремесле, что в начале семнадцатого века Москва заказала им огромные кованые решетки для Спасских
ворот в Китай-городе, к воротам Белого государева
города, к Петровским, Арбатским и Яузским воротам. Тогда дешевые китайские решетки из хромированной пластмассы купить было негде — приходилось ковать свои. Устюженские мастера сделали
пробную решетку и отправили ее в Москву с припиской, что хотят оплату по полтора рубля за каждый пуд живого веса решетки. Московские приказные крючки не соглашались и даже угрожали
устюженским — мол, кто не хочет ковать решетки
к воротам за разумные деньги, будет стучать по
тюремным бесплатно, но кузнецы, не будь дураками, дозвонились на прямую линию накатали царю челобитную с просьбой поддержать отечественного производителя. Царь Михаил Федорович с их
просьбой как бы согласился, но гривенничек с цены
все же сбросил. Кузнецы с новой ценой как бы тоже
согласились, но обиду затаили и отковали всего две
решетки. Тут вдруг выяснилось, что решетки уж
очень вышли велики, чего никто ожидать не мог,
и на обычную крестьянскую подводу никак… и на две тоже. С превеликим трудом их все же в столицу
доставили, но больше уж решеток в Устюжне не заказывали.Впрочем, решетки эти были для устюженских кузнецов, так сказать, непрофильным заказом. Профильным было оружие — сабли, кинжалы, пищали,
фузеи, осадные пушки, ядра. Качества все было отменного. Ручная во всех смыслах этого слова работа.
Мало кто знает, что местные оружейники делали
удивительные ружейные замки — их можно было
открыть только одним-единственным на свете ключом, который выдавался изготовителем. Неприятель,
подобравши на поле брани такое ружье, не знал, что
с ним и делать — без ключа оно не открывалось. Что
же касается наших фузилеров или пищальников, то
они имели секретную инструкцию — при попадании
в плен ружейные ключи проглатывать, каких бы размеров они ни были. К концу восемнадцатого века,
когда большую часть оружейных заказов перетянула
к себе Тула, устюжане придумали пистолеты с потайными курками. Вроде популярных в то время бюро
или секретеров с потайными ящичками. Нажал неприметную кнопку в неприметном месте — он и открылся. В том смысле, что выстрелил. Ну, а пока
не найдешь — хоть об голову им стучи. Говорят, что
такой пистолет с секретным курком Александр Первый подарил Наполеону после заключения Тильзитского мира. Бонапарт его везде с собой возил. Как
улучит свободную минутку — так достанет пистолет
и давай искать на нем потайную кнопку. Маршал Ней
вспоминал, что у императора даже был постоянный
синяк на правой руке — вот до чего часто колотил
он кулаком по пистолету от злости. Так он из него
и не выстрелил ни разу. Даже после Ватерлоо, когда
хотел… но так и не смог найти кнопки. Пришлось
ему ехать помирать своей смертью на остров Святой
Елены.И все же мало-помалу железоделательное производство и оружейное дело в Устюженском крае умирало. Часть, и, как водится, самую лучшую часть,
оружейников перевели в Тулу и на Урал, а оставшиеся кустари-одиночки делали лопаты, серпы, сковороды, ломы, подковы и гвозди. В начале прошлого века
череповецкий купец Носырин построил в Устюженском уезде целый гвоздарный завод. До этого он четыре года прожил в Америке, изучая тамошнее производство гвоздей. Да так хорошо изучил, что смог
придумать свои собственные машины для выделки
подковочных гвоздей из нашего железа. Невелика
важность, скажете вы. Ан нет — велика! До Носырина подковочные гвозди делали из более дорого шведского железа. Стал купец добиваться подрядов в кавалерийские полки и артиллерийские бригады, но…
тогдашние Рособоронкавалерия и Рособоронартиллерия, прикинувши гвоздь к носу, то есть посчитавши прямую выгоду… то есть убытки… решили
не рисковать и переплатить шведам, чтобы уж точно
не остаться в накладе. Так и разорился передовой завод в десятом году, за четыре года до Первой мировой. Потом, когда враг вступит в город, пленных не
щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя… Потом
непременно нарядят следствие и тридцать шесть тысяч следователей следственного комитета допросят
с плохо скрываемым пристрастием тридцать шесть
тысяч подозреваемых и тотчас же арестуют тридцать
шесть тысяч счетов на Кипре и на Сейшелах, с которых деньги будут заблаговременно…Ну да сколько можно о грустном. Лучше о комическом. Как известно, Устюжна, ее чиновники и ее
городничий послужили прототипами гоголевскому
«Ревизору». Увы, не осталось ни гостиницы, в которой закусывали свежей семгой Добчинский и Бобчинский на глазах у голодного Хлестакова, ни дома
городничего, ни богоугодных заведений*. Висит
в одном из залов музея портрет Ивана Александровича Макшеева, бывшего городничим в Устюжне
в том самом, тысяча восемьсот двадцать девятом,
году, когда проехал через город некий Платон Волков и здорово обобрал местное начальство, представляясь чиновником министерства. К чести Ивана
Александровича надо сказать, что он не был полным
Антоном Антоновичем. Герой войны двенадцатого
года, участник Бородинского сражения, награжденный золотой шпагой за храбрость… очень боялся
чиновников. Он был из тех русских военных, что
«смело входили в чужие столицы, но возвращались
в страхе в свою». А кто у нас, позвольте спросить,
в этом смысле не военный? То-то и оно. Справедливости ради надо сказать, что история устюженского
городничего окончилась не так печально, как гоголевского. Макшеев еще семь лет благополучно
исполнял свою должность. Не потому, что… а по
той причине, что приходился дальним родственником всесильному графу Аракчееву. А как был бы
ближним, то, может статься, и на повышение пошел
бы. Да и Платон Волков, мелкий вологодский чиновник, в сущности, отделался легким испугом
по той же самой причине. Нет, он не был родственником Аракчеева, но его жена состояла в родстве
с князьями Бобринскими.Понятное дело, что городские власти к двухсотлетнему юбилею со дня рождения Гоголя решили…
но передумали. На общий памятник всем героям
пьесы денег не хватило, а ставить памятник Ивану
Александровичу Макшееву в обнимку с Иваном
Александровичем Хлестаковым — так это получится насмешка и ничего больше. Над кем, мы, спрашивается, смеемся? Один умник, из числа местных европейцев и либералов, и вовсе предложил изваять
на постаменте унтер-офицерскую вдову в тот самый
момент, когда она сама себя сечет, но как только о такой, с позволения сказать, идее узнало вологодское
начальство… Думали, думали и решили, что бюджетнее и безопаснее всего изготовить памятник веревочке. Той самой, про которую слуга Хлестакова,
Осип, сказал: «Что там? веревочка? Давай и веревочку!» Призвали даже кузнеца, который должен был,
сообразуясь с художественным вкусом, выковать ее
из железа… и передумали. Оно, конечно, веревочка — тьфу. Ничего не значит эта веревочка, но черт
знает, что может она означать…«А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?» — спрашивал Хлестаков у почтмейстера Шпекина. Можно. Отчего же нельзя. Бонтона, конечно, столичного нет,
и провинциальные гуси ходят по улицам. С другой стороны — где же, спрашивается, ходить провинциальным гусям, как не у себя в провинции? В столице
им места нет — там ходят столичные гуси. Зато
в Устюжне хватает места и гусям, и курам, и сидящим на заборах кошкам, и собакам, гоняющим этих
кошек, и селезням, степенно плавающим в синей-пресиней воде речки с колдовским названием Ворожа, через которую перекинут изящный деревянный
мостик, увешанный разноцветными свадебными замочками. Можно прожить счастливо в Устюжне.
Только упаси вас Господь от местных пирожков
с докторской колбасой. Да и с капустой тоже.
* Вот разве что к заборам, как и прежде, «черт их знает
откудова наносят всякой дряни».
«Ясная Поляна» объявила лауреатов
Победителем в номинации «XXI век» стал екатеринбургский писатель Арсен Титов с исторической трилогией «Тень Бехистунга» о событиях Первой мировой войны, обойдя в финале Евгения Чижова, Сергея Шаргунова и Дмитрия Новикова.
Награда в номинации «Детство. Отрочество. Юность» досталась известному прозаику Роману Сенчину за книгу «Чего вы хотите?», в которой главной героиней выступает дочь автора.
Наконец, «Современной классикой» было признано творчество Бориса Екимова, который получил денежную премию в размере 900 тыс. руб. за произведение «Пиночет» о жизненном укладе донских деревень.