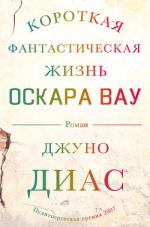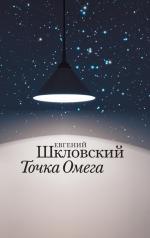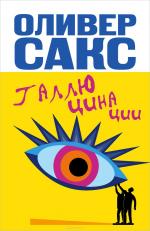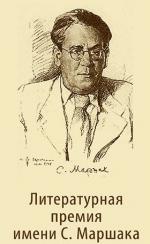Евгений Шкловский. Точка Омега.— М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 400 с.
В издательстве «НЛО» вышел новый сборник прозы писателя и литературного критика Евгения Шкловского. В центре внимания автора человек, ищущий себя в бытии, во времени, в самом себе, человек на грани чего-то иного даже в простых житейских ситуациях… Реалистичность и фантасмагория, драматизм и ирония создают в «Точке Омега» причудливую атмосферу полусна-полуяви, где ясность и четкость картинки лишь подчеркивают непредсказуемость жизни.
Поющая душа
1
Я вижу, как она плачет.
Плачет, вытирает глаза то платочком, то тыльной стороной ладони, низко наклоняет голову, стесняясь своего
плача. Интересно все-таки устроен человек. Кто бы мог
подумать, что завяжется такая ниточка, протянется через годы и страны, через… Даже трудно сказать, через
что… Впрочем, если угодно, то и через смерть, и через
пустоту…
Мне видится тьма, изредка разрываемая звездными
сполохами, туманная млечность, и внезапно — круг ослепительного света, как на сцене, когда тебя выхватывает
из темноты мощный луч юпитера и ты один на один
с замершим залом, пока еще почти не различимым. Уже
прозвучали первые аккорды, уже родилась мелодия, ты
с волнением готовишься взять первую ноту, разорвать эту
набухшую тишину… Связки напряглись, откуда-то из глубины на двигается, нарастает первый, самый важный, самый
главный звук, которому назначено отдернуть завесу, опрокинуть плотину немоты, осенить, покорить пытающуюся
жить самостоятельно музыку. Слиться с ней, чтобы вместе
сотворить чудо гармонии.
Музыка — не от мира, а человеческий голос — прорыв
туда, в запредельное, полет в стратосферу, в неизведанные пространства, которые вдруг оказываются близкими
и одушевленными.
Да, голос в согласии с музыкой способен творить чудеса.
Я видел это, еще когда пел в нашей маленькой синагоге
в Черновцах. Лица прихожан буквально преображались —
столько в них появлялось нового, трогательного, возвышенного, печаль перемежалась с надеждой, радость
с грустью, глаза загорались любовью… Люди становились
нежными и кроткими, как ягнята, а то вдруг в их лицах
возникали алые отблески пламени — не того ли самого,
каким вспыхнул перед Моисеем терновый куст, сполохи
огненного столпа, что вел ночью народ Израилев через
пустыню из египетского плена?
Добро бы еще она слышала мое пение в реальном исполнении — без шорохов, потрескиваний и прочих изъянов
старой записи. Только в живом голосе первозданная чистота и глубина, только в нем можно расслышать душевную самость, которая доверчиво и страстно открывается миру.
Увы, время нанесло на звук свою окалину. Но эта женщина слышит. Душа слышит душу даже через время и не-бытие, не это ли и есть прообраз вечной жизни, ее отсвет
для тех, кто еще влачит земное существование?
Впрочем, не так. Не влачит — живет! В этом слове кроется великая и сладчайшая тайна. Жизнь, какая ни есть,
так ненадолго дарованная человеку, — прекрасна. Я это
понял, впервые услышав музыку и ощутив прилив звука
к горлу, звука, который должен был стать и стал песней.
Только жизнь, только явь и свет! Даже когда музыка печальна и исторгает слезы, а песнь вторит ей тоскующими,
безысходными словами, этот свет все равно пробивается,
окрыляет душу, уносит ее в те волшебные сферы, где над
всем торжествуют великое «есмь» и великое «да».
Не знаю, что уж произошло у этой женщины, но в том
крохотном зальце в гигантском незнакомом городе, где
мне не привелось побывать, среди немногих собравшихся послушать записи моих выступлений она выглядела
растерянной. Судя по всему, она оказалась здесь впервые.
Видимо, ей нужно было куда-то выйти из своего одиночества, оторваться от семейных или каких-то других неурядиц, просто побыть среди людей.
Возможно, она уже кое-что слышала про эти музыкальные лекции, да и не столь важно. Ну что ей до моей так
и несложившейся жизни, до всех моих удач и поражений,
которых было гораздо больше и которые, покатившись
снежной лавиной, в конце концов слились в одну-единственную, все обрушившую катастрофу? Что ей до нее?
Впрочем, это я так, пустое брюзжание. На самом
деле тут-то, возможно, и кроется загадка человеческой
души — в способности раскрываться и откликаться навстречу далекому, принимать его в себя поверх всяких
барьеров. Конечно, музыка — великая вещь, в основном
это ее заслуга. Ну и, не буду скромничать, мой голос тоже
чего-то стоил, им восхищались многие, с нетерпением
ждавшие моих выступлений, готовые за любые деньги
покупать билеты на концерты, даже не раз смотревшие
жалкие (сам это понимаю) фильмы с моим участием.
Воистину неисповедимы пути. Робко ступает она на порог Еврейского общинного дома. Что делает здесь эта крещеная православная русская? Она поднимается по широкой
лестнице на третий этаж в читальный зал библиотеки, она
спрашивает у худощавой приветливой библиотекарши
материалы не о ком-нибудь, а обо мне.
Ей мало слушать записи. Ей хочется побольше узнать:
каким я был, как жил, чему отдавал предпочтение? Про все,
что сопровождает нас в земных странствиях. Голос трудно
отделить от человека. Не значит ли это, что и в самом певце,
в глубинах его существа кроется первоисточник? Вроде как
и сама личность должна быть какой-то необыкновенной.
Еще одна иллюзия.
Но ведь откуда-то же берется в этом голосе, в его
тембре, в его поразительных модуляциях, в его объемности, силе и свободе нечто, к физиологии не имеющее
отношения?
А может, она хочет ближе узнать мою религию, почувствовать мою веру, где, помимо природной одаренности, как
она предполагает, таятся ключи к моей певческой уникальности. Она хочет узнать ближе нашего Б-га, хотя разве Он
только наш?
А был ли я таким уж верующим? Не знаю. Моей верой
была музыка, в самые лучшие, самые вдохновенные минуты, когда душа вся растворялась в пении (тоже своего
рода транс), когда буквально сгораешь в охватившем тебя
пламени и вправду ощущаешь себя в единении с чем-то
великим и непостижимым.
Незабываемое, неповторимое переживание, которое
хочется длить и длить сколько хватит сил! И откуда-то эти
силы берутся, словно их черпаешь из какого-то поистине
чудесного кладезя.
Наверно, это состояние может передаваться, заражать
других. Женщины вообще эмоциональней, чувствительней,
восприимчивей к такого рода вещам. Она же способна слушать мое пение бесконечно — возясь на кухне, пришивая
оторвавшуюся пуговицу, занимаясь привычными обыденными делами. Или, наоборот, замерев и закрыв глаза,
словно что-то видит там, в облаках своих чувств и мыслей.
Лица ее в эти минуты будто касается луч солнца.
Кто-то скажет: типичный фанатизм, кто-то усомнится
в правильности такого слушания — ведь музыка требует
определенного настроя, внутреннего сосредоточения.
И тем не менее.
2
Голосом природа действительно одарила меня редкостным. Знатоки сравнивали с самыми великими певцами,
но, увы, при этом я был лишен прочих далеко не лишних
качеств. Маленький рост и вообще невзрачность отняли
у меня возможность петь в опере — несколько спектаклей,
и всё, а ведь я обожал оперу, восхищался знаменитыми
певцами, мечтал петь на сцене…
Не сложилось.
Продюсеры и режиссеры, отдавая должное моим уникальным вокальным данным, так и не смогли преодолеть
диктата зрелищности. Не подходил я им. Утешением стали
сольные концерты и, конечно, радио, при, увы, тогдашнем
акустическом несовершенстве.
И все-таки я познал вкус славы, хотя, честно говоря, не
очень к этому стремился. Конечно, любой артист жаждет
признания, настоящего, безраздельного. А чего больше
всего мог хотеть низкорослый некрасивый еврей из провинциального захолустья? Еврей, запуганный историей
своего богоизбранного народа, народа-изгоя, постоянно
опасающийся очередного унижения или даже зверства.
Тошнотный, тлетворный дух кровавых кишиневских погромов еще носился в воздухе — об этом помнили и те, кто
слушал мое пение в черновицкой синагоге, где все начиналось, помнили и забывали, молились и черпали забвение.
Голос уводил их в другой, чудный мир. Страх и отчаянье
отступали.
А мне, мне тоже хотелось, может, даже и не признания…
просто — любви. Да, именно любви, большой, безраздельной, самопожертвенной. Такой, какую может дать, наверно,
только женщина. Или любовь Б-га, но не суровая ветхо-
заветная, а кроткая и всепрощающая. Такая, для которой
несть ни эллина, ни иудея.
Влекло и другое — мысль, что мой голос, этот бесценный и, увы, преходящий, как все смертное, дар, принадлежит не только мне, что он нужен другим, жаждущим
преображения, причащения чему-то высшему.
В какое-то мгновение помстилось, а, впрочем, возможно, именно так и было: вся Германия, родина великой
музыки и великих музыкантов, утонченная ценительница
искусств, у моих ног. Взыскательный Берлин, где я появился незваный-непрошеный, сдался, уступил. Музыка
сама по себе страсть, а с голосом она больше, чем страсть,
она — молитва.
Да, был миг, когда так и показалось: мой голос, мое пение зажгли пламя в душах слушателей, в нем должны были
расплавиться все различия между людьми — здоровыми,
больными, немцами, евреями, поляками, русскими… Одна
общая человеческая душа — возвышенная, прекрасная,
какая только и могла быть угодна Б-гу. Только такая и способна исполнить свое предназначение.
Увы, как же я заблуждался!
Ходил слух, что мое пение слушал даже главный изверг,
сумевший погрузить сытую, благополучную Европу в мрак
и хаос. Он еще только подбирался к власти, только раскидывал свою паутину, еще только варил в своем дьявольском
котле ядовитый дурман.
Между тем уже нельзя было петь ни на сцене, ни на
радио — нужно было срочно бежать из сатанеющей Германии, где начинались гонения и расправы. Успех, слава?
Пустяки, тлен… Зверю крови и почвы требовались жертвы.
Гекатомбы жертв.
Увы, здесь уже верховенствовала другая музыка. Гимны,
марши и под сурдинку бесовской хохоток с подвизгом,
подвыванием и кряком. Ночь и шабаш…
Хорошо, нашлись люди, которые поняли это и помогли вовремя уехать. Франция, Швейцария… Однако даже
в свободной Швейцарии не удалось избежать лагеря —
пусть и не концентрационного, не лагеря смерти, где людей
превращали в жалких рабов, мучили и педантично стирали
в прах. Но и лагерь для беженцев, для перемещенных лиц
не был пансионом. Все, кто оказался здесь, томились и бедовали, чувствуя себя шлаком, который не выбрасывают
только из милости.
За меня хлопотали: как же, все-таки известный певец!
Но тех, кто заправлял делами, не слишком это волновало.
А когда я, изнуренный всеми передрягами, серьезно занемог,
увы, никто не поспешил с помощью…
Так все и кончилось, остались только голос и песни…
С шипением и хрипотцой старых звукозаписей, которым
эта женщина так вдохновенно внимает. Иного слова, пожалуй, и не подберешь. Именно вдохновенно. Ей не помеха
потрескиванья, шуршание, шорох… Она внимает самому
важному — именно тому, что способна услышать только
одаренная, поющая душа.