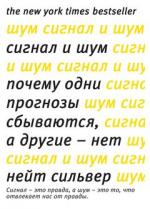- Бернхард Шлинк. Женщина на лестнице. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015.
Издательство «Азбука» выпускает новую книгу Бернхарда Шлинка, автора всемирного бестселлера «Чтец». Немецкий писатель, одновременно являющийся известным юристом, подготовил очередную захватывающую историю, напоминающую настоящий детектив. Действие романа «Женщина на лестнице» происходит вокруг картины, исчезнувшей на сорок лет и неожиданно появившейся вновь. С загадочным полотном и героиней, изображенной на нем, связана драма несовпадений: Шлинк исследует природу нелюбви и невозможности любви, когда людям мешают быть вместе не обстоятельства, а собственные характеры.
19
Мне действительно не было страшно. Я сознавал, что собираюсь совершить проступок, из-за
которого в случае провала с моей адвокатской
карьерой будет покончено. Мне это было безразлично. Мы начнем с Иреной другую, счастливую
жизнь. Можно уехать в Америку, я буду подрабатывать официантом в ночном ресторане, а днем
учиться в университете, опять добьюсь успеха,
хоть юристом, хоть врачом или инженером. Если
Америка не примет скомпрометированного юриста, почему бы не двинуть в Мексику? Я без труда выучил в школе английский и французский,
не возникнет особых проблем и с испанским.Но перед сном меня охватил такой озноб, что
зубы застучали. Меня продолжало знобить, хотя
я накрылся всеми одеялами и пледами, которые
сумел найти. В конце концов я заснул. Под утро
проснулся весь мокрый от пота в отсыревшей постели.Чувствовал я себя хорошо. Ощущал легкость
и одновременно неимоверную силу, которой ничто не сможет противостоять. Это было удивительное, неповторимое ощущение. Не помню,
чтобы я когда-либо испытывал его — раньше
или позднее.Начался воскресный день. Я позавтракал на
балконе, светило солнце, в ветвях каштана щебетали птицы, от церкви донесся колокольный
звон. Мне подумалось о венчании: венчалась ли
Ирена в церкви и захочет ли она венчаться со
мной, как она вообще относится к Церкви? В мечтах мне представились картинки нашей совместной жизни во Франкфурте, сначала на балконе
этого дома, потом на балконе большой квартиры
в Пальмовом саду, затем в парке под старыми
деревьями на другом берегу реки. Я видел себя
на борту океанского лайнера, везущего нас через
Атлантику. Я попрощался с прошлым, с юридической фирмой, с Франкфуртом и всеми, кто там
жил. Прощание было безболезненным. К своей
прошлой жизни я испытывал спокойное равнодушие.Я выехал из дому рано, но едва не опоздал.
В деревне был праздник, рыночную площадь
и главную улицу перекрыли, машины с трудом
пробирались по боковым улочкам. Припарковавшись у кладбища, я отыскал тропинку через
виноградники, по которой, как мне показалось,
можно сократить путь, однако из этого ничего
не получилось; я вышел на лесную дорогу, ведущую к кварталу, где находился дом Гундлаха.
Когда меня обогнала машина, в голове мелькнула мысль, что Швинд тоже может поехать этой
дорогой и заметить меня, поэтому я свернул на
боковую дорожку, скрытую деревьями и кустарником.Я постарался одеться неброско: джинсы, бежевая рубашка, коричневая кожаная куртка,
солнечные очки. Но, выйдя из леса на воскресные пустынные улицы, где иногда видел на террасе семейство, сидящее под тентом, я почувствовал, будто все глаза уставлены на меня — глаза
тех, кто сидит на террасах, и тех, кто стоит за окнами. Кроме меня, на улице не было ни одного
пешехода.Отказавшись от кратчайшего пути, на котором
меня мог увидеть Швинд, я поблуждал по параллельным и боковым улочкам квартала и добрался
до дома Гундлаха в пять часов с минутами. Парковочное место перед гаражом пустовало. Укрывшись за мусорным контейнером и кустами сирени, я принялся ждать. Я внимательно осмотрел
дорожку к дому, сам дом, гараж с одной открытой и другой закрытой дверной створкой, в гараже стоял «мерседес», а на дорожке к дому нежилась на солнышке кошка. По другую сторону от
дома на склоне холма зеленела лужайка, там росли невысокие сосны; я прикинул, что смогу зигзагами от сосны к сосне добежать до микроавтобуса. Нужно будет как можно скорее спрятаться
за ним, чтобы меня не заметил случайный прохожий или кто-нибудь из соседнего дома или,
заметив, не понял, что за тень мелькнула возле
машины.«Фольксваген» Швинда я услышал издалека: постреливал неисправный глушитель. Микроавтобус ехал быстро. Чихая и дребезжа, он стремительно повернул с дороги к дому, спугнул кошку и резко затормозил у входа. Из машины никто
не вышел; помедлив, она сдала назад, развернулась и встала перед входом так, чтобы выехать обратно напрямую. Потом дверцы открылись, Ирена и Швинд вышли: она молча, он ворча, — я расслышал «Какого черта?» и «Вечно твои нелепые
идеи!». Потом отворилась дверь дома, Гундлах
поздоровался с гостями, пригласил их войти.Пора, сказал я себе. Люди за окнами, чье внимание привлек к себе шумный «фольксваген»
Швинда, очевидно, вернулись к своим прежним
занятиям. Перебежав через дорожку, я спрятался
за первой сосной, потом бросился дальше, споткнулся, упал, дополз до следующей сосны, встал
и, хромая на саднящую ногу, пробежал мимо последней сосны к микроавтобусу. Открыв дверцу,
я залег у переднего сиденья так, чтобы меня не
было видно снаружи, но чтобы сам я мог видеть,
что там творится; потом вставил ключ в зажигание. Оставалось ждать.Болела нога, затекла спина. Но я продолжал
чувствовать утреннюю легкость и силу, а потому
ни на минуту не усомнился в том, что я делаю.
Через некоторое время я услышал открывшуюся
дверь дома и ворчание Швинда — то ли помогавший ему камердинер был медлителен, невнимателен, бестолков, то ли Швинду не понравилось,
что пришлось обходить машину, дверь которой
он с трудом отодвинул. С таким же ворчанием он
уложил картину в багажное отделение и задвинул дверцу; дождавшись, когда щелкнет замок,
я повернул ключ зажигания.Двигатель завелся сразу; пока Швинд сообразил, в чем дело, закричал и заколотил по машине, я уже рванул с места; он кинулся за мной,
однако я сумел набрать скорость, он успел дотянуться до пассажирской дверцы и дернуть ее,
но не смог ни запрыгнуть, ни заглянуть внутрь.
В зеркале заднего вида я видел, как он бежит следом, отстает, делаясь все меньше и меньше, пока
наконец не остановился.20
Я доехал до поворота за домом, через минуту-
другую вышел из микроавтобуса, обошел его кругом, задвинул дверцу салона, захлопнул дверцу рядом с водителем, которую успел распахнуть
Швинд и которую я не сумел на ходу прикрыть.
Картину мне осматривать не хотелось, сам не
знаю почему.Потом я стал ждать. Я глядел на стену, через
которую собиралась перелезть Ирена; это была
побеленная каменная стена высотой два метра
с бордюром из красного кирпича. Взглянул на
живую тисовую изгородь соседнего участка, высокую и плотную, примыкавшую, словно зеленая
стена, к белой стене гундлаховского сада. Потом
посмотрел на забор участка внутри поворота —
он тоже был высокий, к тому же наглухо зарос
плющом и выглядел столь же неприветливо, как
белая каменная стена. Я глядел на голубое небо,
слышал доносившийся из садов птичий щебет,
далекий собачий лай. Неожиданно я почувствовал себя зажатым между стеной и забором. Меня опять зазнобило, как ночью, и я испугался не
знаю чего. Того, что Ирена не придет?Но Ирена вдруг появилась. Сидя на стене, ясноглазая, сияющая, улыбающаяся, она подобрала волосы, откинула их назад, а потом спрыгнула со стены. Я обнял ее и подумал, что теперь все
будет хорошо. Я был счастлив. Запыхавшись, она
прислонилась ко мне, чтобы отдышаться, потом
быстро поцеловала меня и сказала:— Надо уезжать отсюда.
Она захотела сесть за руль. В деревне шел
праздник, из-за которого мы бы застряли, а преследователи смогли бы нас догнать, поэтому Ирена сказала, что безопасней свернуть перед деревней на дорогу, ведущую в горы, сделать большой
крюк и въехать в город с востока. А мне, дескать,
лучше выйти из микроавтобуса перед деревней
и вернуться в город на своей машине, чтобы ее
не нашли в деревне.— Как там узнают мою машину?
— Лучше не рисковать.
— Рисковать? Разве я не мог, приехав на
праздник, выпить вина и уехать в город на такси, оставив собственную машину?— Пожалуйста, сделай, как я прошу. Мне так
будет спокойнее.— Когда мы увидимся? И что с твоими вещами? Может, нужно их забрать, пока Швинд не
вернулся? А картину надо выгрузить и машину
куда-то поставить, пока полиция…— Тсс… — Она закрыла мне рот ладонью. —
Я обо всем позабочусь. Без вещей, которые остались у Швинда, я обойдусь.— Когда ты придешь ко мне?
— Позже, когда все улажу.
Она высадила меня у деревни, поцеловав на
прощанье, я забрал машину и поехал домой. Сделать крюк, спрятать картину в каком-то месте,
которое она, видимо, подготовила заранее и хотела сохранить от меня в тайне, поставить где-то
микроавтобус, взять такси — на все это понадобится часа два, и только потом она придет ко мне.Но еще до того, как истекли два часа, я впал в
смятение; я ходил по комнате из угла в угол, то
и дело выглядывал из окна, сделал себе чай, забыл вынуть из чайника заварку, через некоторое время снова сделал чай и опять забыл в нем
заварку. Как она справится с картиной? Сумеет
ли донести ее? Или у нее есть помощник? Кто?
Или все-таки сумеет донести сама? Почему она
не доверяет мне?Через два часа я придумал объяснение, почему она до сих пор не пришла, через три часа
придумал новое объяснение, а через четыре часа
еще одно. Всю ночь я выдумывал разные причины, пытаясь утихомирить свои опасения, что
с ней что-то случилось. Этими опасениями я пытался заглушить страх, что она не придет, потому что не хочет прийти. Тревога за нее — так
тревожатся друг за друга влюбленные, так друг
беспокоится за друга, мать за ребенка.Тревога сближала меня с Иреной, поэтому,
когда под утро я обзванивал больницы и полицейские участки, мне казалось естественным представляться ее мужем.Когда начало светать, я понял, что Ирена не
появится.21
В понедельник позвонил Гундлах:
— Вы, очевидно, уже слышали о Швинде.
Порядка ради я хочу подтвердить эти сообщения. Моя жена исчезла, картина тоже. Мои люди выясняют, вел ли Швинд со мной двойную
игру. Так или иначе, в ваших услугах я больше
не нуждаюсь.— Я никогда не состоял у вас на службе.
Он рассмеялся:
— Как вам будет угодно. — Гундлах положил трубку.
Спустя несколько дней я получил от него уведомление, что никаких свидетельств двойной
игры Швинда не обнаружено. Я оценил порядочность Гундлаха, посчитавшего необходимым известить меня об этом. Швинд вообще больше не
объявлялся.Мне удалось разузнать, что после того дня,
утро которого мы провели вместе, Ирена больше
не появлялась в Музее прикладного искусства,
где она работала, хотя срок ее стажировки еще
не истек. Я выяснил также, что, помимо съемной
квартиры, где она жила со Швиндом, у нее имелась еще и собственная квартира, ее убежище,
о котором ничего не знали ни друзья, ни подруги. Соседка не сумела вспомнить, когда она в последний раз видела Ирену, — когда-то давно.Я был уязвлен, опечален, разозлен. Я тосковал по Ирене и, открывая почтовый ящик, порой
надеялся найти письмо от нее или хотя бы почтовую открытку. Тщетно.Однажды, спустя два года, мне показалось, что
я увидел ее. В районе Вестланд, неподалеку от
нашего офиса, студенты захватили пустующий
дом, а полиция выгнала их оттуда. За этим последовала многотысячная демонстрация, которая прошла мимо нашего офиса, и я, стоя у окна,
глядел на толпу. Меня удивляло веселое оживление демонстрантов — ведь они вышли на улицы, возмущенные несправедливостью. Они весело вскидывали сжатый кулак, задиристо выкрикивали свои лозунги или передвигались бегом,
взявшись под руки. У них были хорошие лица,
отцы несли малышей на плечах, матери вели детей за руку; много молодежи, школьники и студенты, несколько рабочих в комбинезонах, солдат, солидный мужчина в костюме и при галстуке.Неожиданно я увидел Ирену — или она померещилась мне; я бросился по лестнице вниз, на
улицу, побежал вдоль колонны; несколько раз я
находил похожее лицо, думал, что именно из-за
него обознался, глядя на демонстрантов из окна,
но все-таки продолжал искать до тех пор, пока
отделившаяся от колонны группа молодых людей не взломала двери пустующего дома; тогда
прибыла полиция и начались стычки с демонстрантами.Со временем раны зарубцовываются. Но мне
никогда не хотелось вспоминать историю с Иреной Гундлах. Особенно после того, как я понял,
насколько я был смешон. Неужели не понятно,
что не может добром кончиться дело, начавшееся с обмана, что мне не место за рулем угнанной
машины, что женщины, перелезающие через стену, сбегающие от своих мужей и любовников, не
для меня и что я позволил себя использовать?
Любой здравомыслящий человек сразу бы все
понял.Всю смехотворность, постыдность собственного поведения я переживал с особой остротой
при воспоминании, как ждал Ирену у садовой
стены, терзаясь сомнениями, придет она или не
придет, захочет или не захочет меня, при воспоминании о дурацких темных очках, моем ознобе
и страхе, при воспоминании, как я обнял ее, как
был счастлив, думая, что она тоже счастлива. Эти
воспоминания были мне физически неприятны.Я снова и снова утешал себя мыслью, что, не
случись этого сумасбродства, мой будущий брак
не сложился бы так удачно. Нет худа без добра,
любила говорить моя жена.Прошлого не изменишь. Я давно смирился
с этим. Трудно только смириться с тем, что снова и снова не понимаешь прошлого. Возможно,
и впрямь не бывает худа без добра. А возможно,
всякое худо только и бывает что худым.
Метка: Азбука-Аттикус
Джонатан Кэрролл. Замужем за облаком
- Джонатан Кэрролл. Замужем за облаком. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 544 с.
В издательстве «Азбука» впервые на русском языке выходит полное собрание рассказов и повестей современного классика Джонатана Кэрролла, которого признавали своим учителем Нил Гейман («Американские боги») и Одри Ниффенеггер («Жена путешественника во времени»). Подобно художнику-сюрреалисту он превращает обыденное в чудесное, обращается к теме тайных снов и исследует сокровенные глубины человеческого сердца. Под пером Кэрролла собаки обретают голос, а у людей вырастают крылья.
ЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК ДРУГА
1 Это было во всех газетах. Две даже опубликовали одинаковые заголовки: «ЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК ДРУГА!» Но я увидел все это лишь гораздо позже, когда вернулся домой после пребывания в больнице и шок начал проходить.
Впоследствии обнаружились вдруг десятки очевидцев. Но я не припомню, чтобы в тот день видел кого-нибудь поблизости — только Друг и я и очень длинный товарный состав.
Друг — это семилетний джек-рассел-терьер. С виду он похож на дворнягу: ножки-обрубки, непонятный бело-бурый окрас, самая заурядная собачья морда, украшенная умными, милыми глазками. Но, сказать по правде, джек-расселы — редкая порода, и я выложил за него немалую сумму. Хотя до недавних пор у меня никогда не водилось больших денег, чтобы швырять ими, одним из моих принципов всегда было покупать лучшее, когда могу себе это позволить.
Когда пришла пора купить собаку, я начал поиски настоящего пса. Не какой-нибудь вычурной породы, которого пришлось бы вечно подстригать и расчесывать. Не хотелось мне и этих шикарных экземпляров откуда-нибудь из Эстонии или еще какой экзотической тьмутаракани, похожего скорее на аллигатора, чем на собаку. Я ходил по приютам для бездомных животных, заглядывал в собачьи будки и наконец нашел Друга — по объявлению в собачьем журнале. Единственное, что мне в нем не понравилось с первого взгляда, — это его имя: Друг. Слишком пóшло и совсем не подходит собаке, которая выглядит так, будто охотно попыхивала бы трубкой. Даже щенком он имел приземистую посадку и выглядел довольно плотным. Это был Билл или Нед. Ему также пошло бы имя Джек, если бы оно уже не имелось в названии его породы. Но женщина, продавшая его мне, сказала, что ему дали такое имя по особой причине: когда он лаял (что случалось нечасто), получался звук, похожий на слово «друг». Я отнесся к этому скептически, но она оказалась права: пока его братья и сестры тявкали и визжали, этот парень солидно стоял среди них и говорил: «Друг! Друг! Друг!» — в такт движениям своего хвоста. Было странно это слышать, но от этого он понравился мне еще больше. В результате чего и остался Другом.
Я всегда поражался, как хорошо собаки ладят с людьми. Собака так уютно входит в вашу жизнь, выбирает себе кресло, на котором спит, угадывает ваше настроение и без всяких проблем вписывается в его зигзаги. С самого начала собака легко засыпает в чужой стране.
Прежде чем продолжить, должен сказать, что Друг никогда не поражал меня какой-то своей особенностью или редкими качествами, он был просто очень хорошим псом — всегда радовался, когда я приходил с работы, и любил класть голову мне на колени, когда я смотрел телевизор. Но он не был каким-нибудь Джимом-Чудо-Псом — Друг не умел считать, или водить автомобиль, или творить еще какие-либо чудеса, о которых иногда читаешь в статьях про собак, обладающих «особыми» способностями. Еще Друг любил омлеты и выходил со мной на пробежку, если не шел дождь и я не убегал слишком далеко. Во всех отношениях я приобрел именно то, что хотел: пса, застолбившего местечко в моем сердце своей верностью и радостью, которую он доставлял. Он никогда не просил ничего взамен — разве что пару ласковых шлепков да уголок кровати, чтобы спать там, когда холодало.
Это случилось в ясный солнечный день. Я надел тренировочный костюм и кроссовки и проделал несколько разминочных упражнений. Друг наблюдал за мной из кресла, но, когда я собрался выйти на улицу, соскочил на пол и направился со мной к двери. Я открыл ее, и он выглянул, проверяя погоду.
— Хочешь со мной?
Если он не хотел, то проделывал свою обычную процедуру — падал на пол и не двигался до моего возвращения. Но на этот раз он завилял хвостом и вышел вместе со мной. Я был рад его компании.
Мы побежали вниз к парку. Друг любил бегать со мной, футах в двух поодаль. Когда он был щенком, я пару раз спотыкался об него, так как он имел обыкновение путаться под ногами, ничуть не сомневаясь, что я всегда внимательно слежу за ним. Но я из тех бегунов, кто на бегу видит все, кроме того, что прямо под ногами. В результате у нас случилось несколько грандиозных столкновений, вызвавших бешеное тявканье, после чего он стал осторожнее относиться к моим навигационным способностям.
Мы пересекли Гарольд-роуд и пробежали через Обер-парк по направлению к железной дороге. Добравшись дотуда, мы пробежали мили полторы вдоль полотна до станции, а потом не спеша повернули обратно к дому.
Друг так хорошо знал дорогу, что мог себе позволить делать по пути остановки — чтобы отдохнуть, а заодно обследовать новые интересные отметины и запахи, появившиеся с нашей последней прогулки в этих местах.
То и дело проходил поезд, но его было слышно издалека, и вполне хватало времени отойти в сторону, освобождая ему дорогу. Я любил, когда мимо проходил поезд, любил слышать, как он громыхает позади и обгоняет тебя, пока ты ускоряешь темп, чтобы посмотреть, как долго сможешь тягаться с машиной. Некоторые машинисты узнавали нас и приветствовали при обгоне пронзительным гудком. Мне это нравилось, и Другу, наверное, тоже, потому что он всегда останавливался и пару раз лаял — просто чтобы они знали, кто здесь главный.
В то утро мы были на полпути к станции, когда я услышал приближающийся поезд. Как всегда, я оглянулся, ища Друга. Он весело бежал в нескольких футах от меня, свесив розовый язык.
Когда грохот поезда приблизился, я увидел, что в паре сотен футов впереди нас автомобиль переезжает полотно. Ну и болван этот водитель — ведь поезд так близко! Что за спешка? Когда я подумал об этом, поезд был уже совсем близко слева. Я взглянул направо еще раз проверить, где Друг, но его не было. Я крутил головой и так, и эдак, но не увидел его нигде поблизости. В полной панике я заметался и обнаружил его между рельсов — пес обнюхивал какого-то мертвого зверька, и все его внимание было сосредоточено на этом.
— Друг! Сюда!
Он завилял хвостом, но не поднял головы. Я бросился к нему, окликая снова и снова.
— Друг! Брось это, Друг!
Тон моего голоса наконец достучался до его сознания, и, когда поезд был уже всего в пятнадцати-двадцати футах и уже включил тормоза, пес оглянулся.
Я бежал изо всех сил, из-под кроссовок летели камни.
— Друг, прочь!
Он не знал этих слов, но по тону решил, что сейчас будет страшная трепка. И сделал самое худшее из всего возможного — втянул голову в свои маленькие плечики и стал ждать, когда я доберусь до него.
Поезд был уже рядом. За мгновение до прыжка я понял, что выбор у меня один, но я его сделал еще до того, как двинулся. Бросившись к моему Другу, я изогнулся и попытался схватить его и одновременно откатиться с пути поезда. И мне это почти удалось. Почти удалось — если не считать моей ноги, которая, когда я прыгнул, вытянулась сзади, и ее начисто отрезало огромными колесами.
1 В больнице я познакомился с Язенкой. Язенкой Чирич. Никто не мог как следует выговорить «я-ЗЕН-ка», и потому люди долго звали ее Джаз.
Ей было семь лет, и бóльшую часть своей жизни она провела подключенной то к одному, то к другому зловещему аппарату, помогавшему ей в долгой безнадежной борьбе с ее непослушным телом. Ее кожа была цвета белой свечки в темной комнате, губы фиолетовые, цвета какой-то иностранной валюты. Болезнь сделала девочку серьезной, в то время как юность поддерживала в ней жизнерадостность и надежду.
Поскольку она провела столько времени в постели в больничных палатах, в окружении незнакомых лиц, белых стен и немногочисленных картинок на них, у нее было лишь два любимых занятия: чтение и телевизор. Когда она смотрела телевизор, ее лицо напрягалось, а потом приобретало выражение торжественности и полной сосредоточенности — как у члена семьи, впервые оглашающего чье-то завещание. Но когда она читала, какая бы книга ни попалась, ее лицо не выражало ничего, никаких чувств.
Я познакомился с ней, потому что она прочитала в газете про меня и Друга. Через неделю после случившегося в мою палату пришла одна из медсестер и спросила, не соглашусь ли я встретиться с Джаз Чирич. Когда она рассказывала мне про девочку и ее состояние, мне представился больной ангел с чертами Ширли Темпл или, по крайней мере, Дарла из «Маленьких мошенников».
Но вместо этого у Язенки Чирич оказалось характерное, интересное личико с резкими, тесно посаженными чертами. Ее густые черные волосы вились, как шерстяная набивка в старинной мебели, и были почти того же цвета.
Представив нас друг другу, медсестра ушла по своим делам, а Джаз села на стул у моей койки и осмотрела меня. Меня все еще беспокоили страшные боли, но я заранее решил вести себя не слишком жалостно. И этот визит был моим первым шагом в данном направлении.
— Какая ваша любимая книга?
— Не знаю. Наверное, «Великий Гэтсби». А твоя?
Она пожала плечами и цокнула языком, словно ответ был самоочевидным:
— «Дамы в горящих ночных рубашках».
— Это такая книга? И кто ее написал?
— Эган Мур.
Я улыбнулся. Эган Мур — это мое имя.
— О чем же эта книга?
Она очень внимательно посмотрела на меня и стала разматывать одну из тех бесконечных и бессвязных историй, какие могут любить только дети.
— Тогда чудовища спрыгнули с деревьев и утащили их в страшный замок, где злой король Скальдор…
Что мне в этом нравилось — это как она демонстрировала все происходящее. У Скальдора было страшное косоглазие, и Джаз в совершенстве его изображала. Когда кто-то подкрадывался, она сгибала пальцы, как ведьмины когти, и они дьяволятами, будто на цыпочках двигались через разделяющее нас пространство.
— …И они вернулись домой как раз к своей любимой телепередаче.
Она откинулась на стуле, утомленная, но явно довольная своим представлением.
— Похоже, это действительно жуткая книга. Жаль, что не я ее написал.
— Да, жуткая. А теперь можно спросить вас?
— Конечно.
— Кто сейчас заботится о Друге?
— Моя соседка.
— Вы видели его после того случая?
— Нет.
— Вы сердитесь на него, что из-за него остались без ноги?
Я на минутку задумался, решая, как с ней говорить: как с ребенком или как со взрослой. Быстрый взгляд на ее лицо сказал мне, что она требует взрослого отношения, у нее нет времени на пустые разговоры.
— Нет, я не сержусь на него. Наверное, я злюсь на кого-то, но не знаю на кого. Не знаю, виноват ли тут кто-нибудь. Но на Друга я точно не сержусь.
После этого она приходила ко мне каждый день. Обычно утром, когда мы оба были отдохнувшими и бодрыми после сна. По утрам я чувствовал себя хорошо, но во второй половине дня, как правило, нет. По какой-то причине громадность случившегося со мной и то, как это повлияет на всю мою дальнейшую жизнь, входили ко мне в дверь вместе с обеденным подносом и оставались еще надолго после приемных часов. Я думал о всякой ерунде вроде птиц, что целый день стоят на одной ноге, или о проблеме, возникающей у одноногого в случае необходимости пнуть кого-то в задницу. О том, что такие слова, как «пинать», больше не будут входить в лексикон моего тела. Я знал, что теперь делают замечательные протезы — Наука На Марше! — но это утешало мало. Мне хотелось получить обратно мою ногу, а не предмет, который в лучшем случае сделает меня «как новеньким», по неизменному выражению моего врача, когда мы говорили об этом.
Мы с Джаз подружились. Она сделала мои больничные дни счастливее, а мой взгляд на мир шире. В своей жизни я знал лишь двух смертельно больных людей — мою мать и Язенку. Обе смотрели на мир одинаково требовательными, но благодарными глазами. Когда остается не так много времени, кажется, что способность глаз видеть увеличивается десятикратно. И порой они видят детали, на которые раньше не обращали внимания, но которые вдруг оказываются важной частью всей картины, без них она останется незавершенной. Замечания приходившей в мою палату Джаз насчет наших общих знакомых или о том, как свет через окно падает неодинаковыми пучками, были одновременно зрелыми и неотразимыми. Умирая, она рано научилась смотреть на окружающий мир, каким бы маленьким ее мир ни был, взглядом поэта, философа-циника, художника.
В первый день, когда мне позволили выйти из палаты, моя соседка Кэтлин удивила меня тем, что привела в больницу Друга, чтобы он поздоровался со мной. Обычно собак не пускают в такие заведения, но, учитывая обстоятельства, для него сделали исключение.
Я был рад увидеть старого плута, и прошло на удивление много времени, прежде чем я вспомнил, что из-за него-то и угодил сюда. Он все пытался влезть мне на колени, и мне бы это понравилось, если бы его карабканье не причиняло боли. А так я бросал ему мяч, наверное, тысячу раз, пока болтал с Кэтлин. Через полчаса я спросил у медсестры, нельзя ли спуститься и Джаз, чтобы познакомиться с моим Другом.
Нам это устроили, и мисс Чирич, по уши укутанная в одеяло, была представлена его пройдошеству мистеру Другу. Они торжественно обменялись рукопожатием (его единственный трюк — он любил, когда ему говорили: «Дай лапу!»), и потом, пока мы четверо сидели, наслаждаясь предвечерним солнышком, он позволил ей гладить себя по голове.
Доктор вдохновил меня предпринять небольшую прогулку на костылях, и через полчаса, пока Джаз придерживала Друга, я испытал свои новые алюминиевые костыли, а Кэтлин шла рядом, готовая помочь.
Это было не самое удачное время для испытаний. В более счастливые дни я провел немало приятных часов, предаваясь фантазиям, каково бы это было — жить с Кэтлин. Наверное, я тоже ей нравился, несмотря на то что соседями мы стали не так давно. До несчастного случая мы все больше и больше времени проводили вместе, и меня это очень устраивало. Я пытался придумать, как бы добраться до ее сердца. Но теперь, когда посмел оторвать глаза от предательской земли перед собой, увидел на ее лице всю эту ненужную озабоченность и сочувствие. И сильнее, чем когда-либо до или после, ощутил свою утрату.
День был испорчен, но я изо всех сил старался скрыть это от Кэтлин. Я сказал, что устал и замерз, и не лучше ли ей вернуться
к Джаз и Другу? Издали оба казались тихими и серьезными; они напоминали те старые фотографии с американского Запада.— Что это вы там поделывали вдвоем, ребята?
Кэтлин быстро взглянула на меня, не сделала ли она чего-то такого, что заставило меня не слишком деликатно ее прогнать. Я отвел глаза.
Двадцать минут спустя я вернулся на койку, чувствуя себя мерзким, немощным, проигравшим. Рядом зазвонил телефон. Это была Джаз.
— Эган, Друг собирается тебе помочь. Он сказал мне об этом, пока вы гуляли с Кэтлин. И разрешил сказать тебе.
— Правда? И что же он собирается сделать? — Я улыбнулся, подумав, что сейчас она заведет по телефону еще одну из своих дурацких историй. Но мне нравилось слышать ее голос, нравилось, когда она была со мной в палате.
— Он собирается такое сделать! Сказал, что долго думал, как бы сделать тебе самый лучший подарок, и наконец придумал. Я не могу всего раскрыть, потому что он хочет, чтобы это было сюрпризом.
— А на что похож голос Друга, Джаз?
— Напоминает Пола Маккартни.
Каждые пару дней Кэтлин с Другом приходили меня навестить. По большей части мы проводили время втроем, но иногда Джаз чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы тоже спуститься к нам. В таких случаях мы некоторое время сидели вместе, а потом я ковылял на костылях, прогуливаясь с помощью Кэтлин по парку.
Джаз больше ничего не говорила о своих разговорах с Другом, но когда я рассказал Кэтлин про Пола Маккартни, та не могла удержаться от хохота.
Она оказалась поистине милой женщиной и делала все, чтобы жизнь моя и Джаз казалась счастливее. Конечно, от ее доброты и внимания я окончательно влюбился в нее, что только все усложняло и делало хуже. Жизнь начала проявлять свое крайне циничное чувство юмора.
— Я хочу тебе что-то сказать.
— Что?
— Я тебя люблю.
Глаза от страха становятся шире.
— Нет, нет!
— Да, Эган, да, — говорит она мне. МНЕ. — Когда ты вернешься домой, мы сможем жить вместе?
Я смотрю на лужайку. Там в отдалении гуляют Джаз и Друг. Джаз поднимает руку и медленно помахивает ею взад и вперед: ее знак, что все в порядке.
В ночь накануне выписки из больницы я зашел в палату к Джаз с прощальным визитом. На нее снова навалилось какое-то внутреннее недомогание, и она выглядела страшно уставшей и бледной. Я сел рядом с койкой и взял холодную руку девочки. Как я ни пытался отговорить ее, Джаз настояла на своем и рассказала мне длинный отрывок из книги про Слутака, Огненного Вепря. Как и ее семья, Слутак был родом из Югославии; а сюжет разворачивался высоко-высоко в горах, где овцы ходят на двух ногах и где скрываются тайные агенты из разных стран в перерывах между своими секретными заданиями. Джаз была помешана на тайных агентах.
Я слышал много историй про Слутака, но эта последняя превзошла их все. Здесь были и нацистские танки, и Плитвицкие озера, и дядя Вук из Белграда, и кожаное окно.
Закончив, Джаз была еще бледнее, чем до того. Такая бледная, что я испугался за нее.
— Тебе плохо, Джаз?
— Нет. А ты будешь навещать меня каждую неделю, Эган, как обещал?
— Обязательно. Мы будем приходить все втроем, если хочешь.
— Хорошо — но сначала, может быть, только ты и Друг. Кэтлин может остаться дома, если устала.
Я улыбнулся и кивнул. Девочка ревновала к новой женщине в моей жизни. Она знала, что мы с Кэтлин решили попытаться жить вместе. Возможно, у меня хватит духу отбросить жалость к себе и побороться за то, чтобы все пошло так, как надо. Эта борьба определенно меня пугала, но с такой же силой тянуло испытать шансы и возможности.
— Можно позвонить тебе, когда ты будешь мне нужна, Джаз? — Я сказал это, потому что ей нравилось слышать, что она
нужна, даже если она и не вставала с постели, слабенькая, как мышка.— Да, можешь мне позвонить, но мне тоже придется тебе звонить: передавать, что мне сообщает Друг.
— Да, но как ты узнаешь, что он говорит? Он же будет у меня.
Она насупилась и закатила глаза. Ну какой я тупой!
— Сколько раз говорить тебе, Эган? Я получаю послания.
— Ах да, верно. И какое было последнее?
— Друг сказал, что собирается все устроить у вас с Кэтлин.
— Так сказал Друг? Мне казалось, это я сказал.
— Да, ты, но он договорил остальное. Сказал, что тебе нужна помощь. — Джаз проговорила это с таким убеждением!
Что в дальнейшем удивило меня больше всего — это как быстро и легко привыкаешь к совершенно другой жизни. Кэтлин не была ангелом, но отдавала мне всю свою доброту и оставляла нужную мне свободу, отчего я почувствовал себя любимым и вольным — надо сказать, замечательное сочетание. Взамен я постарался давать ей то, что, по ее словам, ей больше всего во мне нравилось: юмор, уважение и взгляд на жизнь — как она считала, иронично-доброжелательный.
В действительности я стал вести две совершенно новых жизни: одну — как партнер, а другую — как инвалид. Это было очень эмоциональное, ошеломляющее время, и не уверен, хотел ли бы я когда-нибудь повторить его, хотя многое в нем было таким возвышенным, каким едва ли будет когда-нибудь еще.
По утрам Кэтлин уходила на работу, оставляя меня и Друга заниматься нашими делами. Это обычно означало неторопливую прогулку до магазина на углу, чтобы купить газету, а потом часик-два мы грелись во дворике на солнышке. Остаток дня проходил в праздности, размышлениях и попытках приспособиться к миру, повернувшемуся ко мне во многих отношениях несколько непривычными сторонами.
Я также часто разговаривал с Язенкой и раз в неделю ходил ее навещать, всегда беря прогуляться и Друга. Если погода была плохая и Джаз не могла выйти, я припарковывал Друга у медсестры Инглиш в регистратуре и забирал его на обратном пути.
Как-то раз я вошел в палату к Джаз и увидел огромную, как мамонт, новую машину, с важным и деловым видом щелкавшую рядом с узкой кроватью девочки. К ней тянулись серебристые и розоватые провода и трубки.
Но больше всего у меня сжалось сердце от ее новой пижамы: с двухдюймовыми роботами и странными существами из «Звездных войн», всевозможных цветов и в разных ракурсах. Джаз давно говорила о ней, еще до того, как я выписался из больницы. Я знал, что родители обещали подарить ей такую пижаму на день рождения, если она будет хорошо себя вести. Я догадался, что она получила подарок раньше срока из-за этой новой машины: дня рождения она могла и не дождаться.
— Эй, Джаз, у тебя новая пижама!
Она сидела очень прямо и улыбалась, чертовски счастливая, с розовой трубкой в носу и серебристой — в предплечье.
Машина урчала фильтрами и гудела, ее зеленые и черные циферблаты регистрировали уровни и чертили диаграммы, говорившие все, но не объяснявшие ничего.
— Знаешь, кто мне подарил ее, Эган? Друг! Он прислал мне ее из магазина. Пижама пришла в коробке моего любимого цвета — красного. Он получил ее и послал мне в красной коробке. Правда, красивая? Посмотри, здесь «эр-два-дэ-два». Вот здесь. — Она указала на пятнышко над пуговицей на животе.
Мы говорили немного о пижаме, о щедрости Друга, о статуэтке очередного персонажа «Звездных войн», которую я принес для ее коллекции. Джаз не касалась в разговоре Кэтлин, и я тоже. Хотя и одобряя Кэтлин в грубоватой, как у сестры, манере, девочка не имела времени на «нее», поскольку теперь его у нас оставалось меньше, чем раньше. Кроме того, теперь у нас с Джаз был еще один отдельный, принадлежавший только нам мир, созданный из больничных сплетен, баек о Друге и сказок Язенки Чирич, самую последнюю из которых, «Ручную гору», мне пришлось еще раз выслушать от начала до конца.
— И тогда Друг подарил Джаз пижаму, и они плюхнулись на кровать и всю ночь смотрели телевизор.
— Друг правда подарил тебе ее, Джаз? Какой молодец!
— Да, молодец! А знаешь что, Эган? Он сказал мне, что сделает так, чтобы ты победил в конкурсе.
— Каком конкурсе?
— Ну, знаешь, из журналов? О котором ты рассказывал мне в последний раз? «Полет за миллион долларов».
— Я выиграю миллион баксов? Это было бы неплохо.
Зажмурившись, она покачала головой и сдвинула в сторону
розовую трубку.— Нет, не миллион. Ты выиграешь сто тысяч. Четвертый приз.
Несколько минут спустя (когда мы решили, как потратить мой выигрыш) пришли мистер и миссис Чирич. Испуг на их лицах при виде новой машины сказал мне, что пора уходить.
В холле миссис Чирич остановила меня и отвела в сторону. Взглянув на мои костыли, она мягко дотронулась до моей руки.
— Врачи говорят, эта новая машина творит чудеса. Но мой муж Здравко не верит им.
Проведя столько времени с Джаз, я чувствовал себя свободно в присутствии миссис Чирич и от всей души восхищался тем, как ей хватает сил день за днем противостоять своему горю.
— Ну, не знаю, дело в машине или просто в новой пижаме, но, похоже, сегодня Язенка и правда неплохо выглядит, миссис Чирич. На ее щечках определенно больше цвета.
Посмотрев мне в глаза, женщина заплакала.
— Я купила ей пижаму на день рождения, вы знаете? А теперь мне не хочется думать про день рождения, Эган. Мне захотелось сделать ей подарок сейчас. — Она попыталась улыбнуться. Потом, не смущаясь, вытерла рукой нос. — Матери очень глупы, да? Я увидела внизу Друга. И сказала ему: «Дай лапу!» И он тут же протянул ее. Вы знаете, Язенка очень его любит. Говорит, что иногда он звонит ей.
Она повернулась и ушла обратно в палату. По дороге домой я представлял, как они с мужем стоят у этой оборудованной койки и безнадежными глазами смотрят на дочь, пытаясь понять, чем в жизни заслужили такое наказание.
Прошло несколько недель. Я снова пошел на работу. Новая машина помогла Джаз. Кэтлин закончила перевозить свои вещи в мою квартиру.
Позвонили с одного из телеканалов и спросили, не соглашусь ли я прийти на передачу о том, как я спас Друга. Я обдумал это и решил отказаться: в газетах и так хватало шумихи, и что-то в глубине души говорило мне, что не следует наживать капитал на этой истории. В знак одобрения Кэтлин крепко обняла меня. Я попробовал посоветоваться с Другом, когда вечером тот лежал у меня на колене, но он даже не приподнял голову.
Жизнь по-настоящему не вернулась в прежнее русло, но несколько сбавила газ и пошла на средних оборотах. События больше не проносились мимо размазанными кляксами, и это было хорошо.
Франк Тилье. Головокружение
- Франк Тилье. Головокружение / Пер. с фр. О. Егоровой. — М.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 320 с.
В новом триллере «Головокружение» Франку Тилье удается создать леденящую и одновременно удушающую атмосферу захлопнувшейся ловушки. Герой романа альпинист Жонатан Тувье, покоривший главные вершины планеты, однажды ночью обнаруживает, что прикован к скале в странной пещере, выход из которой завален. Вокруг холод, лед, тьма, рядом его пес и два незнакомца: один, как и Тувье, прикован цепью к скале, другой может передвигаться, но на нем железная маска с кодовым замком, которая взорвется, если он в поисках спасения переступит красную линию. Невольные узники теряются в догадках: как и из-за чего они оказались здесь, кто манипулирует ими?
5
Несомненно, мечта о блинчике — это всего лишь мечта, а не блинчик. А вот мечта о путешествии — это всегда путешествие.
Высказывание Марека Хальтера, которое Жонатан Тувье любил повторять, сидя в палатке в экспедиции
Мишель и мы с Поком подошли к палатке. Я был вынужден держать пса и все время его успокаивать, потому что он все норовил броситься на парня, который гремел цепью. Пок воспринимал это как угрозу. В обычной обстановке Пок довольно миролюбив. Фарид — Фарид Умад, так звали парня, — пытался разбить цепь о каменную стену. Я думаю, это нелучший способ справиться с ситуацией. Неистовство, рефлексия, гнев… А результат один: мы все оказались здесь, в подземелье, в плену, с нацепленными на спину жуткими надписями.
У меня за спиной послышался звук расстегиваемой молнии. Мишель, согнувшись, полез в палатку. Из нас троих он был самым высоким и массивным.
— Можете посветить? Ни черта не видно.
— Секундочку…
Я выпустил Пока и подошел к Фариду. Внешне он чем-то походил на меня. Вжавшись лицом в скалу, он казался скалолазом на маршруте свободного лазания: заостренные скулы, подбородок опирается о карниз, запавшие глаза глядят пристально, не мигая. Фарид Умад… Я готов был отдать руку на отсечение, что ему не больше двадцати. Интересно, смешение каких кровей дало такие прекрасные голубые глаза? Ведь у арабов это большая редкость.
— Пойдем в палатку. Попробуем хотя бы разобраться, что происходит.
— Что происходит? А я вам скажу, что происходит. Нас похоронили заживо. Вы ведь это мне только что прочли?
Я потрогал письмо у себя в кармане:
— Насчет цепи я уже все перепробовал. Бесполезно. Ладно, пошли.
— А ваш пес? Чего он на меня рычит? Не любит арабов?
— Он тебе ничего не сделает.
— Хорошо бы… Только не это… — Фарид подошел, вызывающе коснувшись Пока.
Пес заворчал, но не пошевелился. Фарид нырнул в палатку. Этот паренек, хоть и невелик ростом — не выше 165 сантиметров — и явно в весе пера, но энергии ему не занимать. Я испугался, как бы он не наэлектризовал нашу компанию.
Я приказал Поку лежать и тоже вошел в палатку. Она была просторная, метра четыре в длину и два в ширину. Как и наши цепи, ее колышки были вбиты в скалу.
Фарид замахал руками у меня перед носом:
— А перчатки? Где мои перчатки?
— Сожалею, но здесь только две пары.
— Только две? Но нас ведь трое?
Мишель ничего не сказал, только натянул на руки рукавицы и забрал себе спальник, сунув его под мышку. Фарид схватил металлический ящик с кодовым замком и встряхнул:
— А что там?
— Посмотри сам.
Я, естественно, говорил ему «ты», ведь он годился мне в сыновья. Я тоже потряс ящик. Он явно тяжелее, чем если бы был пустым, и какой-то предмет внутри его ударялся обо что-то мягкое. Что же до замка… Пожалуй, через некоторое время я размолочу его камнем… В худшем случае нам останется подобрать комбинацию цифр. Их шесть… Значит, миллион вариантов… Невозможно.
— Понятия не имею, что там.
Он выхватил ящик у меня из рук, вышел из палатки и принялся швырять его о скалу. Два раза, три… На сейфе даже царапины не появилось.
Фарид вернулся в палатку и властно щелкнул пальцами:
— Письмо… Прочтите-ка мне это чертово письмо.
Я протянул ему письмо, стараясь угадать в его взгляде хоть искру, которая подсказала бы мне, что я знаю этого неведомого мне паренька. Прошло несколько секунд, и он прижимает письмо к моей груди:
— Что вы такое сделали, чтобы я здесь оказался?
Я осторожно положил шприц возле стенки палатки.
— Сдается мне, ты меня невзлюбил. Почему?
— Почему? У вас фонарь, перчатки, у вас цепь длиннее, чем у меня, и у вас собака. Вот почему!
Подошел Мишель. Он так и не расстался со спальником, и у меня возникло подозрение, что он вообще собрался надеть его на себя и в нем ходить.
— Это верно. Зачем здесь собака? У меня тоже дома собака. Почему только у вас такая привилегия?
— Вы называете это привилегией?
— В такой дыре — конечно да.
— Прежде чем разобраться с этим, нам надо понять, что с нами произошло. И поразмыслить над тем, что написано на наших спинах.
Фарид не сводил с меня глаз. Уже по тому, как он стискивал зубы, я догадался, что парень он вспыльчивый, и такой характер выковался, скорее всего, на улице. Этих ребят из пригородов, с вечно свирепым лицом, я видел на телеэкране. У меня создалось впечатление, что парень на все горазд. Гетто, всяческие рисковые кульбиты, сожженные автомобили… Он подышал на руки, все так же пристально глядя на меня:
— А в чем ваше-то преступление?
— Преступление? Я не совершал никакого преступления. Может, ты? Это ведь у тебя на спине самая ужасная надпись.
Фарид пожал плечами и присвистнул:
— Не катит…
Он отвернулся и уселся в углу палатки.
Мишель решился предложить свой комментарий:
— «Кто будет убийцей, кто будет лжецом, кто будет вором…» Почему не написать прямо: «Кто убийца?» Все эти деяния еще предстоит совершить, так, что ли?
— Или предстоит разоблачить… А это, так сказать, определяет будущее амплуа. Так что на всякий случай: есть ли среди нас убийца?
Я оценивающе уставился на обоих. Фарид обернулся. Он завладел вторым спальником, глянул на пластинки и подпер подбородок кулаками.
— А что это за музыка? Пение птиц… И вот это…
«Wonderful World». На фиг это здесь нужно?
Он пошарил вокруг себя, заметил фотоаппарат и по- вертел его в руках.
— Над нами что, издеваются, что ли?
— Думаю, там остался всего один кадр.
— Ага, фотку щелкнуть, ладно… А мне вот нужна сигаретка, и побыстрее. Вообще-то, я предпочитаю «Голуаз», но согласен на что угодно. Даже на самокрутку. Есть у вас закурить? Что, ни у кого?
Я устроился в центре палатки и положил белую каску у ног, так чтобы свет распространялся равномерно. Ацетиленовый баллон я с себя снял. Холодная сырость леденила лицо, из носа капало, и я вытер его рукавом куртки.
— Предлагаю представиться друг другу. Возможно… у нас есть что-то общее.
— Блестящая идея, — заметил Фарид, — потреплемся, вместо того чтобы попытаться отсюда выбраться. У меня нет ничего общего с тобой и еще меньше — с тем, другим.
Он тоже перешел на «ты» и все время отчаянно тер руки. А он мерзляк, без сомнения. А пещеры мерзляков ох как не любят.
— Приступим, я начну. Меня зовут Жонатан Тувье, мне пятьдесят лет. Жена Франсуаза, девятнадцатилетняя дочь Клэр. В молодости занимался альпинизмом, работал в журнале об экстремальных видах спорта
«Внешний мир». Теперь живу в Аннеси, работаю в конторе, которая называется «Досуг с Пьером Женье».
Ее организовал один из моих друзей. Разные походы, каноэ, рафтинг — в общем, приманка для туристов.
— Так ты из тех, кто спит в спальниках? То есть тебя это не напрягает? Ты в своей стихии, парень, а мне непривычно.
Я не обратил внимания на реплику Фарида и кивнул в сторону Мишеля:
— Теперь вы.
Человек с закованным лицом нервно теребил рукавицы.
— Меня зовут Мишель Маркиз, мне сорок семь лет… исполнится… двадцать седьмого февраля, через два дня. Дома намечалось небольшое торжество, и вот… — Он вздохнул. — У меня жена Эмили… детей нет. Три года я жил в Бретани, в Планкоэте, в деревне, занимался свиньями. — Он стащил рукавицу и показал руку без двух пальцев.
— Я хотел сказать, убоем скота. Ну да, механизмы иногда барахлят… Теперь живу в собственном доме возле Альбервиля и снова занимаюсь свиноводством. Что еще? Ненавижу снег, сырость и туманы.
— А почему Альбервиль, если вы ненавидите снег?
— Да все из-за Эмили. Ее специальность — спортивная обувь. Дизайн, всякие там чертовски сложные штуки. Ее перевели туда по службе, у нас не было выбора.
— Да, Альбервиль — не лучший выбор, там даже купаться негде.
— Ну, это кому как.
Я повернулся к Фариду. Он сразу выпалил:
— Фарид Умад, ты это уже знаешь. Двадцать лет. Живу при богадельне на севере Франции. Детей нет, жены тоже. И никаких неприятностей.
— Ты учишься? Или работаешь?
— Да так, перебиваюсь случайной работой, то тут, то там…
— А еще? Что-то ты не особенно словоохотлив.
— Все, что мне хочется, так это выбраться отсюда, и поскорей.
— Вот в этом, я думаю, мы все заодно.
Я сдвинул рукав пуховика, чтобы посмотреть на часы. Забыл…
— У меня украли часы. А у вас?
Мишель согласно кивнул. Фарид не пошевелился. Он засунул руки под куртку и свернулся, как маленькая гусеница.
— А я часов не ношу. Не люблю.
У нас и время украли. Вся эта тщательность, это внимание к деталям ставили меня в тупик и явно говорили о том, что наша ситуация просто так не разрешится, несколькими часами дело не обойдется. Я все больше опасался худшего. «Вы все умрете». Мне надо выиграть время. Я подошел к Мишелю и начал внимательно изучать маску, особенно замок:
— Ничего не сделать. Надо бы дать вам в челюсть и посмотреть, сдвинется ли маска хоть на несколько сантиметров.
— Нет уж, как-нибудь обойдусь.
— Ладно… Предлагаю обследовать пропасть. Мы с Фаридом ограничены в передвижении, зато вы, так сказать, более свободны. Позади палатки есть галерея. Дойдите-ка до нее и скажите, не ведет ли она наверх.
— Я бы с радостью, да у меня на голове штуковина, которая может взорваться, если я правильно понял.
— Вы правильно поняли. Но судя по тому, что написано в письме, вы имеете право отойти от нас на пятьдесят метров.
Он пожал плечами:
— Не знаю. А если письмо врет? И она взорвется через пять или десять метров?
Фарид, будучи парнем нервным, развлекался тем, что выдувал облачка пара.
— А может, она и вовсе не взорвется? Если все это блеф? И у тебя на башке нет никакой бомбы? Ты можешь свободно передвигаться, и это неспроста! Иначе тебя бы тоже приковали цепью, соображаешь? А потому пойди-ка в галерею и посмотри, можно ли через нее выбраться.
Мишель кивнул:
— Ладно, попробую.
Я поднял баллон с ацетиленом:
— Отлично. Вперед.
— Погодите, я вот что подумал, — сказал Фарид. — Если эта штука может взорваться, отдалившись от нас, значит где-то на нас должен быть взрыватель, так? Надо проверить. Давайте обшарим свою одежду.
Мы обследовали все: карманы, подкладку…
— Хорошо бы совсем раздеться, похититель мог прилепить его скотчем прямо к нашей коже.
Я сжал зубы и сухо бросил:
— Это потом, позже.
— Почему позже? Почему не сейчас?
— Потому что не хочу раздеваться догола перед типами, которых не знаю.
— Ты не хочешь или тебе есть что скрывать?
Эмир Кустурица. Сто бед
- Эмир Кустурица. Сто бед / Пер. с фр. М. Брусовани. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 256 с.
Кажется, знаменитый серб воскрешает в прозе магическую атмосферу лучших своих фильмов. Ткань жизни с ее устоями и традициями, семейными ритуалами под напором политических обстоятельств рвется, сквозь прорехи мелькают то змеи, пьющие молоко, то взрывающиеся на минном поле овцы, то летящие влюбленные («лететь — значит падать?»). В абсурдных, комических, бурлескных, а порой трагичных ситуациях, в которые попадают герои новелл, отразились взрывная фантазия автора, размышления о судьбе его родины, о том, как юность сталкивается с жестоким миром взрослых и наступает миг, когда детство остается далеко позади.
Сам Кустурица объясняет, что действие всех шести рассказов, вошедших в сборник, происходит в последние десятилетия двадцатого века и что написал он их в противоположность и даже назло современной жизни.ПУПОК — ВРАТА ДУШИ «Ослиные годы» Бранко Чопича мне прислали из Белграда по почте. На упаковке стоял штамп главпочтамта Сараева и значился адрес: Алексе Калему, ул. Ябучице Авдо, д. 22. Это была первая посылка, которая пришла на мое имя. В пакет была вложена визитная карточка, на обратной стороне которой Ана Калем, директриса Института международных рабочих связей, написала: «Моему дорогому Алексе на его десятилетие. С днем рождения! Тетя Ана».
Этот подарок не доставил мне удовольствия. Я ушел в школу, преисполненный утренних опасений. Когда колокол возвестил начало большой перемены, я первым завладел взрослой уборной — она так называлась потому, что там курили. Сигареты с фильтром «LD» считались школьными, потому что продавались поштучно. Одной хватало на десятерых третьеклассников.
— Не так! — укоризненно сказал Цоро мальчику по фамилии Црни. — Смотри, вдыхать дым надо так глубоко, чтобы он дошел до самого кончика твоего мизинца на ноге!
С первого взгляда могло показаться, он объясняет, как курить, хотя на самом деле он пользовался этим, чтобы затягиваться чаще, чем подходила его очередь.
— У меня проблемы, — внезапно признался я. — Что мне делать?
— Это зависит… от того, в чем проблема.
— Меня хотят заставить читать книги… А я бы уж лучше в колонию загремел!
— Есть одно средство.
Я чуть не поперхнулся табачным дымом. Перемена, конечно, большая, но не сказать, чтобы на курение нам была отпущена целая вечность.
— Какое?
— Мой братан до конца года должен был прочесть «Красное и черное» Бальзака.
— Стендаля. Бальзак написал «Отца Горио».
— Если не заткнешься, сейчас схлопочешь.
— Но я почти уверен…
— Тебе так важно, что ли, знать, кто написал? Значит, братану в школе сказали: не прочтешь, мол, книжку, останешься в седьмом классе на второй год. Мать привязала его к стулу и пригрозила: «Глаз с тебя не спущу, пока не дочитаешь до конца! Даже если ты сдохнешь, пока будешь читать, а я ослепну, на тебя глядя, но ты его прочтешь, этого чертова мужика!»
— Какого мужика?
— Ну, этого… да Бальзака же! Тут Миралем принялся ныть: «Мам, ну за что?» Но она его отругала: «И ты еще спрашиваешь?! Твой бедный отец был носильщиком. Но ты не повторишь его судьбу! А иначе во что верить…» Так что она привязала его. Как следует!
— Да ладно… И чем?
— Шнуром от утюга! А меня послала в библиотеку за книгой. Я уже собирался бежать, но Миралем знаком подозвал меня и сунул мне в руку записку: «Сходи к мяснику Расиму. Попроси сто пятьдесят ломтиков тонко нарезанного вяленого мяса». Я пошел в библиотеку, а потом к мяснику. Расим нарезал все прозрачными лепестками, чтобы проложить между книжными страницами и подкрепляться. Вечером мать уселась на диван против Миралема с полным кофейником кофе и больше не спускала с моего братца глаз. А он пялился на вяленое мясо, будто читает, и, когда ему хотелось съесть кусочек, придвигал к себе книгу, якобы чтобы перевернуть страницу Бальзака, и вытягивал оттуда прозрачный ломтик. Сто пятьдесят ломтиков — это как раз книга в триста страниц! А мать-то думала, что он все прочел!
Из-за «Ослиных годов» вся наша семья впала в крайнее возбуждение. Вместо того чтобы заниматься важными делами, отец с матерью принялись составлять список шедевров мировой литературы, которые я не читал.
— Мам, а что, если не читать, можно умереть?
Это был первый серьезный вопрос, который я задал матери. Она загадочно улыбнулась и усадила меня на стул. Я испугался, что она одобряет метод матери Цоро и решила взять на вооружение технику связывания.
Если так, то мне не удастся повторить трюк Миралема… Я ненавижу вяленое мясо! Мой желудок бунтует, стоит мне только представить себе сало или жир. Однако у моей матери была своя стратегия.
— Ты только взгляни, какие они умные, — говорила она, поглаживая нарядные корешки. — Достаточно прочесть одну, и непременно узнаешь новое слово. Слыхал о таком правиле?
Проблема обогащения словарного запаса меня вообще не колыхала. Мать показала мне «Виннету» Карла Мая, «Отряд Перо Крвжица» и «Поезд в снегу» Мато Ловрака1. Вся эта суета вокруг чтения меня бесила. Я прямо кипел. Моя тетя была знакома с Бранко Чопичем, что мне особенно не нравилось.
— Лучше бы она была знакома с Асимом Ферхатовичем!2 Тогда я мог бы бесплатно ходить на матчи футбольного клуба «Сараево»!
— Твоя тетя революционерка, Алекса! Тебе не следует говорить такие вещи! Ты не должен проявлять такую ограниченность!
— Что?! Это Хасе ты считаешь ограниченным?
Во мне все бурлило. Я готов был взорваться, если бы при мне кто-то осмелился оскорбить футболиста, который в одиночку разгромил загребский «Динамо» на их поле! Три — один!
— Я не имею ничего против твоего Ферхатовича, сынок, но у тебя оба дедушки — ответственные работники, и ты не можешь не любить книгу!
— Ну и что? Я не обязан из-за этого перестать играть в футбол! Дожить до такого ужаса вам не грозит!
Я все больше распалялся, как огонь на ветру, и тут моя мать вдруг взялась за утюг.
— О нет! — завопил я. — Ведь ты же не собираешься связать меня шнуром?!
— С чего ты взял, что я тебя свяжу? — разволновалась мать. — Что с тобой, совсем спятил?
Психологическое давление не возымело никакого эффекта, меня по-прежнему не тянуло читать что-нибудь, кроме футбольных сводок в «Вечерних новостях». В знак протеста я заинтересовался еще и теми, которые касались второго, третьего и даже четвертого дивизиона. На тумбочке возле моей кровати высилась стопка книг, которые предстояло прочесть в первую очередь. Теперь отец убедился: сделать из меня интеллигентного человека не удастся…
— Если он упрется, ничего не поделаешь… Пускай играет, у него вся жизнь впереди. Может, в один прекрасный день опомнится!
Эти слова проникли в мой сон. Едва мать подоткнула вокруг меня шерстяное одеяло, как я провалился в мучительное видение: передо мной возникла гигантская раковина размером с бассейн турецких бань в районе башни Барчаршия. В раковине плавала мочалка. Издали я увидел приближающегося незнакомца; надо было вынуть мочалку, заткнувшую сливное отверстие. Из крана текла вода; она переливалась через край и затопляла мне голову. Я очнулся в полном сознании, но не мог пошевелить ни рукой ни ногой. Проснувшись посреди ночи и плавая в собственном поту, как сказал бы наш сосед Звиждич, я заорал.
— Что случилось, малыш? — спросила мать. — Почему твое сердечко так испуганно бьется?
Как объяснить ей, что меня сильно потрясли слова отца?— Пожалуйста, скажи Брацо, чтобы оставил меня в покое! — всхлипывал я в объятиях матери, прижавшей меня к груди, чтобы успокоить.
— Ну что ты, Алекса, он желает тебе только добра!
И тут я отчетливо понял фразу «Дорога в ад вымощена благими намерениями»! Господи, сделай так, чтобы у Брацо их оказалось не много!
— Смотри, видишь? — Мать указывала пальцем на мой пупок.
— Да. Ну и что?
— Это врата твоей души.
— Пупок… врата души! Ты смеешься?
— Нет, я серьезно. А книги — пища для души.
— Тогда душа мне не нужна.
— Человек без души не может.
— А душа… что-то ест?
— Нет. Но чтобы она не утратила силы, необходимо читать…
Она пощекотала меня, и я улыбнулся. Но это вовсе не означало, что я попался на ее россказни о душе.
— Я еще не человек.
— Что ты говоришь?
— Человек — это взрослый.
Я вовсе не собирался ссориться с матерью, потому что был уверен в своей правоте. Но меня бесило, что она кормит меня байками.
Желая не то чтобы приохотить меня к чтению, но просто заставить прочесть хотя бы одну книгу, мать вдруг вспомнила, что я член Союза югославских скаутов. И как-то вечером принесла в мою комнату книгу Стевана Булайича «Ребята с Вербной реки«3.
— На, прочти! И ты об этом не пожалеешь, сынок!
— Азра, умоляю! Лучше накажи! Хочешь, заставь меня встать коленками на рис, только давай перестанем мучить друг друга!
— За что же тебя наказывать? Ты не сделал ничего плохого!
— Потому что ваше чтение — настоящее мучение! У меня уже на третьей странице глаза слипаются, и мне это ничего не дает! Лучше рис под коленками, чем ваши книги!
Раз уж история со скаутами потерпела неудачу, мать решила обратиться к более популярной литературе. Зная, что ковбоям я предпочитаю индейцев, она на свою тринадцатую зарплату купила для меня полное собрание книг Карла Мая. Однако милый индеец имел не больше успеха, чем предыдущие герои. Как и раньше, мои глаза начинали косить на третьей странице, на четвертой останавливались, а на пятой каменело мое сознание.
Исчерпав свое терпение, отец вынужден был стоически смириться с мыслью, что среди Калемов интеллигентных людей больше не будет.
— Сынок, если так и дальше пойдет, кончится тем, что ты, как герой русской литературы Обломов, прочтешь свою первую книгу, когда выйдешь в отставку! — сделал вывод отец за чашкой кофе, под звуки радио Сараева, передававшего бодрые утренние песни.
1 Мато Ловрак (1899–1974) — крупнейший сербский и хорватский детский писатель.
2 Асим Ферхатович (1933–1987) — один из самых популярных сараевских футболистов.
3 «Ребята с Вербной реки» — повесть о жизни югославских ребят, воспитанников дома сирот войны, об их мужестве и дружбе, которая помогает им выследить и поймать опасного преступника. (В оригинале «Скауты с озера выдр», но такой книги на русском языке нет.)
Мария Семенова. Братья. Книга 1. Тайный воин
- Мария Семенова. Братья. Книга 1. Тайный воин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 608 с.
«Тайный воин» — первая книга нового цикла «Братья» писательницы Марии Семеновой, написанного ей не в соавторстве. В основу романа легла идея о мире, пережившем природную катастрофу и погрузившемся в вечную зиму, где жизнерадостную, праздничную веру сменила угрюмая, жестокая религия, могущество которой ревностно охраняется тайными воинами.
НАЧИН Ветка рябины — Наша девчушка гоит1 ли? — спросил мужчина. — Всё из
памяти вон, Айге, как ты её назвала?Женщина улыбнулась:
— Больше ругаю Баламошкой, потому что она умница и
опрятница. А так — Жилкой.Мужчина рассеянно кивнул:
— Жилкой… ну да. Привезёшь однажды, покажешь.
Если бы не разговор, ускользавший от посторонних ушей,
они выглядели бы самыми обычными странствующими торгованами, каких много в любом перепутном кружале. Двое крепких молодых парней, скромно помалкивавших в уголке, сошли
бы за сыновей.— Привезу, — пообещала Айге. — Вот наспеет, и привезу.
Ты, Ветер, едешь ли за новыми ложками по весне?Он снова кивнул, поглядывая на дверь:
— В Левобережье… за Шегардай.
— А я слышала, гнездари бестолковы, — поддела Айге.
Ветер усмехнулся, с уверенной гордостью кивнул на одного из детин:
— Вот гнездарь!
В большой избе было тепло, дымно и сыровато. В густой
дух съестного вплетались запахи ношеных рубах, сохнущей кожи, влажного меха. По всем стенам сушилась одежда. Снаружи мело, оттепель раскачивала лес, ломала деревья, забивала хвойник густыми липкими хлопьями. Хорошо, что работники загодя насушили целую сажень дров. Все знают, что печь
бережливее греет скутанная, но гостям по сердцу, когда в отворённом горниле лопаются поленья и дым течёт живым коромыслом, ныряя в узенький волок. А гости были такие, что угодить им очень хотелось. В кружале третий день гулял с дружиной могучий Ялмак по прозвищу Лишень-Раз. С большого
стола уже убрали горшки и блюда с едой, воины тешили себя
игрой в кости.— Учитель… — подал голос парень, сидевший рядом с наставником.
Вихры у него были пепельные, а глаза казались то серыми,
то голубыми.Ветер не торопясь повернул голову:
— Что, малыш? Спрашивай.
— Учитель, как думаешь, где они всё это взяли?
За стеной, в просторных сенях, бойко шёл торг. Отроки
продавали добычу. Да и старшие витязи у стола, где выбивали
дробь костяные кубики, ставили в кон не только монету. Зарево жирников скользнуло по тёмно-синему плащу, расшитому
канителью. Сильные руки разворачивали и встряхивали его,
стараясь показать красоту узорочья — да притаить в складках
тёмное пятно с небольшой дыркой посередине.Айге положила ногу на ногу и заметила:
— Вряд ли у переселенцев. Те нищеброды.
Ветер пожал плечами. В серых глазах отражались огни, русую бороду слева пронизали морозные нити.
— Источница Айге мудра, — сказал он ученикам. — Однако в поездах, плетущихся вдоль моря, полно варнаков и ворья. Мало ли как они плату Ялмаку собирали.
За столом взревели громкие голоса. К кому-то пришла хорошая игра. Брошенные кубики явили два копья, топор и щит
против единственных гуслей. Довольный игрок, воин с как
будто вмятой и негоже выправленной левой скулой, подгрёб
к себе добычу. Кости удержали при нём плащ, добавив резную
деревянную чашу с горстью серебра и тычковый кинжал в дорогих ножнах.Ветер задумчиво проводил взглядом оружие:
— А могли и с соищущей дружиной схватиться…
Беседа тянулась вяло, просто чтобы одолеть безвременье
ожидания.— Отважусь ли спросить, как нынче мотушь? — осторожно полюбопытствовала Айге.
Ученики переглянулись. Ветер вздохнул, голос прозвучал
глухо и тяжело:— Живёт, но не знает меня.
— А о единокровных что-нибудь слышно?
Ветер оторвался от наблюдения за игрой, пристально посмотрел на Айге:
— Двоих, не желавших звать меня братом, уже преставила Владычица…
— Но младший-то жив?
Глаза Ветра блеснули насмешкой.
— Говорят, Пустоболт объявился Высшему Кругу и вступил в след отца.
— Пустоболт, — с улыбкой повторила Айге.
— Если не врёт людская молва, — продолжал Ветер, — старый Трайгтрен ввёл его в свиту. Может, ради проворного меча,
а может, надеется, что Болт ещё поумнеет.Над большим столом то и дело взлетал безудержный смех,
слышалась ругань, от которой в ином месте давно рассыпалась
бы печь. Здешняя, слыхавшая и не такое, лишь потрескивала
огнём. Канительный плащ так и не сменил обладателя, увенчавшись витой гривной и оплетённой бутылкой. Щедрый победитель тут же распечатал скляницу, пустил вкруговую. Как
подобало, первым досталось отхлебнуть вожаку. Под хохот
дружины Лишень-Раз сделал вид, будто намерился одним
глот ком ополовинить бутыль. Он выглядел вполне способным
на это, но, конечно, жадничать не стал. Отведал честно, крякнул, передал дальше. Два воина за спиной воеводы стерегли
стоячее копьё, одетое кожей. Из шнурованного чехла казалась
лишь чёлка белых волос и над ней — широкое железко.— Учитель, Мятой Роже везёт шестой раз подряд, — негромко проговорил второй парень. — Как такое может быть?
Ты сам говорил, кости — роковая игра, не знающая ловкости
и науки…Волосы у него были белёсого андархского золота, он скалывал их на затылке, подражая наставнику.
Ветер зевнул, потёр ладонью глаза:
— Удача своевольна, Лихарь. Ты уже видел, что делает с человеком безудержная надежда её приманить.
— А вот и он, — сказала Айге.
Через высокий порог, убирая за пояс войлочный столбунок
и чуть не с каждым шагом бледнея, в повалушу проник неприметной внешности середович. Пегая борода, пегие волосы, латаный обиванец… Как есть слуга в небольшом, хотя и крепком
хозяйстве. Ступал он бочком, рука всё ныряла за пазуху, словно там хранилось сокровище несметной цены.Зоркие игроки тотчас разглядели влезшего в избу.
— Прячь калитки, ребята! Серьга отыгрываться пришёл!
Ученик, сидевший подле наставника, чуть не рассмеялся
заодно с кметями:— А глядит, как тухлое съел и задка со вчерашнего не покидал…
— Не удивлюсь, если вправду не покидал, — сказал Ветер.
Томление бездействия сбежало с него, взгляд стал хищным.
Глядя на источника, подобрались и парни.
Мужичонка по-прежнему боком приблизился к столу, словно до последнего борясь с погибельной тягой, но тут его взяли
под руки, стали трепать по спине и тесней сдвинулись на скамье, освобождая местечко.— Удачными, — обращаясь к ученикам, пробормотал Ветер, — вас я сделать не властен. А вот удатными… умеющими
привести на службу Владычице и удачу мирянина, и его неудачу…Игра за столом оживилась участием новичка. В прошлые
дни Серьга оказал себя игроком не особенно денежным, но забавным. Стоило поглядеть, как он развязывал мошну и вытаскивал монету, которую, кажется, удерживала внутри вся тяга
земная. Долго грел в ладони, словно что-то загадывая… потом
выложил на стол. Когда иссякли шуточки по поводу небогатого кона, в скоблёные доски снова стукнули кости. Пять кубиков подскакивали и катились. Игроки в очередь вершили
по три броска; главней всего были гусли, вторыми по старшинству считались мечи. Когда сочлись, Серьга из бледного стал
совсем восковым. Его монета, видавший виды медяк с изображением чайки, заскользила через стол к везучему ялмаковичу.Лишень-Раз вдруг поднял руку — трезвый, несмотря на всё
выпитое. Низкий голос легко покрыл шум кружала.— Не зарься, брат! Займи ему, с выигрыша отдаст. А проиграется, всё корысть невелика.
Взятое в игре так же свято, как боевая добыча, но слово
вождя святей. Мятая Рожа рассмеялся, бросил денежку обратно. Серьга благодарно поймал её, поняв случившееся как знак:
вот теперь-то счастье должно наконец его осенить!Стукнуло, брякнуло… Раз, другой, третий… Словно чьё-то
злое дыхание поворачивало кости для Серьги кверху самыми
малопочтенными знаками: луками да шеломами. Медная чайка снова упорхнула на тот край. Серьга низко опустил голо-
ву. Если он ждал повторного вмешательства воеводы, то зря.
Ялмак не зря носил своё прозвище. А вот ялмаковичу забава
полюбилась. Монетка, пущенная волчком, вдругорядь прикатилась обратно. Серьга жадно схватил её…— Бороду сивую нажил, а ума ни на грош, — прошипел
Ветер.…и проиграл уже бесповоротно. Дважды прощают, по третьему карают! Витязь нахмурился и опустил денежку в кошель.
Ближний ученик Ветра что-то прикинул в уме:
— Учитель… Ему правда, что ли, двух луков до выигрыша
не хватило? Обидно…Ветер молча кивнул. Он смотрел на игроков.
Серьгу у стола сочувственно хлопали по плечу:
— Ступай уж, будет с тебя. И обиванец свой в кон вовсе не
думай, застынешь путём!Серьга, однако, уходить не спешил. Он медленно покачал
головой, воздел палец, двигаясь, словно вправду замёрзший до
полусмерти. Рука дёрнулась туда-обратно… нырнула всё же за
пазуху… вытащила маленький узелок… Серьга развернул тряпицу на столе, будто не веря, что вправду делает это.— Как же Ты милостива, Справедливая, — шепнула Айге.
На ветошке мерцала серебряной чернью ветка рябины.
Листки — зелёная финифть, какой уже не делали после Беды,
ягоды — жаркие самограннички солнечно-алого камня. Запонка в большую сряду красной госпожи, боярыни, а то и царевны!
Воины за столом чуть не на плечи лезли друг дружке, рассматривая диковину. Сам Ялмак отставил кружку, пригляделся,
протянул руку. Серьга сглотнул, покорно опустил веточку ему
на ладонь. Посреди столешницы уже росла горка вещей. Недаровое богатство, кому-то достанется!Воевода не захотел выяснять, какими правдами попало сокровище к потёртому мужичонке. Лишь посоветовал, возвращая булавку:
— Продай. Сглупишь, если задаром упустишь.
Серьга съёжился под тяжёлым взглядом, но ответил как
о решённом:— Прости, господин… Коли судьба, упущу, а продавать не
вели…Ялмак равнодушно передёрнул плечами, снова взялся за
кружку.И покатились, и застучали кости… На Серьгу страшно стало
смотреть. Живые угли за ворот сыпь — ухом не поведёт! И было отчего. Диво дивное! Им с Мятой Рожей всё время шли
равные по достоинству знаки. Кмети, уже отставшие от игры,
подбадривали поединщиков. Остался последний бросок.Вот кубиками завладел ялмакович. Коснулся оберега на
шее, дунул в кулак, шепнул тайное слово… Метнул. Кмети выдохнули, кто заорал, кто замолотил по столу. Мятой Роже выпало четверо гуслей и меч. Чтобы перебить подобный бросок,
требовалось истое чудо.Серьга, без кровинки в лице, осоловелые глаза, принял кости и, тряхнув кое-как, просто высыпал на стол из вялых ладоней.
И небываемое явилось. Четыре кубика быстро замерли…
гуслями кверху. Пятый ещё катился, оказывая то шлем, то щит,
то копьё. Вот стал медленнее переваливаться с боку на бок……лёг уже было гуслями… Серьга ахнул, начал раскрывать
рот……и кубик всё-таки качнулся обратно и упокоился, обратив
кверху топор.Серьга проиграл.
Крыша избы подскочила от крика и еле встала на место,
дымное коромысло взялось вихрями. Мятой Роже со всех сторон предлагали конаться ещё, но ему на сегодня испытаний
было довольно. Он сразился грудью на выигранное богатство,
подгрёб его к себе и застыл. Потом встрепенулся, поднял голову, благодарно уставился на стропила, по-детски заулыбался —
и принялся раздавать добычу товарищам, отдаривая судьбу.
Серьга тупо смотрел, как рябиновая веточка, в участи которой
он более не имел слова, блеснула камешками перед волчьей
безрукавкой вождя.— Спасибо за вразумление, воевода, твоя мудрость, тебе
и честь!Ялмак отхлебнул пива. Усмехнулся:
— На что мне девичья прикраса? Оставь у себя, зазнобушке в мякитишки уложишь.
Воины захохотали, наперебой стали гадать, какой пышности должны оказаться те мякитишки…
Ветер кивнул ближнему ученику:
— Твой черёд. Поглядим, хорошо ли я тебя наторил.
Парень расплылся в предвкушении:
— Учитель, воля твоя!
Обманчиво-неспешно поднялся, выскользнул за порог. Разминулся в дверях с кряжистым мужиком, казавшимся ещё шире в плечах из-за шубы с воротом из собачьих хвостов. Лихарь
понурил белобрысую голову, пряча полный ревности взгляд.
Айге отломила кусочек лепёшки, обмакнула в подливу.— И надо было мне тащиться в этакую даль, — шутливо
вздохнула она. — Кому нужны скромные умения любодейки,
когда у тебя встают на крыло подобные удальцы!Ветер улыбнулся в ответ:
— Не принижай себя, девичья наставница. Кости могли
лечь инако…Веселье в кружале шло своим чередом. Витязи цепляли за
подолы служанок, хвалили пиво, без скупости подливали
Серьге: не журись, мол, день дню розь, выпадет и тебе счастье.
Он кивал, только взгляд был неживой.Черева у дружинных вмещали очень немало. Обильная
выпивка всё равно отзывала наружу то одного, то другого. Мятая Рожа было задремал у стола, но давняя привычка не попустила осрамиться. Воин протёр глаза, вынул из-под щеки ставший драгоценным кошель и на вполне твёрдых ногах пошёл
за дверь отцедить. Миновал в сенях отроков, занятых торгом,
кивнул знакомым коробейникам из Шегардая и Сегды…Наружная дверь отворилась с мучительным визгом, в лицо
сразу ринулись даже не хлопья — сущее крушьё, точно с лопаты. Мятая Рожа не пошёл далеко от крыльца. Повернулся к
летящей пáди спиной, распустил гашник, блаженно вздохнул…
Он даже не отметил прикосновения к волосам чего-то чуть
более твёрдого, чем упавший с ветви комок. Ну проросла в том
комке остренькая ледышка, и что?..Ялмакович открыл глаза, кажется, всего через мгновение.
Стоя на коленях в снегу, тотчас бросил руку за пазуху, проверить, цел ли кошель. Кошель был на месте. Только… только не
ощущались сквозь мягкую замшу самогранные ягодки под зубчатыми листками, которые ему уже понравилось холить…Другой витязь, в свой черёд изгнанный пивом из тепла
повалуши, едва не наступил на Мятую Рожу. До неузнаваемости облепленный снегом, тот шарил в сугробе, пытался что-то
найти. Боевые побратимы долго рылись вместе, споря, достоило ли во избежание насмешек умолчать о пропаже — либо,
наоборот, позвать остальных и раскопать всё до земли.Серьга волокся заметённой, малохожей тропой, плохо понимая куда. В глазах покачивался невеликий, но тяжёленький ларчик. Доброго старинного дела, из цельной, красивейшей, точно изнутри озарённой сувели… ларчик, ключ от которого посейчас висел у него, Серьги, кругом шеи, гнул в три
погиба… Из метельных струй смотрели детские лица. Братец
Эрелис и сестрица Эльбиз часто открывали ларец, выкладывали узорочье. Цепочки финифтевых незабудок — на кружевной платок матери. Серебряный венец, перстни с резными печатями — на кольчугу отца.Он знал, как всё будет. Ужас и непонимание в голосах:
«Дядюшка Серьга… веточку не найти…»
И он пойдёт на поклёп, а что делать, ведь Космохвост за
утрату их пальцем не тронет, ему же — голову с плеч.«А вы, дитятки, верно ли помните, как всё назад складывали?»
И — две горестно сникшие, без вины повинные голо вёнки…
И — раскалённой спицей насквозь — взгляд жуткого
рынды…И — нельзя больше жить, настолько нельзя, что глаза уже
высмотрели над тропой сук покрепче, а руки вперёд ясной
мысли взялись распутывать поясок. Длинный, с браным обережным узором, вытканный на бёрде старательными пальчиками, все бы по одному перецеловать: «Носи на доброе здоровье, дядька Серьга…»— Постой, друже! Умаялся я тебя настигать.
Злосчастный слуга не сразу и понял, что голос прозвучал
въяве и что обращаются вправду к нему. Вздрогнул, обернулся, только когда ворот сжали крепкие пальцы.Незнакомец годился ему в сыновья. Серые смешливые
глаза, в бровях застряли снежные клочья, на ногах потрёпанные снегоступы… Серьга успел решить, что нарвался на лиходея, успел жгуче испугаться, а потом обрадоваться смерти, только подивившись: да много ли у него, спустившего хозяйское достояние, надеются отобрать? — но против всякого
ожидания человек вложил ему в ладонь маленькое и твёрдое
и замкнул руку, приговорив:— Утрись, не о чем плакать.
Серьга стоял столбом, пытаясь поверить робкому голосу
осязания. И таки не поверил. Мало ли что причудится сквозь
овчинную рукавицу. Послушно утёрся. Бережно расправил
ладонь… Света, гаснувшего за неизмеримыми сугробами туч,
оказалось довольно. Серьга упал на колени, роняя с головы
столбунок:— Милостивец… отец родной…
Всё качалось и плыло. Возвращаться с исподнего света
оказалось едва ли не тяжелее последнего безвозвратного шага.— Встань, друг мой, — сказал Ветер. Нагнулся, без большой надсады поставил Серьгу на ноги. — Мне будет довольно,
если ты вернёшь булавку на место и никогда больше не подойдёшь к игрокам, искушающим Правосудную. Служи верно
Эре лису и Эльбиз, а я рядом буду… — Он выпустил Серьгу и
улыбнулся так, словно вечный век его знал. Собрался уже уходить, но вспомнил, подмигнул: — Да, смотри только, Космохвосту молчи… Он добрый малый, Космохвост, одного жаль,
недалёкий. Да что с рынды взять! Никому не верит, не может
в толк взять, кто истинные друзья.Серьга опустил взгляд всего на мгновение — убедиться,
что рябиновая гроздь вправду переливается в ладони. Когда
он снова поднял глаза, рядом никого не было. Лишь деревья
размахивали обломанными ветвями, стеная и жалуясь, точно
скопище душ, заблудившихся в междумирье.
1 Автор, отнюдь не занимавшийся придумыванием новых слов или удивительных толкований, всего лишь пытался писать эту книгу по-русски. Честно предупреждаю: в тексте встретится ещё немало замечательных старинных слов, возможно выводящих из зоны привычного читательского комфорта. Полагаю, незаинтересованный читатель сумеет их с лёгкостью «перешагнуть». Заинтересованного — приглашаю в самостоятельное путешествие по сокровищнице русского языка. Поверьте, это может стать захватывающим приключением. А найдёте вы гораздо больше, чем предполагали…
Грэм Джойс. Как бы волшебная сказка
- Грэм Джойс. Как бы волшебная сказка / Пер. с англ. В Минушина. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 352 с.
Мастер британского магического реализма Грэм Джойс написал роман о проницаемой границе между реальностью и параллельным миром, временем и безвременьем. Девочка-подросток Тара Мартин ушла гулять в весенний лес и пропала без вести. За это время ее родители стареют, брат женится, а друзья забывают о случившемся событии. Через двадцать лет Тара возвращается, не постарев ни на один день и рассказывая такие истории, которые иначе как сказками не назовешь.
1
«Но духи мы совсем другого рода». Оберон, царь теней.
Уильям Шекспир
Есть в самом сердце Англии место, где все не так, как всюду. То есть там древние горы вырываются из земных глубин на поверхность с мощью океанских волн или исполинских морских чудищ, всплывающих за глотком воздуха. Одни говорят, земля там еще должна успокоиться, что она продолжает вздыматься и исторгать облака испарений и из этих облаков льются истории. Другие уверены, что старые вулканы давно мертвы и все их истории рассказаны.
Конечно, все зависит от того, кто рассказывает. Это всегда так. Я знаю одну историю и, хотя многое в ней пришлось домысливать, поведаю ее вам.
В тот год на Рождество Делл Мартин торчал у двойного пластикового окна своего опрятного домишки и, разглядывая свинцовые облака, пришел к заключению, что вот-вот может пойти снег, а ежели такое произойдет, то кому-то придется выплатить ему денежки. В самом начале года Делл положил перед букмекером две хрустящие купюры по двадцать фунтов, как делал каждый год в последние десять лет. Шансы каждый год слегка менялись, и на этот раз он определил возможность выигрыша как семь к одному.
Чтобы Рождество официально считалось белым — и тогда букмекеру придется заплатить, — надо было, чтобы между полуночью 24 декабря и полуночью 25-го в четырех определенных местах выпала хотя бы снежинка. Этими четырьмя местами были Лондон, Глазго, Кардифф и Манчестер. Не требовалось, чтобы снег летел густо или хрустел под ногами, даже необязательно, чтобы он лег на землю, и не имело значения, если он шел вперемешку с дождем. Достаточно было одной-единственной снежинки, упавшей и растаявшей, засвидетельствованной и запротоколированной.
Живя где-то между теми четырьмя громадными городами, Делл ни разу за те десять лет не выигрывал; не видел он и ни единой летящей снежинки на Рождество в его родном городке.
— Ты собираешься заняться гусем? — крикнула Мэри из кухни.
В этом году у них был гусь. После многих лет с индейкой на рождественский обед они пошли на замену, потому что перемена так же хороша, как отдых, и иногда отдых нужен даже от Рождества. Впрочем, стол был накрыт на двоих, как в прежние годы. Все как положено: хрустящая льняная скатерть, лучшие приборы. Два тяжелых хрустальных бокала, которые весь год хранились в коробке, задвинутой вглубь кухонного буфета.
Разделка птицы всегда была обязанностью Делла, и он разделывал ее мастерски. Это было целое искусство. Он отлично разделывал, когда дети были маленькие, и отлично разделывал сейчас, когда едоков было только он да Мэри. Довольно потирая руки, он вошел в кухню, жаркую и полную пара от кипящих кастрюль. Жареный гусь лежал на большом сервировочном блюде, накрытый серебристой фольгой. Делл вынул нож из подставки для ножей и наклонил его к свету из окна.
— Малость потемнело на улице, — сказал он. — Может, снег пойдет.
Мэри отбрасывала на сито сварившиеся овощи.
— Может, снег пойдет? Ты же не поставил деньги на это? Или все же поставил?
— Да нет! — Он смахнул фольгу с гуся и развернул блюдо поудобней. — Только думал поставить.
Мэри постучала ситом о край раковины.
— Похоже, что пойдет впервые за десять лет. Тарелки греются в духовке. Достать их?
На каждую из тарелок легло по мясистой гусиной ноге и по два аккуратных ломтя хлеба. Еще был жареный картофель и четыре вида овощей, исходящие паром на отдельных блюдах. Попыхивал соусник, где в клюквенном соусе томились колбаски, обернутые ветчиной.
— В этом году мне захотелось ай-тальянского, — сказал Делл, наливая Мэри, а потом себе рубиново-красное вино.
«И» в слове «итальянское» у него звучало как «ай» в «примечай». — Ай-тальянское. Надеюсь, к гусю подойдет.— Уверена, прекрасно подойдет.
— Думаю, нужно какое-то разнообразие. Не все ж пить одно французское. Хотя я б легко мог взять южноафриканское. Там продавалось южноафриканское. В супермаркете.
— Ну что, отпробуем? — сказала Мэри, протягивая бокал, чтобы чокнуться. — Будем здоровы!
— Будем!
Этот момент провозглашения тоста, этот нежный звон хрусталя Делл ненавидел больше всего.
Боялся и терпеть не мог. Потому что, даже если нечего было провозглашать и даже если с широкой улыбкой подавалась великолепнейшая еда и звоном бокалов управляла неподдельная любовь обеих сторон, всегда в момент этого ритуала что-то такое появлялось в глазах жены. Крохотная мгновенная искорка, острая как бритва, и он знал — лучше как можно быстрей завести разговор не важно о чем.
— Ну, как тебе ай-тальянское?
— Прекрасное. Великолепное. Отличный выбор.
— А то там была еще бутылка из Аргентины. Специальное предложение. И я едва не соблазнился.
— Аргентинское? Что ж, можем попробовать его в следующий раз.
— Но это тебе нравится?
— Замечательное. Чудесное. Теперь посмотрим, каков получился гусь.
Вино было единственной частью привычного рождественского стола, которая с течением лет поменялась. Когда дети были маленькие, он и Мэри довольствовались стаканом пива, может, большим бокалом лагера. Но теперь на Рождество вместо пива ставили вино. Сервировочные блюда добавились тоже недавно. Прежде все наваливалось на тарелки и относилось на стол — гора всего вперемешку в море соуса. Клюквенный соус был когда-то в диковинку. Когда дети были маленькие.
— Ну, как тебе гусь?
— Просто загляденье. И приготовлен отлично.
Щеки Мэри порозовели от удовольствия. После всех лет совместной жизни Делл еще был способен на это. Просто сказать верные слова.
— Знаешь что, Мэри? Все эти годы мы могли бы встречать Рождество гусем. Эй, глянь-ка в окно!
Мэри обернулась. Снаружи плавало несколько крохотных снежинок. Был первый день Рождества, и шел снег. Вот оно, наконец-то.
— Так ты все-таки сделал ставку, да?
Только Делл собрался ответить, как оба услышали легкий стук в наружную дверь. Обычно люди пользовались электрическим звонком, но сегодня кто-то стучал.
У Делла нож был в горчичнице.
— Кого это принесло в Рождество?
— Не представляю. Поздновато для гостей!
— Пойду посмотрю.
Делл встал, положил салфетку на стул. Затем направился в прихожую. Сквозь заиндевевшее стекло внутренней двери виднелся темный силуэт. Деллу пришлось снять короткую цепочку и отпереть внутреннюю дверь, прежде чем открыть внешнюю.
На крыльце стояла молодая женщина, лет, может, двадцати с небольшим, в темных очках, и смотрела на него. Сквозь темные стекла очков он различил широко расставленные немигающие глаза. На голове у нее была шерстяная шапочка в перуанском стиле, с ушами и кисточками. Кисточки напоминали ему колокольчики.
— Привет, милочка! — бодро проговорил Делл без враждебности. Все-таки Рождество.
Женщина, не отвечая на приветствие, пристально смотрела на него с робкой, почти испуганной, улыбкой на губах.
— С Рождеством, голубушка, чем могу помочь?
Женщина переступила с ноги на ногу, все так же не сводя
с него взгляда. Одета она была странно, похоже на хиппи. Она моргнула за темными стеклами очков, и ему почудилось в ней что-то знакомое. Затем ему пришло в голову, что, может быть, она собирает средства на благотворительные цели, и полез в карман.Наконец она заговорила. Сказала:
— Здравствуй, пап!
Мэри, подошедшая в этот момент, выглянула из-за его спины.
— Кто это тут? — спросила она.
Женщина перевела взгляд с Делла на Мэри. Мэри пристально вглядывалась в нее и увидела что-то знакомое в ее глазах за очками. Затем Мэри издала сдавленный стон и потеряла сознание. Делл оступился и успел только смягчить ее падение. Бесчувственное тело Мэри с тихим вздохом глухо рухнуло на кафельный пол у порога.
На другой стороне Чарнвудского леса, в ветхом домишке у дороги на Куорн, Питер Мартин загружал посудомойку. Рождественский обед закончился два часа назад, и на голове Питера еще красовалась вырезанная из рождественской хлопушки ядовито-красная корона, о которой он совсем забыл. Его жена Женевьева лежала с босыми ногами на диване, измученная обязанностью управлять семейной рождественской
кутерьмой в доме с рассеянным мужем, четырьмя маленькими детьми, двумя собаками, кобылой в загоне, кроликом и морской свинкой плюс неведомым количеством настырных мышей и крыс, все время изобретавших новые пути вторжения на кухню. Во многих отношениях это был дом, постоянно находившийся в состоянии осады.Питер был кротким рыжеволосым увальнем. Поднявшись утром в начале седьмого, он, в одних носках, двигался по дому, слегка покачиваясь, как моряк на берегу, но, несмотря на широченную грудь, была в нем некая стержневая устойчивость, как в мачте старого корабля, вытесанной из цельного ствола. Он очень жалел, что им пришлось садиться за рождественский обед без его матери и отца. Они, конечно, позвали Делла и Мэри, но произошел нелепый спор о времени, когда подавать обед. Женевьева хотела сесть за стол ровно в час, чтобы позднее днем всем одеться потеплее и поехать в Брэдгейт-парк или на Бикон-Хилл проветриться. Мэри и Делл предпочитали сесть за стол позже, чтобы никуда не торопиться, и, разумеется, не раньше трех; они уже достаточно нагулялись под пронизывающим ветром. На самом деле на улице было не так уж промозгло. В результате — тупик, и испорченное настроение, и рождественский обед порознь, каковым решением не была довольна ни одна из сторон.
Так или иначе, у Питера и Женевьевы была пятнадцатилетняя дочь, сын тринадцати лет и еще две девочки, семи и пяти лет. Всякий раз, когда они приходили к Мэри и Деллу, дети оккупировали дом, как свирепая армия. Всегда было куда проще и спокойней оставаться одним, как и вышло у них в этом году.
Меж тем Питер на Рождество подарил своему тринадцатилетнему Джеку духовое ружье, и сейчас Джек во дворе подстерегал мышь или крысу. Он устроился на старом драном диване, который его отец еще не оттащил на свалку. Как седой траппер с фронтира у своей хижины, он сидел, уперев приклад в бедро, а ствол направив в небо.
Питер высунул голову из выходящей во двор кухонной двери.
— Не верти этой чертовой штукой туда-сюда. Если зацепишь кого, знай: я тебе башку оторву, — предупредил Питер.
— Не бойся, пап, моих чертовых сестренок я не подстрелю.
— И не выражайся, ладно?
— Ладно.
— И не верти туда-сюда.
Питер снова скрылся в доме и продолжил собирать грязную посуду. Он прошел в столовую, где царил полный кавардак, и замер в растерянности, не зная, что делать с останками индейки, когда зазвонил телефон. Это был Делл.
— Как дела, пап? Я как раз собирался сам тебе звонить. Когда ребятня выстроится в очередь, чтобы поздравить с Рождеством, и все такое.
— Неважно, Пит. Лучше приезжай к нам.
— Что? Мы же как раз собирались выйти погулять.
— Все равно приезжай. Твоя сестра здесь.
— Что?
У Питера голова закружилась. Комната плыла перед глазами.
— Что ты несешь?
— Только что объявилась.
— Быть не может.
— Приезжай, Пит. Твоей матери плохо.
— Пап, что, черт возьми, происходит?
— Пожалуйста, сынок, приезжай.
Такого голоса он у отца никогда не слышал. Делл явно готов был расплакаться.
— Можешь ты мне просто сказать, что случилось?
— Ничего сказать не могу, потому что сам ничего не понимаю. Твоя мать упала в обморок. Сильно ударилась.
— Хорошо. Еду.
Питер положил трубку на тихо щелкнувший рычаг и рухнул на жесткий стул, стоявший у телефона. Он смотрел на
еще не убранный после рождественского обеда стол. На валявшиеся среди грязной посуды драные хлопушки, пластмассовые игрушки и бумажные короны. Неожиданно он вспомнил, что все еще ходит с бумажной короной на голове. Снял ее и продолжал сидеть, держа ее между колен.Наконец он встал и двинулся через гостиную, слегка покачиваясь на ходу. В гостиной на ковре, возле кривобокой елки, расположились три его дочери и под негромко работающий телевизор играли с куклами и кубиками лего. В камине уютно горел уголь, и две собаки-ищейки лежали на спине перед огнем, подняв лапы и скалясь в ухмылке собачьего удовольствия. Женевьева дремала на диване.
Пит вернулся на кухню и налил воды в электрический чайник. Он стоял, глядя, как чайник закипает, и тот вскипел куда быстрей, чем улеглась в голове услышанная новость. Он налил чашку Женевьеве, себе и задумчиво смотрел, как темнеет вода от чайного пакетика. Пулька из духового ружья, ударившая в стену снаружи, заставила его наконец очнуться.
Взяв чашки, он прошел в гостиную и опустился на колени перед диваном, затем наклонился к Женевьеве и разбудил ее поцелуем. Она, моргая, посмотрела на него. Щеки у нее раскраснелись.
— Ты мой дорогой! — сонно проговорила она, принимая чашку. — Кажется, я слышала, телефон звонил.
— Ты правильно слышала.
— Кто звонил?
— Отец.
— Они с нами все еще разговаривают?
— Да. Мне нужно съездить к ним.
— Поедешь? Что-то не так?
— Пфф, — выдохнул Питер. — Тара вернулась.
Женевьева секунду смотрела на Питера, словно не знала,
кто такая Тара. Она никогда не видела Тару, но много слышала о ней. Потом насмешливо покачала головой, нахмурила брови.— Да, — сказал Питер. — Правда вернулась.
— Кто такая Тара? — спросила Эмбер, их семилетняя дочь.
— Это невозможно, — сказала Женевьева. — Ты не находишь?
— Кто такая Тара? — спросила Зои, их старшая дочь.
— Мне надо ехать.
— Может, мы все поедем?
— Незачем ехать всем.
— Кто такая Тара, черт возьми? — снова спросила Эмбер.
— Сестра твоего отца.
— У папы есть сестра? Никогда не знала.
— Мы никогда о ней не говорим, — объяснил Питер.
— А почему мы о ней не говорим? — спросила Джози, их младшенькая. — Я говорю о своих сестричках. Все время.
— Мне пора, — вздохнул Питер. — Бензина в баке достаточно?
— Папа оставляет нас одних в Рождество? — недовольно спросила Эмбер.
Женевьева встала с дивана и сморщилась от боли, наступив босой ногой на пластмассовый кубик лего.
— Он ненадолго, — ответила она дочери, вышла за Питером в прихожую и ждала, пока он не обуется и не наденет куртку.
— Ненадолго?
— Да.
— Обнять меня не хочешь?
— Хочу. Нет, — сказал Питер. — Не сейчас.
В стену снаружи снова ударила пулька из духового ружья.
Нейт Сильвер. Сигнал и шум
- Нейт Сильвер. Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие нет / Пер. П. Мироновой. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. — 608 с.
Аналитик Нейт Сильвер стал известен в 2000-х годах предсказаниями результатов соревнований по бейсболу, а затем и политических выборов. На президентских выборах в США в 2008 году ему удалось, основываясь на оценке данных опросов, верно предсказать победителя в 49 из 50 штатов, а на выборах 2012 года он показал абсолютный результат, предсказав победителя в каждом из 50 штатов и округе Колумбия. В данный момент Нейт Сильвер ведет блог FiveThirtyEight в New York Times.
Глава 2
КТО УМНЕЕ: ВЫ ИЛИ «ЭКСПЕРТЫ*» ИЗ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ? Для многих людей выражение «политический прогноз» практически стало синонимом телевизионной программы McLaughlin Group, политического круглого стола, транслируемого по воскресеньям с 1982 г. (и примерно с того же времени пародируемого в юмористическом шоу Saturday Night Live). Ведет эту программу Джон Маклафлин, сварливый восьмидесятилетний человек, предпринимавший в 1970 г. неудачную попытку стать сенатором США. Он воспринимает политические прогнозы как своего рода спорт. В течение получаса в передаче обсуждаются четыре-пять тем, при этом сам Маклафлин настойчиво требует, чтобы участники программы отвечали на совершенно различные вопросы — от политики Австралии до перспектив поиска внеземного разума.
В конце каждого выпуска McLaughlin Group наступает время рубрики «Прогнозы», в которой каждому участнику дается несколько секунд, чтобы выразить мнение по тому или иному актуальному вопросу. Иногда они имеют возможность выбрать тему самостоятельно и поделиться своим мнением о чем-то, весьма далеком от политики. В других же случаях Маклафлин устраивает им своего рода неожиданный экзамен, на котором участники должны дать так называемые вынужденные прогнозы и ответить на один конкретный вопрос.
На некоторые вопросы Маклафлина — например, назвать следующего претендента на место в Верховном суде из нескольких достойных кандидатов — сложно ответить. На другие намного проще. Например, в выходные перед президентскими выборами 2008 г. Маклафлин спросил у участников, кто одержит верх — Джон Маккейн или Барак Обама?.
Казалось, что ответ на этот вопрос не заслуживает длительного размышления. Барак Обама опережал Джона Маккейна практически в каждом национальном опросе, проводимом после 15 сентября 2008 г., когда банкротство Lehman Brothers привело к одному из самых сильных спадов в экономике со времен Великой депрессии. Также Обама вел по результатам опросов почти в каждом колеблющемся штате: Огайо, Флориде, Пенсильвании и Нью-Гемпшире — и даже в тех нескольких штатах, где демократы обычно не выигрывают, таких как Колорадо и Виргиния. Статистические модели, наподобие той, что я разработал для FiveThirtyEight, показывали, что шансы Обамы на победу в выборах превышают 95 %. Букмекерские конторы были менее конкретны, однако все равно оценивали шансы Обамы как 7 против 1.
Однако первый участник дискуссии, Пэт Бьюкенен, уклонился от ответа. «В этот уик-энд свое слово скажут неопределившиеся», — заметил он, вызвав смех остальных участников круглого стола. Другой гость, Кларенс Пейдж из газеты Chicago Tribune, сказал, что данные кандидатов слишком «близки друг к другу, чтобы делать ставки». Моника Кроули из Fox News была упрямее и заявила, что Маккейн выиграет с перевесом «в пол-очка». И лишь Элеанор Клифт из Newsweek констатировала очевидное мнение и предсказала победу Обамы и Байдена.
В следующий вторник Обама стал избранным президентом. Он получил 365 голосов выборщиков против 173, отданных за Джона Маккейна, — результат, практически совпавший с предсказанным на основании опросов и статистических моделей. Хотя это и не убедительная историческая победа, все равно это был не тот случай, когда трудно предсказать результаты выборов — Обама обогнал Джона Маккейна почти на десять миллионов голосов. И казалось бы, что всем, кто делал противоположные прогнозы, следует объясниться.
Однако через неделю, когда те же участники McLau ghlin Group собрались снова, ничего подобного не произошло. Они обсуждали статистические нюансы победы Обамы, его выбор Рама Эмануэля в качестве главы администрации и его отношения с президентом России Дмитрием Медведевым. Никто не упомянул о неудачных прогнозах, сделанных на национальном телевидении, невзирая на массу свидетельств обратного. Скорее, участники передачи попытались сделать вид, что исход был полностью непредсказуемым. Кроули сказала, что это был «необычный год» и что Маккейн провел ужасную предвыборную кампанию, забыв упомянуть, что сама хотела сделать ставку на этого кандидата неделей ранее.
Специалистов по прогнозированию редко стоит судить по одному-единственному прогнозу, но в данном случае можно сделать исключение. За неделю до выборов единственная правдоподобная гипотеза, позволявшая поверить в победу Маккейна на выборах, заключалась в массивном всплеске расовой враждебности по отношению к Обаме, почему-то не замеченной в ходе опросов. Однако подобную гипотезу не высказал ни один из экспертов. Вместо этого они, казалось, существовали в альтернативной вселенной, в которой не проводятся опросы, отсутствует коллапс экономики, а президент Буш все еще более популярен, чем Маккейн, рейтинг которого стремительно падает.
Тем не менее я решил проверить, не был ли данный случай аномальным. Насколько вообще умеют предсказывать участники дискуссии McLaughlin Group — люди, получающие деньги за свои разговоры о политике?
Я оценил достоверность примерно 1000 прогнозов, сделанных в последней рубрике шоу как самим Маклафлином, так и участниками его передачи. Около четверти из них или были слишком расплывчатыми, что не позволяло их анализировать, или касались событий в отдаленном будущем. Все остальные я оценивал по пятибалльной шкале, варьировавшейся в диапазоне от абсолютно ошибочных до полностью точных.
С таким же успехом участники шоу могли бы подбрасывать монетку. 338 их прогнозов были неточными — либо полностью, либо в значительной степени. Точно такое же количество — 338 — оказалось верными полностью или в значительной степени (табл. 2.1).

Кроме этого, ни одного из участников дискуссии — даже Клифта с его точным прогнозом итогов выборов 2008 г. — нельзя было выделить как лучшего среди остальных. Я рассчитал для каждого участника показатель, отражавший долю их личных верных индивидуальных прогнозов. Наиболее часто принимающие участие в обсуждении — Клифт, Бьюкенен, покойный Тони Блэнкли и сам Маклафлин — получили почти одинаковую оценку от 49 до 52 %, что означало, что они могли с равным успехом дать как верный, так и неверный прогноз [7]. Иными словами, их политическое чутье оказалось на уровне любительского джазового квартета, состоящего из парикмахеров. <…>
Но что можно сказать о тех, кому платят за правильность и тщательность исследований, а не просто за количество высказываемых мнений? Можно ли считать, что качество прогнозов политологов или аналитиков из вашингтонских мозговых центров выше?
Действительно ли политологи лучше «экспертов»? Распад Советского Союза и некоторых других стран Восточного блока происходил невероятно высокими темпами и, учитывая все обстоятельства, довольно упорядоченным образом**.
12 июня 1987 г. Рональд Рейган, стоявший перед Бранденбургскими воротами, призвал Михаила Горбачева разрушить Берлинскую стену. И тогда его слова казались не менее дерзкими, чем обязательство Джона Ф. Кеннеди отправить человека на Луну. Рейган оказался лучшим пророком: стена рухнула менее чем через два года.
16 ноября 1988 г. парламент Республики Эстония, государства размером со штат Мэн, заявил о суверенитете Эстонии, то есть о ее независимости от всемогущего СССР. Менее чем через три года Горбачеву удалось отразить попытку переворота со стороны сторонников жесткой линии в Москве, а затем советский флаг был в последний раз спущен перед Кремлем; Эстония и другие советские республики вскоре стали независимыми государствами.
Если постфактум падение советской империи и кажется вполне предсказуемым, то предвидеть его не мог практически ни один ведущий политолог. Те немногие, кто говорил о возможности распада этого государства, подвергались насмешкам. Но если политологи не могли предсказать падение Советского Союза — возможно, самого важного события в истории конца XX в., — то какой вообще от них прок?
Филип Тэтлок, преподаватель психологии и политологии, работавший в то время в Калифорнийском университете в Беркли, задавал себе именно такие вопросы. В период распада СССР он организовал амбициозный и беспрецедентный проект. Начиная с 1987 г. Тэтлок принялся собирать прогнозы, сделанные обширной группой экспертов из научных кругов и правительства по широкому кругу вопросов внутренней политики, экономики и международных отношений.
Тэтлок обнаружил, что политическим экспертам было довольно сложно предвидеть развал СССР, поскольку для понимания происходившего в стране нужно было связать воедино различные наборы аргументов. Сами эти идеи и аргументы не содержали ничего особенно противоречивого, однако они исходили от представителей разных политических направлений, и ученые, бывшие сторонниками одного идеологического лагеря, вряд ли могли так легко пользоваться аргументацией оппонентов.
С одной стороны, непосредственно от Горбачева зависело довольно много, и его желание реформ было искренним. Если бы вместо того, чтобы заняться политикой, он предпочел стать бухгалтером или поэтом, то Советский Союз мог бы просуществовать еще несколько лет. Либералы симпатизировали Горбачеву. Консерваторы же мало верили ему, а некоторые из них считали его разговоры о гласности простым позерством.
С другой стороны, критика коммунизма консерваторами была скорее инстинктивной. Они раньше остальных поняли, что экономика СССР разваливается, а жизнь среднего гражданина становится все более сложной. Уже в 1990 г. ЦРУ рассчитало — причем неверно, — что ВВП Советского Союза примерно в два раза меньше, чем в США (в расчете на душу населения, что сопоставимо с уровнем демократических в настоящее время государств типа Южной Кореи и Португалии). Однако недавно проведенные исследования показали, что советская экономика, ослабленная длительной войной в Афганистане и невниманием центрального правительства к целому ряду социальных проблем, была примерно на 1 трлн долл. беднее, чем думало ЦРУ, и сворачивалась почти на 5 % в год с инфляцией, темпы которой описывались двузначными цифрами.
Если связать эти два фактора воедино, то коллапс Советского Союза было бы легко предвидеть. Обеспечив гласность прессы, открыв рынки и дав гражданам больше демократических прав, Горбачев, по сути, наделил их механизмом, катализирующим смену режима. А благодаря обветшавшему состоянию экономики страны люди с радостью воспользовались представленной возможностью. Центр оказался слишком слаб, чтобы удержать контроль, и дело было не в том, что эстонцы к тому времени устали от русских. Русские и сами устали от эстонцев, поскольку республики-сателлиты вносили в развитие советской экономики значительно меньше, чем получали из Москвы в виде субсидий.
Как только к концу 1989 г. в Восточной Европе начали сыпаться костяшки домино — Чехословакия, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Восточная Германия, — Горбачев, да и кто-либо еще вряд ли смогли бы что-то сделать, чтобы предотвратить этот процесс. Многие советские ученые осознавали отдельные части проблемы, однако мало кто из экспертов мог собрать все кусочки головоломки воедино, и практически никто не был способен предсказать внезапный коллапс СССР. <…>
* В данном случае автор использует слово «pundit», которое переводится не только как «эксперт», «ученый», «аналитик», но и является ироническим обозначением «теоретиков», пытающихся научно объяснить события на финансовых рынках, в экономике.
** Из всех революций в Восточном блоке в 1989 г. лишь одна, в Румынии, привела к значительному кровопролитию.
Элеанор Каттон. Светила
- Элеанор Каттон. Светила. / Пер. с англ. С. Лихачевой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. — 800 с.
Структура романа самого молодого лауреата Букеровской премии Элеанор Каттон «Светила» основывается на астрологии: автор рассчитывала движение звезд и планет по мере развития сюжета, ведь действующие лица связаны с небесными телами. Двенадцать «звездных», соответствующих зодиакальным знакам героев — включая священника, аптекаря, издателя местной газеты, двух китайцев и туземца-маори — и семь «планетарных» — все вращаются вокруг героя-«земли», убитого при таинственных обстоятельствах.
СКОРПИОН ВОСХОДИТ В ПОЛНОЧЬ
Глава, в которой аптекарь отправляется на поиски опиума, мы наконец-то знакомимся с Анной Уэдерелл, Притчард теряет терпение и звучат два выстрела. Покинув офис Нильссена, Джозеф Притчард вернулся в свою лабораторию на Коллингвуд-стрит отнюдь не сразу. Вместо того он направился в «Гридирон», одну из шестидесяти или семидесяти гостиниц, выстроившихся вдоль Ревелл-стрит, на ее самом оживленном и людном участке. Это заведение, с его канареечно-желтой отделкой и «ложными» жалюзи, щеголявшее ярким фасадом даже в дождь, служило местом постоянного проживания мисс Анны Уэдерелл, и, хотя у нее было не в обычае принимать гостей в этот час дня, Притчард в свою очередь не привык вести дела, сообразуясь с чьим бы то ни было режимом, кроме своего собственного. Он протопал вверх по ступеням и потянул на себя тяжелую дверь, даже не кивнув старателям на веранде; те расселись рядком, закинув ноги в сапогах на поручень, — кто резал по дереву, кто чистил ногти, кто сплевывал табак в грязь. Притчард мрачно проследовал в вестибюль; старатели проводили его взглядами, явно забавляясь про себя, и, едва за ним с глухим стуком захлопнулась дверь, отметили: вот человек, твердо намеренный разобраться, что к чему.
Притчард вот уже много недель не видел Анны. О ее попытке самоубийства он узнал лишь из третьих рук, от Дика Мэннеринга, который, в свою очередь, передал дальше вести, полученные от китайца А-Су, хозяина опиумной курильни в Каньере. Анна частенько занималась своим ремеслом в каньерском Чайнатауне, и по этой причине Анну в обиходе прозвали Китайская Энни, каковое прозвище повредило ее репутации в одних кругах и изрядно поспособствовало в других. Притчард не принадлежал ни к какому лагерю — он мало интересовался чужой личной жизнью, так что его и не раззадорило, и не оттолкнуло известие о том, что потаскушку особенно жалует А-Су и что, как позже сообщил Притчарду Мэннеринг, узнав о том, как она едва не погибла, китаец впал в истерику. (Мэннеринг не говорил на кантонском диалекте китайского языка, зато знал несколько иероглифов, включая «металл», «хотеть» и «умирать», — достаточно, чтобы вести пиктографическую беседу с помощью блокнота, уже так густо покрытого пометками и пятнами от долгого использования, что владелец мог выстраивать изощренные риторические фигуры, просто отлистав страницы назад и ткнув пальцем в старую ссору, былое соглашение или давнюю сделку купли-продажи.)
Притчарда рассердило, что Анна не обратилась к нему напрямую. В конце концов, он — аптекарь и к югу от реки Грей по крайней мере единственный поставщик опиума в курильни Уэст-Коста, эксперт в вопросе передоза. Анне следовало зайти к нему и спросить совета. Притчард ни на минуту не верил, что Анна пыталась покончить с собой, вот не верил — и все. Он не сомневался, что наркотик ей дали насильно — либо так, либо в дурман что-то добавили с целью повредить девушке. Притчард попытался изъять остаток партии из китайской курильни, чтобы исследовать вещество на предмет яда, но взбешенный А-Су в этой просьбе отказал, недвусмысленно возвестив (опять же через Мэннеринга) о своем твердом намерении никогда более не вести дел с аптекарем. Угроза Притчарда не испугала: в Хокитике у него была обширная клиентура, а продажа опиума составляла лишь очень небольшой процент его дохода, — но его профессиональное любопытство удовлетворено не было. Так что теперь ему требовалось лично расспросить девицу.
Притчард вошел в вестибюль; хозяина гостиницы «Гридирон» на месте не оказалось, вокруг царила дребезжащая пустота. Но вот глаза Притчарда привыкли к темноте, и он разглядел слугу Клинча: прислонившись к конторке, тот читал старый номер «Лидера», одновременно проговаривая слова и водя пальцем от строчки к строчке. На стойке, там, где движение его пальца отполировало дерево до блеска, тускнело жирное пятно. Слуга поднял глаза и кивнул аптекарю. Притчард бросил ему шиллинг; тот ловко поймал монету и пришлепнул ею по тыльной стороне ладони. «Решка!» — крикнул паренек, и Притчард, уже двинувшись вверх по лестнице, фыркнул от смеха. Если задеть его чувства, Притчард разъярялся не на шутку; и прямо сейчас он действительно был разъярен. В коридоре царила тишина, но он на всякий случай приложил ухо к двери Анны Уэдерелл и на мгновение прислушался, прежде чем постучать.
Харальд Нильссен был прав в своих догадках: отношения Притчарда с Анной Уэдерелл были несколько более надрывны, нежели его собственные, однако он ошибался, полагая, что аптекарь влюблен в девушку. На самом деле предпочтения Притчарда были насквозь традиционно-консервативны и даже инфантильны. Он бы скорее запал на молочницу, нежели на проститутку, сколь бы глупа и скучна ни была первая и эффектна — вторая. Притчард ценил чистоту и простодушие, скромное платьице, тихий голос, кроткий нрав и умеренность притязаний — иначе говоря, контраст. Его идеальная женщина должна была являть полную его противоположность: насквозь понятна там, где сам он непостижим, спокойна и сдержанна там, где сам он не таков. Она станет для него чем-то вроде якоря, свыше и извне, станет лучом света, утешением и благословением. Анна Уэдерелл, при всех ее крайностях и увлечениях, слишком походила на него. Не то чтобы Притчард ее за это ненавидел — но жалел.
В общем и целом, в том, что касалось прекрасного пола, Притчард был весьма сдержан. Он не любил болтать о женщинах с другими мужчинами: эта привычка, по его мнению, недалеко ушла от вульгарного паясничанья. Он помалкивал, и в результате приятели верили в его многочисленные успехи, а женщины усматривали в нем глубокую, загадочную натуру. Он был по-своему хорош собой; дело его процветало; он считался бы весьма завидным женихом, если бы работал чуть меньше, а в обществе бывал чуть больше. Но Притчард терпеть не мог многолюдные разношерстные компании, где от каждого мужчины ждут, что он выступит как бы представителем своего пола и игриво представит все свои достоинства на тщательное рассмотрение присутствующих. В толпе он задыхался, делался раздражительным. Он предпочитал узкий круг немногих друзей, которым был безоглядно предан — как по-своему был предан Анне. Та доверительная близость, что он ощущал, будучи с ней, объяснялась главным образом тем, что мужчина не обязан обсуждать своих девок с другими; проститутка — дело личное, это блюдо полагается вкушать в одиночестве. Одиночества он в Анне и искал. Она дарила ему покой уединения; будучи с нею, он неизменно держал дистанцию.
По-настоящему Притчард любил один-единственный раз в жизни, однако уже шестнадцать лет минуло с тех пор, как Мэри Мензис стала Мэри Феркин и перебралась в Джорджию, к жизни среди хлопка, краснозема и (как навоображал себе Притчард) мешкотной праздности — следствия богатства и безоблачных небес. Не умерла ли она, не опочил ли мистер Феркин, народились ли у нее дети и выжили или нет, сильно ли она постарела или выглядит моложе своих лет, Притчард понятия не имел. В его мыслях она так и осталась Мэри Мензис. Когда он видел ее в последний раз, ей шел двадцать шестой год, на ней было простенькое узорчатое муслиновое платьице, волосы собраны в локоны у висков, на запястьях и пальцах — никаких украшений. Они сидели у коробчатого окна — прощались.
«Джозеф, — сказала она тогда (а он позже занес ее слова в блокнот, чтобы запомнить навсегда), — Джозеф, сдается мне, ты с добром всегда в разладе. Хорошо, что ты за мной никогда не ухаживал. Так ты станешь тепло вспоминать меня. Ты бы не смог, сложись все иначе».
По ту сторону двери раздались быстрые шаги.
— О, это ты, — вот и все приветствие, которым удостоила его Анна.
Она была разочарована — верно, ждала кого-то другого. Притчард молча переступил порог и затворил за собою дверь. Анна вошла в поделенный начетверо прямоугольник света под окном.
Она была в трауре, но по старомодному покрою платья (юбка колокол, лиф с мысиком) и выцветшей ткани Притчард догадался, что шилось оно не на нее, — видимо, чей-то подарок или, что еще более вероятно, подержанная вещь от старьевщика. Он заметил, что подол был выпущен: полоса у самого пола шириной в два дюйма выделялась более густо-черным цветом. Странно было видеть проститутку в трауре — все равно что прифрантившегося священника или ребенка с усами; прямо-таки с толку сбивает, подумал Притчард.
Ему вдруг пришло в голову, как редко он видел Анну иначе, нежели при свете лампы или при луне. Цвет ее лица был прозрачен до голубизны, а под глазами пролегали глубокие фиолетовые тени — словно ее портрет написали акварелью на бумаге, недостаточно плотной, чтобы удерживать в себе влагу, и краски растеклись. Ее черты, как сказала бы матушка Притчарда, были сплошь угловатые: очень прямой лоб, заостренный подбородок, узкий, геометрически четкий нос — скульптор изваял бы его четырьмя взмахами руки: по срезу с каждой стороны, один по переносице и вдавленная снизу ямочка. Губы у нее были тонкие, глаза — большие от природы, но приглядывалась она к миру подозрительно и нечасто прибегала к их помощи обольщения ради. Щеки у нее были впалы, так что просматривалась линия челюсти — так просматривается обод барабана под туго натянутой мембраной кожи.
В прошлом году она забеременела, это состояние согрело восковую бледность ее щек и придало полноты жалостно-худым рукам, и такой она Притчарду очень нравилась: округлый живот и набухшие груди, спрятанные под бессчетными ярдами батиста и тюля — тканей, что смягчали ее облик и придавали ей живости. Но где-то после весеннего равноденствия, когда вечера сделались длиннее, а дни ярче и багряное солнце зависало совсем низко над Тасмановым морем на много часов, прежде чем наконец кануть в красные морские волны, ребенок погиб. Его тельце давно завернули в ситец и погребли в неглубокой могилке на уступе в Сивью. О смерти младенца Притчард с Анной не заговаривал. В ее номер он заглядывал очень нерегулярно, а когда заходил, то вопросов не задавал. Но, узнав эту новость, он оплакал ее наедине с собою. В Хокитике было так мало детей — трое-четверо, не больше. Им радовались, как радуются, заслышав знакомый акцент в речи или завидев у горизонта долгожданный корабль: они напоминали о доме.
Со всем прошедшим!
К моменту, когда френдлента перестала походить на голландскую теплицу, рассосались очереди в парфюмерные магазины и международный день торговли мимозой подошел к концу, «Прочтение» составило книжную подборку к прошедшему празднику, чем бы он для вас ни был: днем весны, одноклассниц, членов семьи слабого пола, легализации женского алкоголизма или борьбы за равноправие и против шестнадцатичасового рабочего дня у плиты и гладильной доски.
Жаклин Келли. Эволюция Келпурнии Тейт. — М.: Самокат, 2015. — 352 с.
Келпурнии Тейт — одиннадцать. Она живет в Техасе, где в тени +35 градусов, а на солнце и того больше. Все страдают от жары, но дамы — больше других, ведь на них — корсеты из китового уса, нижние юбки, шиньоны и накладные челки. А еще валик из конского волоса, на основе которого дамы ежедневно сооружают башню из собственных волос. На дворе 1899-й, и суфражистки в техасской глубинке не водятся.
Келпурния (или Келли Ви) — единственная девочка в семье из семи детей, и у матери на нее большие планы. Сама же Келли Ви считает девичью долю незавидной: ее больше интересует строение собачьего неба, поголовье птичек-кардиналов и дрессировка дождевых червей. О тернистом пути к свету знаний, свободе и равенству — эта книга лучше всего соответствует исторической идее 8 Марта.
Эдит Несбит. Ледяной дракон. — СПб.: Речь, 2015. — 104 с.
Нижние юбки, корсеты, шляпки и рецепт приготовления правильного бисквита вызывают ужас далеко не у всех девочек. Многие из них все еще предпочитают «Запискам пиквикского клуба» и «Путешествию на Бигле» сказки. Особенно про принцесс и драконов. И уж если выбирать такие, нельзя не вспомнить про Эдит Несбит.
«Ледяной дракон» — очень правильная сказка, полная волшебства и юмора, любви и опасности, с обещанным драконом и принцами-принцессами. И иллюстрации Елены Жуковской очень ее красят. Иными словами, Эдит Несбит — классик английской детской литературы, дитя викторианской эпохи. Вот уж кто, казалось бы, должен разбираться в накладных челках — но и ее, представьте, совершенно не интересовали ни они, ни бисквиты. Одна из основательниц фабианского общества, убежденная социалистка, Несбит плевала на викторианскую мораль, вышла замуж будучи уже беременной, работала как проклятая — и уж точно заслужила бы уважение Цеткин.
Ида Шивенес. Съедобные картинки. Веселые завтраки. — М.: Мелик-Пашаев, 2015. — 160 с.
«Съедобные картинки» норвежки Иды Шивенес — книга не совсем про еду, но, скорее, про искусство. Шивенес, помимо традиционных для формата «ложечку за папу» рецептов оладий и бутербродов в виде овечек и собачек, выкладывает из хлеба, джема и сыра «Автопортрет» Фриды Кало, «Подсолнухи» Ван Гога, «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, картины Магритта и Мондриана. Есть у нее и «географическая» серия — с Тадж Махалом и Биг-Беном. Каждая картинка снабжена не только инструкцией, но и искусствоведческими фактами, и способна вдохновить любого: одних на приготовление блюда, других на его поглощение, а третьих на экзистенциальную дерзость — позавтракать «Криком» Эдварда Мунка.
Татьяна Коваль. Почему я люблю свою маму. — М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. — 48 с.
«Почему я люблю свою маму» — книжка творческих заданий, нарисованная молодой и прекрасной художницей Алиной Рубан, которая иллюстрировала для издательства «Пешком в историю» книги «Археологическая прогулка по Помпеям» и «Мы живем в эпоху Петра Первого». Это во всех отношениях милая вещица про то, что мама лучшая в мире «украсительница пицц», знает названия всех деревьев и ей наплевать, что ее ребенок танцует, как слон. Если выполнить в ней все задания от начала до конца — раскрасить и дорисовать — эта книжка сама сойдет за детский подарок маме на 8 Марта.
Кейт ДиКамилло. Флора и Одиссей. Блистательные приключения. — М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2015. — 240 с.
Главная героиня повести девочка Флора цинична, ненавидит любовь и обожает комиксы — и все это следствие того, что ее мама занимается написанием женских романов. Однажды Флора спасает из жерла пылесоса белку, которая оказывается не простой, а сверхспособной: например, он понимает человеческую речь, умеет печатать на машинке и многое другое. Так рождается великая дружба, а одна дружба, как это часто бывает, становится причиной других.
Автор повести — Кейт ДиКамилло — в представлении не нуждается. Она одна из самых популярных современных детских писателей за океаном, автор «Удивительного приключения кролика Эдварда» и «Приключений мышонка Десперо». А за «Флору и Одиссея» она вот уже во второй раз получила самую престижную американскую премию в области детской литературы — Медаль Джона Ньюбери. Кроме того, эта книга как нельзя лучше соответствует тематике «женского дня» — она и про девочку, и про белочку.
Эй, вы там, наверху!
- Пьер Леметр. До свидания там, наверху / Пер. с фр. Д. Мудролюбовой. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2015. — 544 c.
Десять евро. Именно такую награду можно получить, если стать лауреатом Гонкуровской премии, самой желанной для французских прозаиков. И хотя сумма весьма скромная, зато к ней прилагается всемирная слава, завидные места на полках в книжных магазинах и переводы на иностранные языки. Пьер Леметр, удостоенный этой награды в 2013 году, не упустил возможность воспользоваться приятными бонусами. Его роман «До свидания там, наверху» спустя почти два года переведен на русский язык. Настало время оценить выбор французского жюри.
Пьер Леметр уже знаком нашим соотечественникам как мастер детективного жанра. Он любит интриговать широкую публику загадками и запутанными историями. Его романы придутся по вкусу как неискушенному читателю, так и интеллектуалу, на досуге почитывающему Марселя Пруста. В прозе писателя соединяются захватывающий сюжет, аллюзии на произведения классической литературы и кинематографичность стиля. Беспроигрышный вариант. На первый взгляд.
Удивительно, но именно роман, удостоенный крупнейшей литературной награды Франции, показывает, что набора этих признаков недостаточно для того, чтобы признать Пьера Леметра хорошим писателем. «До свидания там, наверху» совершенно не оправдывает ожидания читателя, избалованного современной русской прозой.
Роман рассказывает о жизни двух молодых людей, Альбера и Эдуара, лишь чудом выживших в Первой мировой войне. Честолюбивый и абсолютно безнравственный капитан французской армии Анри Прадель ради собственной выгоды посылает их в бессмысленный бой в тот момент, когда победа над немцами на деле уже была достигнута. После окончания войны Прадель затевает жуткую аферу, занимаясь захоронениями погибших на фронте солдат. Эдуар, обезображенный ранением в лицо, и Альбер, навсегда потерявший возможность жить без страха, влачат жалкое существование. Они остаются на грани разорения до тех пор, пока не пускаются в опасную авантюру с целью заработать деньги.
Однако не стоит потирать в удовольствии руки, предвкушая захватывающие приключения. На деле повествование оказывается до ужаса предсказуемым. Возникает ощущение, что автор решил слепо довериться канонам массового искусства и ступил на порочный путь схематичного кино и литературы. Число героев в романе строго регламентировано, и все они соединены между собой определенными связями. Сюжетные ходы легко угадываются наперед. Играть в предсказателя судеб интересно лишь в начале книги, затем становится откровенно скучно.
Герои Леметра — восковые куклы с застывшими лицами. Каждому из них отведена конкретная роль, за пределы которой он не выходит. Мир романа поделен на хищников и их жертв, на волков и овец. Автор настолько прямолинеен, что даже не стесняется открыто обличать негодяев, обращаясь к читателю на «вы». Вероятно, он забыл, что просветительская литература нынче не в моде.
Впрочем, два главных персонажа, Альбер и Эдуар, — личности небезынтересные. Поклонникам фрейдизма они бы точно понравились. У Альбера сложные отношения с матерью, у Эдуара — с отцом. Альбер мучается психическим расстройством, появившимся у него после того, как во время боя он был закопан заживо. Художник-гомосексуалист Эдуар, в прямом смысле потерявший лицо, начинает творить собственную реальность, для чего облачается в невероятные маски и вкалывает себе героин. Такие герои — просто мечта любого символиста! Но Леметр довольствуется малым. Он лишь очерчивает характеры, не показывая в полной мере их развитие. Образы двух друзей не раскрываются полностью, их поступки не всегда понятны. Если какой-нибудь скептик обзовет их простыми сумасшедшими, то защитить их перед ним будет непросто.
К набору незавершенных образов присовокупляется совершенно не выразительный язык Леметра. Изысканность французского слога убита русским переводом наповал. Логические несоответствия и стилистические курьезы пестрят на страницах книги:
Для нас с вами эта Сесиль всего лишь хорошенькая девушка. Но для него — совсем другое дело. Каждая клеточка ее тела состояла из особых молекул, ее дыхание истончало особенный аромат. <…> Или хоть взять ее губы <…>. С этих губ он срывал такие горячие и нежные поцелуи, что у него сводило живот и что-то взрывалось внутри, он ощущал, как ее слюна перетекает в него, он упивался, и эта страсть была способна творить такие чудеса, что Сесиль была уже не просто Сесиль.
Пожалуй, самое сильное место в книге — описание того, как происходило перезахоронение французских солдат (кстати, история вовсе не выдуманная). Предприимчивые дельцы хоронили убитых в очень маленьких гробах, переламывая трупам кости. Именно в этой части текста талант Леметра раскрывается в полной мере. Он следует традициям французских экзистенциалистов, заставляя почувствовать леденящий душу холод с того света:
Он видел невеселые сны: солдаты, уже давно начавшие разлагаться, садились в своих могилах и плакали; они звали на помощь, но из их уст не вырывалось ни единого звука; единственным утешением им служили огромные сенегальцы, голые, как черви, продрогшие от холода, которые обрушивали на них полные лопаты земли, как набрасывают пальто на утопленника, которого только что выловили из воды.
Леметр признается, что был вдохновлен не одним классиком: от Гомера до Эмиля Ажара и Габриеля Гарсиа Маркеса. Не обошлось и без влияния семейного романа XIX века. Список источников большой — его приводит сам автор в конце книги. Этот благородный жест (который наверняка будет оценен будущими исследователи творчества писателя) заставляет задуматься, не сомневается ли писатель в умственных способностях своих читателей. Он не только упростил сюжет, но еще и раскрыл перед ними все карты.