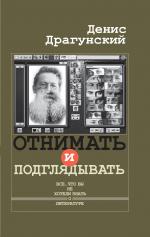- Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки. Биороман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 347 с.
В конце сентября в Редакции Елены Шубиной выходит автобиография известного журналиста, писателя, театрального критика Татьяны Москвиной. Книга «Жизнь советской девушки. Биороман» продолжает издательскую серию «На последнем дыхании», которую открыли «100 писем к Сереже» Карины Добротворской. Предельная искренность как обязательное условие мемуаров проявляется здесь и в описании ленинградского быта 1960–1980-х годов, и в трудном пути к самой себе.
Увертюра
Я пишу для тебя
Я не могла понять, зачем и для кого буду писать эту
книгу, пока не увидела её.Случайно на улице, шла мимо. Девушка лет восемнадцати в мешковатом чёрном пальто, длинные русые
волосы, кое-как подстриженная чёлка. Что-то нелепое
в фигуре. И в манерах. Что-то категорически не совпадающее с реальностью, порывистое и ужасно трогательное.Она не видела меня, увлечённая своей книжкой
или своими мечтами.Она смотрела куда-то серо-голубыми северными
глазами, а я замерла в узнавании… Я так хорошо знала
этот зачарованный рассеянный взгляд, эти обкусанные
ногти, эти бедные разбитые туфли.Я всем нутром ощущала, как она талантлива и как
несчастна. И я знала, что ещё долго-долго придётся ей
быть талантливой — неизвестно, в чём, — и несчастной, а это уж слишком ясно, отчего.Это женский мутант.
Это результат жестокого эксперимента по внедрению духа в природу.
Это женщина, которой досталась искорка творческого разума.
Это я.
Это я несколько десятилетий тому назад — с отчаянным туманом в голове, зачитавшаяся до одури, бредущая по городу…
Видимо, такие всегда были, есть и будут — наверное, существует норма в процентах. Я думаю, процентов пять—семь от общего числа…
Или уже больше?
Или всё-таки меньше?
Я не знаю. Но мне хотелось бы написать книгу,
которая помогла бы этой девушке выстоять в жизненной борьбе — выстоять и, быть может, победить.На этом месте многие читатели могут и надуться.
Скажут — а что, если у нас ногти не обкусанные
и взгляд не зачарованный, и если мы вообще мужчины
средних лет, так что же, нам и книжку эту читать не
разрешается?Что вы, что вы. Сегодня я приглашаю всех! Я же
буду рассказывать о своей жизни, а это вызывает
аппетит у многих. Я сама с наслаждением читала
жизнеописания людей, с которыми не имела ничего
общего ни по полу, ни по возрасту, ни по судьбе —
но чем дальше от себя, тем даже лучше, своё-то мы
и так знаем.Пусть ко мне на огонёк приходят самые разные
люди, пожалуйста. Я говорю лишь о внутреннем послании, о письме «неведомой подруге» или ученице, которую никогда, наверное, не встречу в реальности, — это
я сама восемнадцати лет, возродившаяся вновь, сейчас,
в этом мире.Мне кажется, ей сейчас горько, трудно, странно.
Её мысли и намерения путаются. Она не знает, что ей
делать, куда идти, где её путь. Мир жарко и пошло
наваливается на душу, бормочет бредовое и сбивает
с толку — а настоящих друзей мало. Почти нет. Их
может не быть вообще, так бывает…Я окликаю тебя.
— Эй, ты! Да, да, ты, с толстой книжкой в руке,
в стоптанных туфельках, с туманной, гудящей от слов
головой!Тебе кажется, что ты одна — и это так, ты одна,
но… ты не одна.Побудь со мной.
Послушай меня.
Я расскажу, как долго и трудно я шла к самой себе.
И ещё неизвестно, пришла ли. Из моей нелепой жизни
нельзя вывести никакого урока, но что-то понять из
неё — мне кажется — можно.Я вас не боюсь
Моя первая книжка, сборник эссе «Похвала плохому
шоколаду», вышла в 2003 году, из чего, как вы понимаете, следует, что автор удосужился собрать свои
сочинения в книгу, уже «отмотав срок» в сорок пять
лет. В следующем, 2004 году появился мой первый
роман, «Смерть это все мужчины», и я стала считаться
писателем, которым, конечно, была от рождения, чего
мир просто не знал.Но почему так поздно? Что это за литературный
дебют такой — в сорок шесть лет?Я могу предъявить высокому суду всякие черновики, рукописные и машинописные, разных лет —
простите, я писала, писала… только никому не показывала и ничего не завершала.Тут дело, конечно, не в семье (муж, двое детей),
которая брала силы, но уж не настолько, чтоб не смочь
написать книжку.(Каждый день по страничке — через год будет
книжка!)И не в трудностях самого процесса (всё ж таки
молотить на машинке было очень утомительно). Но
вела же я исправную критическую деятельность, сочиняла статьи, иногда довольно большие. Бывало, что
я писала от руки, и рука дико уставала. Тем не менее
я написала за три дня пьесу «Рождение богов», зелёной
шариковой ручкой, в припадке вдохновения. Стало
быть, и это не оправдание. Даже без верной Софьи
Андреевны (жена Толстого переписывала его сочинения, но у меня не может быть жены, я сама жена!) давно
могла бы ты, девушка, написать свою «Войну и мир».Ну, так в чём же дело?
Дело в ужасе перед людьми, перед их мнением.
Я боялась всеми кишочками души оказаться отвергнутой и осмеянной. Это сейчас внутри выросло что-то вроде дерева и оделось корой, правда, не особо прочной. А до «великого одеревенения» моя душевная природа состояла, как тело матерого бойца, из ран, ожогов,
синяков, обморожений и прочих злополучий, в разных
стадиях заживления…В детской жизни было два горестных случая. То
есть их было двести двадцать два, но эти запомнились
острей всех.Меня отдали в школу — ещё семи лет не было —
зачем сидеть в детском саду смышлёному ребёнку,
который свободно читает и пишет. Трудности в общении со сверстниками, некоторую угрюмую отъединённость от мира, чрезмерную ранимость просто не заметили. (Я всегда была скрытной — коренное свойство
натуры.)Так вот, школы я испугалась. Так испугалась, что
несколько раз на людях описалась от страха. Дети смеялись — учительница, добрейшая Тамара Львовна,
взяла меня под защиту. Ничего очень уж страшного не
было, травли там или постоянного издевательства, дети
были неплохие, потом я подружилась с некоторыми
и защитилась ими от стаи. Но забыть ощущение позора трудно.Дома ничего не сказала.
Второй случай. Меня в начальных классах оставляли на продлёнку, часов до шести в школе — делать
уроки, читать под надзором. И кормили ещё какой-то
дрянью. Так ужасна была жареная картошка, отвратительная, горького вкуса — а я-то выросла на гениальной бабушкиной стряпне, — что я не могла это есть
и потихоньку выбрасывала несъедобные дольки под
стол. Кухонная работница заметила самоволку и стала
возмущённо орать. Крупная злая бабища, а я тогда
была маленькая, тихая, с косичками. Она заставила
меня лезть под стол и собирать эту горькую невыносимую картошку, и я не посмела сопротивляться. Через
шесть лет — смогла, всему школьном режиму смогла
дать отпор, о чём расскажу, а тогда сил не набрала ещё.
Полезла под стол, ползала там среди школьниковых
ног, собирала картошку, они смеялись, ух как они смеялись! Помню атомную смесь жаркого красного стыда
и солёных изобильных слёз.Я думаю, надолго остался ужас — сделать что-то
не то, над чем будут смеяться. Но его больше нет.Страх перед насмешками и осуждением людским
ушёл вместе с другими человеческими свойствами, из
которых более всего мне жаль чудесной способности
любить на ровном месте. Она, эта способность, очень
скрасила мне жизнь.Я не боюсь людей. Наверное, я их больше не
люблю — и оттого совсем не боюсь.Я кровно приварена к семье, легко отдам жизнь за
детей, многие люди меня восхищают, есть те, кто дорог
и симпатичен. Но любви больше нет — надорвалась,
устала я любить.(Мне кажется, если быть честными и посмотреть
внимательно и строго вглубь жизни — уходит любовь-
то, утекает от нас…)Ну, об этом мы ещё поговорим, а сейчас важно то,
что отдельная русская женщина совершенно распустилась и осмелела. И собирается рассказать о своей жизни,
дерзко выкрикивая «я вас не боюсь!»И чего мне бояться? Я научилась жить среди равнодушия, без горячей заботы о себе, без подарков судьбы, в беспокойстве и раздражении постоянном. Когда
меня оскорбляют, мне больно, но через два—три дня
всё проходит. Женщины часто воспринимают триаду
«деньги—слава—любовь» как возможную защиту от
холода и боли (любовь тоже боль, но иного рода) —
однако я выучилась жить и с холодом и с болью. Я терплю холод, как почтальон в старину, отправленный в
дальнее поселение с важным письмом, я терплю боль,
как терпит её человек с вылезшим гвоздём в ботинке,
который ежеминутно терзает пятку, — и ботинок
почему-то нельзя снять.Тем более что радость хоть не каждый день, как
солнце на Севере, но согревает душу.Пока что — всё терпимо.
Зря я так боялась.
Я что-то знаю?
Я, я, я, я… Забавно придумала Рената Литвинова имечко для своей глухой героини в сочинении «Обладать
и принадлежать» — Яя. Внутри нас действительно
живёт какая-то «Яя», и любит она про себя сказки сказывать и приговоры приговаривать.Над этим посмеивался гениальный Шварц Евгений Львович в гениальных своих дневниках (которые
до сих пор вроде бы полностью не расшифрованы), где
писал без придумок, с натуры — людей, годы, жизнь.
У него есть пассаж про художника Лебедева, который
любил самые обычные свои движения сопровождать
торжественным «У меня есть такое свойство…».«У меня есть такое свойство — я терпеть не могу
винегрета…»Ох ты батюшки, свойство у него.
Думаю, и вы встречали немало таких людей, важно
сообщающих нам совершенные пустяки, как рельефные, полные смысла личные «свойства».«Я пью только зелёный чай».
«Я плохо сплю в поезде».
«Не люблю печёнку!»
Ну а что, собственно, нам говорят про человека
подобные «свойства»? Ничего. Разве что помогают
притереться к индивиду, если судьба его к вам привела-приткнула. Если он ваш гость, к примеру, — ладно,
заварим ему зелёного чаю. Не дадим печёнки. Мы
гуманисты.Другое дело, если человек заявит что-то из области ментальных пристрастий.
«Почти не читаю художественной литературы, она
меня утомляет, мне скучно».«Русский рок? Нет, не перевариваю, увольте».
«Сейчас хожу только в Студию театрального искусства Женовача — это лучшее, что есть в Москве».
Уже ничего, можно какой-то разговор затеять.
Поспорить хотя бы, правда, те воображаемые фразы,
что я привела, рисуют портрет довольно категоричного, намеренно ограниченного человека, и спорить
с ним будет трудно.Но я веду к чему? К тому, что самоопределение
через набор свойств — чаще всего маленький Яя-театр.
Человеку хочется построить и сыграть цельный художественный образ себя. А потом его ещё и проанализировать! Не только перевоплотиться в образ себя, но
и рассказать о нём. Выполнить одновременно функции художественного творчества и критического анализа!Поразительно, но многие с этим справляются
отлично. (Никто не сообщает только одного — каков
его обычный процент лжи в рассказе о себе, никто
и никогда.) Так что, общаясь с человеком, имеешь дело
с двумя существами: с ним и с его художественным
образом.Крайний вариант такого раздвоения изумительно
сыграл актёр Сергей Русскин в роли Иудушки Головлёва («Господа Г.» по роману Щедрина «Господа Головлёвы», театр «Русская антреприза имени А. Миронова», Петербург). Иудушка — бездушный выродок, он
родился дефективным, бесчувственным к людям, с сильными, хищными первобытными инстинктами, что-то
ужасное есть в этой полной бабьей фигуре с адскими
ледяными глазами, что-то от нелюдя, тролля, болотной
нежити. Но он сам считает себя прилежным христианином, образцовым человеком, близким к ангелу!
Он обирает ближних с неумолимостью насекомого,
и при этом слово «бог» не сходит с его уст, принимаются смиренные позы, он сам себе кажется прекрасным, благородным, справедливым, добродетельным!Ага, скажете вы, но придумка себя идёт изнутри —
есть же «объективные показатели».Хорошо. Я смотрю на себя в зеркало — вижу
немолодую женщину среднего роста, очень крупную,
полную, с огромной грудью и животом. При этом
у меня тонкие запястья, щиколотки и шея. Осветлённые волосы обстрижены и не доходят до плеч, глаза
зелёные, но многие утверждают, что голубые —
странный, не разгаданный мной эффект. Слева в углу
губ большая родинка с явной перспективой на бородавку. В разных странах мира меня принимали только
за русскую. Лишь однажды — за польку! Помню, как
ленфильмовский гример Коля, когда я пришла на
грим для картины «Мания Жизели», посмотрел в зеркало и сказал: «А что её гримировать? Хорошее русское лицо». Подумал и добавил: «Типа Крупской».Хорошее русское лицо типа Крупской. Хорошее,
нормальное русское чудище женского рода.Но там, внутри себя, я же ничего этого не чувствую! Ни веса, ни возраста, ни цвета глаз, ни родинки — ничего…
Внутри меня обитает та, чьего имени я не знаю
и называю её Мать — Тьма, великая Тьмать, и моё тело
нужно только для поддержки её временных границ.Она заперта во мне. Она где-то есть в полной
мере не во мне, как где-то есть океан, но она есть и во
мне — она меня создала, и я не могу не отзываться,
когда она зовёт.Тьмать доходит до головы, но там она всевластия
уже не имеет. Туда она протекает во время сна полностью, а с пробуждением медленно и неохотно утекает,
оставляя густые, тёмные, долго высыхающие следы.
Там, в голове, неравномерный свет — то блистающий
и острый, то спокойный и мерцающий. Иногда он так
разрастается, что чудится, будто заливает он всю Тьмать,
затаившуюся внизу, в родовых глубинах. Но уж оттуда
её не изгонишь, не вытравишь ничем и никогда!А среди борений света и тьмы, кто там поёт
и чирикает?Да так. Какая-то птичка. Вот залетела и поет.
И я её спрашиваю утром: ну что, как дела? Будем жить?
И она отвечает: да-да! Будем жить-жить!Птица моя капризница — то запечалится вдруг, то
развеселится. Но вообще-то она питается радостью
и дарит мне ощущением полёта, хотя где она там летает — уму непостижимо…Но кто же здесь я?
А вот всё это хозяйство вместе и есть я. Всё это
хозяйство, да притом в динамическом развитии от
нуля до наших дней.Об этом и расскажет вам мой «биороман».
Буду писать спокойно и просто.
Занавес, занавес, поднимайте занавес — я готова.
Метка: АСТ
Оливер Сакс. Человек, который принял жену за шляпу
- Оливер Сакс. Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной практики. — М.: АСТ, 2014. — 320 с.
Во времена, когда нон-фикшн, по словам Татьяны Толстой, выживает художественную литературу, «АСТ» выпустило переиздание книги известного британского невролога и нейропсихолога Оливера Сакса. «Человек, который принял жену за шляпу» — это истории о современных людях, пытающихся побороть серьезные и необычные нарушения психики, а также о мистиках прошлого, одержимых видениями, которые в наши дни наука уверенно диагностирует как проявление тяжелых неврозов.
[12] ВЫЯСНЕНИЕ ЛИЧНОСТИ — Чего прикажете сегодня? — говорит он, потирая
руки. — Полфунта ветчины? Рыбки копченой?Он явно принимает меня за покупателя; подходя к
телефону в госпитале, он часто отвечает: «Алло, бакалея
Томпсона».— Мистер Томпсон! — восклицаю я. — Вы что, не узнали меня?
— Боже, тут так темно — ну я и подумал, что покупатель. А это ты, дружище Питкинс, собственной персоной!
Мы с Томом, — шепчет он уже медсестре, — всегда ходим
вместе на скачки.— Нет, мистер Томпсон, вы опять обознались.
— Само собой, — отвечает он, не смутившись ни на
секунду. — Стал бы Том разгуливать в белом халате! Ты
Хайми, кошерный мясник из соседней лавки. Странно,
на халате ни пятнышка. Что, не идут нынче дела? Ну ничего, к концу недели будешь как с бойни.Чувствуя, что у меня самого начинает кружиться голова в этом водовороте личностей, я указываю на свой стетоскоп.
— А, стетоскоп! — кричит он в ответ.
— Да какой же
ты Хайми! Вот ведь вы, механики, чудной народ. Корчите
из себя докторов — белые халаты, стетоскопы: слушаем,
мол, машины, как людей! Мэннерс, старина, как дела на
бензоколонке? Заходи-заходи, сейчас будет тебе все как
обычно, с черным хлебом и колбаской…Характерным жестом бакалейщика Вильям Томпсон
снова потирает руки и озирается в поисках прилавка. Не
обнаружив его, он со странным выражением смотрит на
меня.— Где я? — спрашивает он испуганно. — Мне казалось,
я у себя в лавке, доктор. Опять замечтался… Вы, наверно,
как всегда хотите меня послушать. Рубашку снимать?— Совсем не как всегда. Я не ваш доктор.
— Хм, и вправду. Сразу заметно. Мой-то доктор вечно
выстукивает да выслушивает. Боже милостивый, ну у вас
и бородища! Вы на Фрейда похожи — я что, совсем того?
Чокнулся?— Нет, мистер Томпсон, не чокнулись. Но у вас проблемы с памятью, вы с трудом узнаете людей.
— Да, память шалит, — легко соглашается он, — я,
бывает, путаюсь, принимаю одного за другого… Так чего
прикажете — копченой рыбы, ветчины?И так каждый раз, с вариациями, с мгновенными ответами, часто смешными и блестящими, но в конечном
счете трагическими. В течение пяти минут мистер Томпсон принимает меня за дюжину разных людей. Догадки
сменяются гипотезами, гипотезы — уверенностью, и все
это молниеносно, без единой заминки, без малейшего
колебания. Он не имеет никакого представления о том,
кто я, не знает даже, кто он сам и где находится. Тот факт,
что он бывший бакалейщик с тяжелым синдромом Корсакова и содержится в неврологическом учреждении, ему
недоступен.В его памяти ничто не удерживается дольше нескольких секунд, и в результате он постоянно дезориентирован.
Пропасти амнезии разверзаются перед ним каждое мгновение, но он ловко перекидывает через них головокружительные мосты конфабуляций и всевозможных вымыслов.
Для него самого, заметим, это отнюдь не вымыслы, а внезапные догадки и интерпретации реальности. Их бесконечную переменчивость и противоречия мистер Томпсон
ни на миг не признает. Как из пулемета строча неиссякаемыми выдумками, он изобретает все новые и новые
маловразумительные истории, беспрестанно сочиняя вокруг себя мир — вселенную «Тысячи и одной ночи», сон,
фантасмагорию людей и образов, калейдоскоп непрерывных метаморфоз и трансформаций. Причем для него это
не череда мимолетных фантазий и иллюзий, а нормальный, стабильный, реальный мир. С его точки зрения, все в порядке.Как-то раз он решил проветриться, отрекомендовался в приемной «преподобным Вильямом Томпсоном»,
вызвал такси — и был таков. Таксист нам потом рассказывал, что никогда не встречал более занятного пассажира: тот всю дорогу развлекал его бесконечными, полными
небывалых приключений историями.— Такое ощущение, — удивлялся водитель, — что он
везде был, все испытал, всех знал. Трудно поверить, что
можно столько успеть за одну жизнь.— Не то чтобы за одну, — объяснили мы ему.
— Тут речь
идет о многих жизнях, о выяснении личности.Джимми Г., еще один пациент с синдромом Корсакова, о котором я подробно рассказал во второй главе этой
книги, довольно быстро «остыл», вышел из острой стадии
болезни и необратимо впал в состояние потерянности,
отрезанности от мира (он существовал как бы во сне, принимая за реальность полностью овладевшие им воспоминания). Но с мистером Томпсоном все было по-другому.
Его только что выписали из госпиталя, куда за три недели
до этого забросила его внезапная вспышка корсаковского
синдрома. Тогда, в момент кризиса, он впал в горячку и
перестал узнавать родных, однако и сейчас еще в нем бурлил неудержимый конфабуляторный бред — он весь кипел в беспрестанных попытках воссоздать ускользающий
из памяти, расползающийся мир и собственное «Я».Подобное неистовство может пробудить в человеке
блестящую изобретательность и могучее воображение —
истинный гений вымысла, поскольку пациент в буквальном смысле должен придумывать себя и весь остальной
мир каждую минуту. Любой из нас имеет свою историю,
свое внутреннее повествование, непрерывность и смысл
которого составляют основу нашей жизни. Можно утверждать, что мы постоянно выстраиваем и проживаем такой
«нарратив», что личность есть не что иное, как внутреннее
повествование.Желая узнать человека, мы интересуемся его жизнью
вплоть до мельчайших подробностей, ибо любой индивидуум представляет собой биографию, своеобразный рассказ. Каждый из нас совпадает с единственным в своем
роде сюжетом, непрерывно разворачивающимся в нас и
посредством нас. Он состоит из наших впечатлений, чувств,
мыслей, действий и (далеко не в последнюю очередь) наших собственных слов и рассказов. С точки зрения биологии и физиологии мы не так уж сильно отличаемся друг
от друга, но во времени — в непрерывном времени судьбы — каждый из нас уникален.Чтобы оставаться собой, мы должны собой обладать:
владеть историей своей жизни, помнить свою внутреннюю
драму, свое повествование. Для сохранения личности человеку необходима непрерывность внутренней жизни.Идея повествования, мне кажется, дает ключ к болтовне мистера Томпсона, к его отчаянному многословию.
Лишенный непрерывности личной истории и стабильных
воспоминаний, он доведен до повествовательного неистовства, и отсюда все его бесконечные выдумки и словоизвержения, все его мифотворчество. Он не в состоянии
поддерживать реальность и связность внутренней истории
и потому плодит псевдоистории — населенные псевдолюдьми псевдонепрерывные миры-призраки.Как он сам реагирует на свое состояние? Внешне мистер Томпсон похож на блестящего комика; окружающие
говорят, что с ним не соскучишься. Его таланты могли бы
послужить основой настоящего комического романа. Но
кроме комедии здесь есть и трагедия, ибо перед нами человек в состоянии безысходности и безумия. Мир постоянно ускользает от него, теряет фундамент, улетучивается,
и он должен находить смысл, создавать смысл, все придумывая заново, непрерывно наводя мосты над зияющим
хаосом бессмысленности.Знает ли об этом сам мистер Томпсон, чувствует ли,
что произошло? Вдоволь насмеявшись при знакомстве с
ним, люди вскоре настораживаются и даже пугаются. «Он
никогда не останавливается, — говорят все, — будто гонится за чем-то и не может догнать». Он и вправду не в
силах остановиться, поскольку брешь в памяти, в бытии
и смысле никогда не закрывается, и он вынужден заделывать ее каждую секунду. Его «мосты» и «заплаты», при всем
их блеске и изобретательности, помогают мало — это лишь
пустые вымыслы, не способные ни заменить реальность,
ни даже приблизиться к ней.Чувствует ли это мистер Томпсон? Каково его ощущение реальности? Страдает ли он? Подозревает ли, что заблудился в иллюзорном мире и губит себя попытками
найти воображаемый выход? Ему явно не по себе; натянутое, неестественное выражение лица выдает постоянное
внутреннее напряжение, а временами, хоть и нечасто, —
неприкрытое, жалобное смятение. Спасением — и одновременно проклятием мистера Томпсона является абсолютная «мелководность» его жизни, та защитная реакция,
в результате которой все его существование сведено к
поверхности, пусть сверкающей и переливающейся, но
все же поверхности, к мареву иллюзий, к бреду без какой бы то ни было глубины.И вместе с тем у него нет ощущения утраты, исчезновения этой неизмеримой, многомерной, таинственной
глубины, определяющей личность и реальность. Каждого,
кто хоть ненадолго оказывается с ним рядом, поражает,
что за его легкостью, за его лихорадочной беглостью совершенно отсутствует чувство и суждение, способность
отличать действительное от иллюзорного, истинное от
неистинного (в его случае бессмысленно говорить о намеренной лжи), важное от тривиального и ничтожного.
Все, что изливается в непрерывном потоке, в потопе его
конфабуляций, проникнуто каким-то особым безразличием, словно не существенно ни что говорит он сам, ни
что говорят и делают окружающие, словно вообще ничто
больше не имеет значения.Один пример хорошо иллюстрирует его состояние.
Как-то днем, посреди нескончаемой болтовни о только
что выдуманных людях, мистер Томпсон, не меняя своего
возбужденного, но ровного и безразличного тона, заметил:— Вон там, за окном, идет мой младший брат Боб.
И как же я был ошеломлен, когда минутой позже в
дверь заглянул человек и представился:— Я Боб, его младший брат; кажется, он увидел меня
через окно.Ничто в тоне или манере Вильяма, в его привычно
бурном монологе не намекало на возможность… реальности. Он говорил о своем настоящем брате в точности
тем же тоном, каким описывал вымышленных людей, — и
тут вдруг из сонма фантазий выступила реальная фигура!
Но даже это ни к чему не привело: мистер Томпсон не
проявил никаких чувств и трещал не переставая. Он не
увидел в брате реального человека и продолжал относиться к нему как к плоду воображения, постоянно теряя его
из виду в водовороте бреда. Такое обращение крайне
угнетало бедного Боба.— Я Боб, а не Роб и не Доб, — безуспешно настаивал
он. Некоторое время спустя в разгаре бессмысленной болтовни Вильям внезапно вспомнил о своем старшем брате,
Джордже, и заговорил о нем, как всегда употребляя настоящее время.— Но ведь он умер девятнадцать лет назад! — в ужасе
воскликнул Боб.— Да-а, Джордж у нас большой шутник! — язвительно
заметил Вильям — и продолжал нести вздор о Джордже в
своей обычной суетливой и безжизненной манере, равнодушный к правде, к реальности, к приличиям, ко всему
на свете — даже к нескрываемому страданию живого брата у себя перед глазами.Эта сцена больше всего остального убедила меня, что
Вильям полностью утратил внутреннее чувство осмысленности и реальности жизни.Как когда-то по поводу Джимми Г., я обратился к нашим сестрам с вопросом: сохранилась ли, по их мнению,
у мистера Томпсона душа — или же болезнь опустошила
его, вылущила, превратила в бездушную оболочку? На
этот раз, однако, их реакция была иной. Сестры забеспокоились, словно подозревали что-то в та ком роде. Если
в прошлый раз они посоветовали мне, прежде чем делать
выводы, понаблюдать за Джимми в церкви, то в случае с
Вильямом это было бесполезно, поскольку даже в храме
его бредовые импровизации не прекращались.Джимми Г. вызывает глубокое сострадание, печальное
ощущение потери — рядом с искрометным мистером Томпсоном подобного не чувствуешь. У Джимми сменяются
настроения, он погружается в себя, он тоскует — в нем есть
грусть и душевная глубина… У мистера Томпсона все по-другому. В теологическом смысле, сказали сестры, он, без
сомнения, наделен бессмертной душой, Всевышний видит
и любит его, однако в обычном, человеческом смысле что-
то страшное произошло с его личностью и характером.Именно из-за того, что Джимми потерян, он может
хоть на время обрести себя, найти убежище в искренней
эмоциональной привязанности. Пользуясь словами Кьеркегора, можно сказать, что Джимми пребывает в «тихом отчаянии», и поэтому у него есть шанс спастись, вернуться в мир реальности и смысла — пусть утраченный, но не
забытый и желанный. Блестящий же и поверхностный
Вильям подменяет мир бесконечной шуткой, и даже если
он в отчаянии, то сам этого отчаяния не осознает. Уносимый словесным потоком, он безразличен к связности и
истине, и для него нет и не может быть спасения — его
выдумки, его призраки, его неистовый поиск себя ставят
непреодолимую преграду на пути к какой бы то ни было
осмысленности.Как парадоксально, что волшебный дар мистера Томпсона — способность непрерывно фантазировать, заполняя
вымыслами пропасти амнезии, — одновременно его несчастье. О, если бы, пусть на миг, он смог уняться, прекратить нескончаемую болтовню, отказаться от пустых,
обманчивых иллюзий — возможно, реальность сумела бы
тогда просочиться внутрь, и нечто подлинное и глубокое
ожило бы в его душе!Память мистера Томпсона полностью разрушена, но
истинная сущность постигшей его катастрофы в другом.
Вместе с памятью оказалась утрачена основополагающая
способность к переживанию, и именно в этом смысле он
лишился души.Лурия называет такое отмирание чувств «эмоциональным уплощением» и в некоторых случаях считает это
необратимой патологией, главной причиной крушения
личности и внутреннего мира человека. Мне кажется,
подобное состояние внушало ему ужас и одновременно
бросало вызов как врачу. Он возвращался к нему снова и
снова, иногда в связи с синдромом Корсакова и памятью,
как в «Нейрофизиологии памяти», но чаще в контексте
синдрома лобной доли, особенно в книге «Мозг человека
и психические процессы». Описанные там истории болезни сравнимы по своему эмоциональному воздействию
с «Историей одного ранения». В некотором смысле они
даже страшнее. Несмотря на то что пациенты Лурии не
осознают случившегося и не тоскуют об утраченной реальности, они все равно воспринимаются как безнадежно оставленные, забытые Богом.Засецкий из «Потерянного и возвращенного мира»
представлен как боец, понимающий свое состояние и с
упорством обреченного сражающийся за возвращение
утраченных способностей. Положение мистера Томпсона
гораздо хуже. Подобно пациентам Лурии с поражением
лобных долей, он обречен настолько, что даже не знает
об этом: болезнь-агрессор захватила не отдельные органы
или способности, а «главную ставку», индивидуальность,
душу. В этом смысле мистер Томпсон, при всей его живости, «погиб» в гораздо большей степени, чем Джимми: в
первом сквозь кипение и блеск никогда не проглядывает
личность, тогда как во втором отчетливо угадывается реальный человек, действующий субъект, пусть и лишенный прямой связи с реальностью.Для Джимми восстановление этой связи по крайней
мере возможно, и лечебную задачу в его случае можно
подытожить императивом «установить человеческий контакт». Все же попытки вступить в настоящее общение с
мистером Томпсоном тщетны — они только усиливают
его конфабуляции. Правда, если предоставить его самому
себе, он уходит иногда в тихий садик рядом с нашим Приютом и там, в молчании, ненадолго обретает покой. Присутствие других людей тревожит и возбуждает его, вовлекая в бесконечную светскую болтовню; призрак человеческой близости снова и снова погружает его в состояние лихорадочного поиска и воссоздания себя. Растения же,
тихий сад, ничего не требуя и ни на что не претендуя, позволяют ему расслабиться и приостановить бред. Всеобъемлющая цельность и самодостаточность природы выводит его за рамки человеческих порядков, и только так, в
глубоком и безмолвном причащении к естеству, может он
как-то успокоиться и восстановить ощущение собственной реальности и бытия в мире.
Денис Драгунский. Отнимать и подглядывать
- Денис Драгунский. Отнимать и подглядывать. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 378 с.
В книгу «Отнимать и подглядывать» вошли статьи и заметки российского филолога и писателя Дениса Драгунского, опубликованные им в последнее десятилетие и посвященные литературе и всем нам. По словам автора, «отнимать и подглядывать — это, конечно, ужасно. Нехорошо, невежливо и даже иногда наказуемо», однако без этого не бывает ни нормального общества, ни культуры.
ЛЕТО И ТИШИНА
Когда что-то важное случалось, бабушка говорила: «Москва гудит!» Я помню, я слышал, как гудит Москва. Когда на каждом перекрестке, во всех дворах, в троллейбусах и метро, у каждого газетного киоска и цистерны с квасом, и в квартирах тоже, родные, знакомые и совсем незнакомые люди — везде говорили о чем-то, что потрясало. На моей памяти Москва гудела, когда в 1961 году снимали памятники Сталину. Когда через три с небольшим года сняли Хрущева. Когда поэты читали стихи на стадионах. Когда в 1971 году погибли космонавты, об этом шумела улица — буквально, реально, вслух. Как ни странно, о танках в Праге говорили тише. Потом Москва затихла надолго, лет на пятнадцать.
Правда, в этот молчаливый период московский шум распался на ручейки, на отдельные источники звука. На маленькие бумбоксы, как сказала бы нынешняя молодежь. Москва тихонечко гудела о повестях Трифонова, о судьбе «Нового мира», о Бродском и Солженицыне, о Любимове и Ефремове, о Параджанове и Тарковском. Конечно, это была Москва частичная, интеллигентская, жадно читающая и взволнованная судьбами страны, — но все же казалось, что ее много — той Москвы, а значит той страны. Были ключевые слова, общие коды и пароли, было желание узнать, понять, обсудить.
Перестройка, распад СССР, реформы Ельцина—Гайдара, мятеж 1993 года — Москва и страна снова загудела, вся, целиком, сверху вниз и справа налево. Все смотрели новое телевидение, независимое и смелое. Совокупный тираж толстых журналов обеспечивал однотипным чтением практически все грамотное население СССР. Это было очень политизированное чтение и не всегда такое уж высокохудожественное: многие романы-откровения тогдашних лет сейчас читать просто невозможно. К публицистике эти претензии не относятся: статья-сенсация через десять лет просто обязана оказаться наивной, простодушной, банальной. Иначе она не была бы сенсационной тогда. Так ли это важно? «Общерусский разговор», о котором говорил сто лет назад Василий Розанов, все-таки состоялся.
Но закончился довольно быстро.
Наверное, свою роль сыграла цензура, укрепление властной вертикали, государственный контроль над телевидением. Но главное не в этом. И даже не в том, что народ, вынужденно объедавшийся пищей духовной, с удовольствием перешел на более материальное меню.
Дело гораздо серьезнее.
Когда чего-то слишком много, оно как будто исчезает. Или теряет смысл. Стеллажи книжных магазинов пугают изобилием названий. Ярмарка интеллектуальной литературы Non-Fiction способна раздавить посетителя необозримой массой толстых, мелким шрифтом, многотомных умных книг обо всем. «Социология французской шляпной ленты в сороковых годах XIX века». «Комментарии и указатели к дневникам английских солдат в Индии». «Московские домовладельцы Сущевской части». «Трансгруэнтность локальности в постмодерне». Гигабайты информации, тонны веса, сотни тысяч рублей. Составлять библиотеку — даже по какой-то узкой отрасли — бессмысленно. Неподъемно и по деньгам, и по времени — все равно не прочтешь, физически не успеешь. Профессиональная эрудиция балансирует между интернетом и малотиражными изданиями, не вывешенными в сети. Надобно сказать, что в интернете тоже не всё прямо на блюдечке лежит. Кое-что приходится искать так же долго и хлопотно, как в старом каталоге со скрипучими ящичками.
Гуманитарных книг много, и все они очень специальные. Группы носителей знания складываются вокруг издательских проектов. Интеллектуальное сообщество дробится на мел кие и мельчайшие коллективы, и это, наверное, естественно, когда касается специальных проблем. Обидно другое. Есть масса общественных вопросов, которые составляли суть интеллигентского разговора и десять, и сто лет назад. Говорили о законе и справедливости, о свободе и рабстве, о художнике и власти, и прежде всего — о правах человека. Сегодня все это выпало из поля зрения умных и образованных людей. Смерть несчастного Магнитского, дело Самодурова и Ерофеева, конфликт вокруг Химкинского леса… «Не надо, пожалуйста, не объясняй, я все равно не пойму, не разберусь», — сказал мне знакомый профессор-гуманитарий. Правда, сильно моложе меня.
Интересная штука. Вечные темы образованного сословия — «власть и народ», «народ и интеллигенция», «интеллигенция и власть», этакая большая тройка интеллигентского дискурса, — превратились в предмет специального интереса политических журналистов. Остальные прикасаются к ним с осторожностью — тем более что вольная политическая дискуссия сильно опошлена (а если честно — опоганена) интернет-форумами, где сплошная ругань и обличение врагов России — естественно, либералов и западников. К великому сожалению, этот стиль потихоньку проникает и в более респектабельную полемику.
Скучно, конечно, и отчасти пусто. Однако тоска по общекультурному диалогу, по тому самому «общерусскому разговору» — это ностальгия по модерну, то есть по индустриальному обществу, причем в его советской, тоталитарной версии. Ностальгия по обществу однотипной фабричной занятости, когда 90% людей живут на одну зарплату и читают (смотрят, слушают, обсуждают) примерно одно и то же. Поскольку «другое» — запрещено.
Глупое брюзжание.
Надо бы попытаться понять, что происходит вокруг. Тем более что происходят весьма серьезные вещи. По сравнению с которыми цензура и вертикаль власти — сущая чепуха, мелкая рябь на бездонном озере.
Старинный шутливый вопрос: достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники?
Конечно, нет. Что такое достоверность? Когда нечто достойно веры. Достойный человек Фукидид в V веке до нашей эры подробно и беспристрастно описал историю Пелопонесской войны, которая происходила у него на глазах. Попытки обвинить Фукидида в политической предвзятости и намеренных подтасовках оказались несостоятельны, недоказуемы. Если он и ошибался, то это были обычные ошибки и неточности, от которых не застрахован никто. Одна война — один историк: вот формула абсолютной достоверности. Однако войн все больше, а число историков растет в опережающей прогрессии. На любой аргумент находится сотня контраргументов — тоже хорошо документированных. История сплющивается, превращается в вещество необычайной фактической плотности, и вот в этом веществе, как внутри атом ной бомбы, возникает цепная реакция: событие превращается в идею, а идея — в обвинение, в проклятие. Самый краткий курс истории — это два слова и два знака препинания: «Они — гады!» Впрочем, число восклицательных знаков можно увеличивать — для убедительности и доказательности.
Говорить о достоверной, истинной, правдивой истории Второй мировой войны — значит просто не понимать предмета разговора. Говорить о «недопущении переписывания истории» — такое же прискорбное невежество, и хватит об этом.Есть темы более интересные — лично для меня. Да, для меня лично, и не вижу в этом ничего стыдного, особенно сейчас. Надоело быть динозавром, который смотрит вдаль, за горизонт, ищет цели и смысла. Общей цели для страны, общего для людей смысла! Последняя когорта глупых длинношеих динозавров появилась на свет в середине семидесятых. Дальше пошли млекопитающие, умные и складные. Они хотят хорошей работы. Хорошая работа — это когда хорошая зарплата. Чтоб жена и дети, квартира и автомобиль. Чтоб детям дать хорошее образование — чтоб у них тоже была хорошая работа (см. выше). Никто не хочет составить карту истоков Конго или открыть ген шизофрении. Точнее говоря, почти никто. Нет великой мечты. Ни личной, ни общей. Какой уж тут «общерусский разговор»? О чем гудеть Москве?
Главное, главное, главное — не брюзжать! Главное — научиться жить при капитализме. В буржуазном обществе. Где голодуху и дефицит не надо драпировать великими идеями и высокими мечтаниями. В бедных интеллигентных советских семьях родители устраивали с детьми «путешествие по карте». Вот прямо так — садились с атласом под абажур и, водя карандашом по ниточкам рек и дорог, воображали себе ландшафт и поселения. Или обсуждали прочитанные книги. И ходили в кино всей семьей. Оттуда, собственно, и высокие цели: хотелось выпрыгнуть из-под абажура.
А сейчас все кругом в необозримом ассортименте. И сравнительно недорого.
Мы думаем, что разговоры о ментальности, об экономике, о развитии демократии имеют смысл. Мы ошибаемся. Смысл имеет только искусство. Вернее, так — оно наименее бессмысленно из всего перечисленного. Оно расширяет зазор между «заработал» и «потратил».
Нужнее ли стало искусство с тех пор, как оно стало преизобильно и доступно? Особенно кино. Когда в него не надо ходить, когда оно само настырным торрентом стучится в каждый компьютер.
Когда изобретают что-то новое, это не отменяет старое. Мраморные статуи и картины маслом на холсте будут создаваться до скончания веков. Никуда не денутся многотомный роман, спектакль в трех действиях и фильм, на который «надо идти».
Но физическое присутствие не означает социального влияния. Классический мейнстрим, он же Большой-Пребольшой Стиль, становится уделом маргиналов, меньшинств, которые варятся в собственном фестивально-премиально-клубном соку. «Вы видели? Смотрели? Читали?» — «Не надо, пожалуйста, не рассказывайте, я все равно не прочитаю, не посмотрю…»
Литература — это нечто для литераторов. Театр, кино — для режиссеров.
Уже довольно давно фотография стала массовым самодеятельным искусством. Очередь за кинематографом. Почему кинематографисты чего-то хотят и требуют? Сейчас фильм можно снять мобильником. Повесить в YouTube…
И стать знаменитым?
Нет, конечно. Кому это надо? Неужели мы столь безнадежно суетны?
Чтоб люди услышали, посмотрели, что-то поняли?
Нет. Холодно. Та же суетность.
Чтобы сказать. Может быть, только самому себе. Если сумеешь себя услышать.
Я сажусь в кресло, я беру в руки мобильник, я фотографирую сам себя. Мобильник у меня простой, без контрольной камеры, поэтому я иногда промахиваюсь. Ничего. Цифра этим и отличается от аналога. Не понравилось — стер, дальше поехал. Снял. Перекачал на компьютер. Гляжу и стараюсь понять себя и молчаливую, ни о чем не гудящую Москву в окне.
Возможно, я когда-нибудь сниму такой фильм. Посмотрю его и сразу же сотру.
Искусство имеет право быть одноразовым. Особенно на фоне вечности.
Закон сохранения горя
- Марина Степнова. Безбожный переулок. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 328 с.
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.Г. Адамович
Проза Марины Степновой по праву занимает особое место в современной литературе. Ее романы — лирические переживания, облеченные в прозаическую форму. Грустные истории, говорящие о простых, но очень важных вещах — о том, что каждый человек должен любить и быть любимым.
«Безбожный переулок» — новый роман писательницы, в котором она остается верной себе. Тот, кто полюбил «Женщин Лазаря», будет рад совершить глубокое погружение в подсознание новых героев, присвоить себе их мечты, испытать на себе их боль. Также он еще раз сможет убедиться в том, что творчество Марины Степновой — это продолжение традиции, заложенной русскими классиками несколько веков назад.
По своей трагической интонации «Безбожный переулок» необыкновенно похож на произведения Чехова. В то время как современные люди пьют чай, ходят на работу и в магазин, рушится их жизнь. Самым важным в книге Степновой является вовсе не сюжет — его можно рассказать в двух предложениях и тем самым абсолютно опошлить. В центре внимания оказываются «подводные течения» — скрытые в оговорках и намеках сильнейшие переживания персонажей. Перед главным героем стоит задача распознать эти зашифрованные послания в поведении своей возлюбленной и разгадать ее тайну. Однако он, как и действующие лица в пьесах классика, с треском провалился.
В романе есть и наследница женских образов Чехова — Маля. Главное в ее жизни — мечта: «Я всегда мечтала просто жить, понимаешь? Это же самое интересное. Жить. Ехать. Останавливаться где хочешь. Снова ехать. Смотреть. Жить». Но в отличие от своих предшественниц Маля не останавливается на полпути к мечте, а идет к ней до конца.
Впрочем, сравнением с одним Чеховым здесь не обойтись. Роман охотно играет с цитатами Фета, Ахматовой, Адамовича, Хлебникова, Георгия Иванова. Образы и ситуации, встречающиеся в нем, уже были когда-то описаны русскими поэтами: «Осенний крупный дождь стучится у окна, обои движутся под неподвижным взглядом. Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она с тобою рядом?». Удивительно, что даже готовят здесь по рецептам, которыми наверняка пользовалось женское общество из «Анны Карениной». Что уж говорить об имени главного героя — Иван Сергеевич Огарев. Оно будто бы предопределяет его трагическую судьбу. Многочисленные отсылки к писателям-классикам свидетельствуют о том, что во все времена люди страдают по одним и тем же причинам: «Бедные люди — пример тавтологии. Кем это сказано? Может быть, мной?».
Но в конце Огарев напоминает персонажа не столько русского романа, сколько немецкой романтической повести, который видит реальность, неподвластную взгляду других людей. Грань между открывшейся ему истиной и безумием необычайно тонка. Одни решат, что Иван Сергеевич сошел с ума, другие — что он открыл для себя новую, настоящую жизнь, полную свободы, — ту самую, о которой мечтала его возлюбленная.
Художественный стиль Марины Степновой подталкивает принять позицию вторых. Язык романа чрезвычайно поэтичен и легок. Он заставляет поверить в каждое описанное чувство. Писательница подмечает мельчайшие детали, вкусы, делая созданный ею мир по-настоящему живым. Она искусно сочетает необыкновенно трогательные описания с фрагментами текста, написанными нарочито грубым стилем, с откровенным обличением, а иногда и вовсе с выдержками из медицинского справочника:
В комнату ползла, оставляя мокрый длинный след, уже не мать, не человек даже, просто все еще живое существо, почти оставленная Богом протоплазма, надоевшая пластилиновая игрушка, локтем сброшенная с поделочного стола. Аневризма, тихая, страшная ягода, невидимый пузырек, присосавшийся к сосуду, наконец-то лопнула. Мозг заливало тяжелой черной кровью, закупоривались по одному сосуды, захлопывались дверцы, суетливая возня, паника, разбегающаяся в разные стороны обезумевшая жизнь.
Такое разнообразие повествовательных регистров необходимо писательнице для того, чтобы как можно более точно отобразить все проявления жизни, подчеркнуть бессилие человека перед своей судьбой. Быть может, поэтому конец «Безбожного переулка», несмотря на всю его нереалистичность, кажется таким естественным.
Персонажи Марины Степновой, как и их литературные предки, ищут самое важное место на Земле — свой Дом. Заветное детское «чур, я в домике» они проносят через всю жизнь, превращая это заклинание в формулу счастья. Иван Сергеевич Огарев наконец-то нашел пристанище для своей души. Для этого, как и положено по традиции, ему пришлось лишиться всего, возможно, даже рассудка. Стоило ли это таких больших жертв?
Извлечение камня глупости
- Елена Чижова. Планета грибов. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 348 с.
Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла
Второзаконие 32:28
Методы владения читательским вниманием петербургской писательницы Елены Чижовой имеют удивительное, абсолютно нескромное сходство с воздействием на аудиторию одного экспериментального спектакля о тоталитарном режиме. Он был поставлен в Цюрихе в конце прошлого века в цирковом шатре, куда за определенную плату впускали всех желающих, но до финала не выпускали никого. Тесно, душно и темно — такова обстановка, которую безо всякой сценографии наполнял чеканный барабанный бой. Громкость звука постепенно усиливалась, ритм становился быстрее и быстрее, а вскоре и вовсе заходился в истеричном биении, вызывая чувство паники у многочисленной толпы посетителей.
Откуда идет тенденция осовременивать, почти что одомашнивать казематы, тюрьмы, орудия пыток, можно размышлять долго. И даже если беззаботные туристы, весело фотографируясь на гильотине или в испанском сапожке, так нивелируют страх смерти, то только будучи уверенными, что механизм не приведен в решительное действие. В сравнении с парком садистских развлечений новый роман Чижовой «Планета грибов» потрясает сильнее. Он основан не на устаревших кодах, а на реальности знакомой, дебелой, удушающей.
Сосново. Два дома по соседству. Два героя. Собственники чужой земли, которая еще принадлежит фантомам их родителей. Голосами наполнены комнаты, память: «Учти, ягодный сок не отстирывается», «Надо было пошевелиться. Принять меры», «Ты — дочь писателя». Напоминание о родословной — спазм, подобный эффекту от инквизиторской казни «Дочь дворника». Классовый упрек, которым понукаются безымянные он и она, звучит как заповедь: почитай отца твоего и мать. Но — не вняли. Сын инженеров-технологов стал переводчиком, девочка из интеллигентной семьи — торговкой.
Отрезать пуповину, ведущую к истории отечества, — идея фикс для многих персонажей автора. Как и попытка эмиграции. Сменить гражданство в этой книге стремится женщина, резкая, строгая, стальная, бездетная по факту, но мысленно ведущая беседы с нерожденным сыном. Он говорит ей: «Все эти советские души, обожающие своего Создателя… Знаешь, у меня такое впечатление, что они — не совсем люди». И, оглядываясь по сторонам, как в подтверждение этой догадки герои замечают жутких и непременно скудоумных монстров, сошедших с полотен Босха: «Стараясь отрешиться от давящей головной боли, он всматривался в их лица, но видел только овощи — на старушечьих плечах, вместо голов. Старуха-огурец. Старуха-картофелина. Старуха-кабачок…»
Не столь решительный, в отличие от женщины, мужчина держит с призраками прошлого нейтралитет, взаимный договор о невмешательстве. Нетронутыми остаются предметы родительского быта (тогда как героиня бьет статуэтки, сжигает наволочку, рвет форзацы книг), границы дачного участка. Он мучится тщеславием, но не имеет смелости встать в полный рост. Он собирает свои черновики для будущих исследователей, но сделанные им переводы незаметны. «Кавдорский тан», «король в грядущем» — ему так импонировало перекликаться титулами с другом-филологом — встретил не тех ведьм, не богинь судьбы, а среднестатистических обычных женщин.
Предвестье зла, таящееся в пекле солнца, в порывах бури, в шуме леса, в растущем из глубины влечении, доподлинно и осязаемо. Но обращение романных персонажей к Богу всегда идет с союзом «если». Заминка, достаточная для того, чтобы с опаской наблюдать за исполнением молитв. В спокойной интонации повествования слышна угроза и пессимизм:
Счастье, что Он терпелив. Готов повторять снова и снова, надеясь, что рано или поздно народу наскучит повторение — мать учения, и он перестанет кружить по широким полям шляпы Его извечного врага.
Все, кто стоит у власти божественной или человеческой, чьи звания мы пишем с прописной, кровавыми руками дергают за нити жизней. О том — свидетельства скрижалей и летописей. Об этом роман Чижовой, где несовершенство мира как настоящего, так и мифического, населенного грибами, одинаково обременительно автору и его неразумным созданиям.
Елизавета Заварзина-Мэмми. Приключения другого мальчика
- Елизавета Заварзина-Мэмми. Приключения другого мальчика. Аутизм и не только. — М.: АСТ: CORPUS, 2014. — 345 с.
«Приключения другого мальчика» – это история о том, как в конце восьмидесятых в московской семье родился второй ребенок. Он оказался совсем другим. Умный, тонко чувствующий, обаятельный, Петя не умел делать простых вещей – бегать, показывать пальцем, говорить; боялся незнакомых людей и громких звуков. Прошло довольно много времени, прежде чем Пете поставили диагноз «аутизм». «Приключения…», написанные его мамой, доказывают, что усилия никогда не бывают напрасными, а надежда – ложной, а также то, как легко и трудно любить детей.
Глава 2
4–6 лет. «Специалист знает лучше»Лечебная педагогика
Летом мы отправились на Черное море. Петя почему-то боялся подходить к воде на песчаном пляже, зато пытался шагнуть вниз с высокой скалы. Я заставляла его много ходить, а все остальное время мы рассматривали книжки. Иногда у него вдруг выскакивали отдельные слова. Однажды, показав на море, он сказал: «Вода!»
В конце лета на глаза мне попалась газетная статья c описанием центра, куда Петю направила психолог: «В коридорах сухие цветы, тихие голоса преподавателей». Когда в сентябре мы шли туда первый раз, я была настроена скептически, но все оказалось правдой: и сухие цветы, и тихие голоса, и казенными щами не пахло. На Петю смотрели без жалости и нездорового любопытства — с дружелюбным интересом, и меня никто не называл ни мамашей, ни мамочкой. Мне сказали, что дома мы делать ничего не должны и теперь я могу отдохнуть: всем необходимым с Петей будут заниматься преподаватели. Они знают, как с ним надо работать, и уверены, что он вот-вот заговорит. В группе детей было немного: пять испуганных мам привели четырехлетних малышей, все с диагнозом «задержка психоречевого развития», все неговорящие.
Хорошо запомнилось первое занятие — музыкотерапия. Мамы и дети вошли в просторную комнату и расселись на стульях. Преподаватель заиграла бодрую польку. Петя испуганно, вытаращив глаза, рванулся прочь, в поисках выхода врезался в одну стену, потом в другую… Я растерялась, не знала, что делать. «Да выведи ты его, не мучай», — шепнула мне соседка. На следующих занятиях музыкой мы садились подальше, и я закрывала Пете уши руками, чтобы он мог выдержать громкие звуки.
Уже со второго или третьего раза Пете понравилось в ЦЛП, он привязался к преподавателям, казалось, даже начал общаться с детьми. Два раза в неделю Петя по два часа проводил на групповых занятиях, затем было обязательное общее чаепитие. В третий раз мы привозили его на час к милой девушке, которая с ним рисовала, лепила, клеила, что-то тихо приговаривая.
В будущем предполагались занятия с логопедом. Все было достаточно радужно.
Зимой был праздник — настоящая елка! — и Петя не пробовал убежать и даже участвовал в хороводе, хотя плохо перебирал заплетающимися ногами (он вообще плохо держался на ногах). Мы были счастливы, видя, как он изменился, и первый раз за несколько лет вздохнули с облегчением.
Петя и Ати
В конце зимы нам предложили занятия иппотерапией.
Я с детства любила лошадей и была рада, что Петя сможет приобщиться к езде верхом.
Петиным инструктором оказался спокойный молодой человек, тоже Петр. Он подвел крошечного Петю к огромному белому коню Руулу, и Петя, конечно, испугался. Они вместе Руула погладили, потом Петю уговорили сесть верхом. С тоненькой длинной шеей, в черном защитном шлеме Петя был похож на грибок.
На ипподром мы стали ездить раз в неделю, со второго занятия Петю пересадили на вороного Ати. Петя полюбил все, что относилось к лошадям, дома появились соответствующие книжки, календари — лошадиная тема потеснила даже машины.
Однажды во время занятий появилась бойкая журналистка: она посмотрела на ребятишек, поговорила с мамами и выбрала для интервью меня. В результате нашей беседы появилась статья в газете, сообщавшая о пользе лечебной верховой езды вообще и для Пети в частности. Начиналась она словами: «На арене Петя-большой и Петя-маленький» (какая арена? Это же не цирк), а кончалась так: «Иногда после сеанса к нему возвращается сознание, и он говорит: «Мама…»
Весной выяснилось, что можно на две недели поехать в летний конный лагерь под Москвой и даже взять с собой Полю. Дети в лагере были с самыми разными проблемами.
Вова очень плохо двигался, все время держал руки во рту, пробовал что-то говорить, но издавал лишь нечленораздельные звуки; мама гуляла с ним в укромных уголках и ни с кем не общалась, а папа бормотал себе под нос: «Да все он понимает». Тема, мальчик Петиного возраста, на лошади мог только лежать, его удерживал инструктор. Девочка-подросток без речи и движения, с умными настороженными глазами, сидела в инвалидном кресле.
«Мама, мы на улицу побежали!» — две девочки медленно двигаются по коридору, одна держится за стенку, чтобы не упасть, другая — за ходунок.
Крупный подросток с печальным отрешенным взглядом и ловкими движениями не разговаривает, но постоянно напевает себе что-то под нос.
Другой подросток ни на кого не обращает внимания и непрерывно повторяет рекламные объявления.
Здоровые, как и Поля, братья и сестры детей с проблемами. Родители — и истории, истории…
Занятия для каждого ребенка были построены в зависимости от его возможностей. Одних инструктор только придерживал, другие так плохо сидели верхом, что требовалась помощь второго человека, кто-то мог сам управлять лошадью, а некоторые ребята даже занимались в группе. Вокруг площадки всегда сидели зрители. Это было завораживающее зрелище: счастливые дети, которые «на суше» не могли сделать и шага, вдруг обретали возможность передвигаться, да еще и верхом!
В обязанности детей входил уход за лошадьми и чистка конюшни. Петя был самый маленький и делать этого не мог, поэтому мы приходили смотреть, как работают другие. Наш инструктор, обняв Петю и осторожно расправив его ладошку с сухариком, помогал угощать Ати.
Помимо основных занятий были дополнительные кружки. Рисование вел «дядя Женя», вокруг которого в беседке трудились дети разного возраста. Несколько мам организовали театральный кружок: написали пьесу на сказочную тему с множеством ролей — так, чтобы хватило всем желающим. Кто мог, шил и клеил костюмы, а царевной была замечательно красивая Катя в инвалидном кресле: у нее не двигались ни руки, ни ноги. В конце смены нам показали спектакль, имевший большой успех. Мы с Петей смотрели представление через щелку в двери, уговорить его зайти в зал так и не удалось.
Из-за шума у нас были проблемы и со столовой: в большом помещении все говорили разом. Стоило кому-то встать, чтобы сделать объявление, — а это случалось довольно часто — Петя пугался, приходилось хватать его в охапку и выскакивать на воздух. Но все это были пустяки: мы замечательно провели две недели и домой вернулись полные прекрасных впечатлений.
Волшебные яблоки
- Марк Чангизи. Революция в зрении. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 304 c.
«Революция в зрении» не просто научно-популярная «объяснялка» об устройстве глаза и соответствующих отделов мозга. Описанные факты и явления нужны Марку Чангизи в первую очередь для изложения собственных немыслимых гипотез о зрении, нестандартных вопросов и странных выводов, каждый из которых, однако, аргументирован данными современной науки. Потому что автор исследования не просто антрополог или популяризатор, он — человек, умеющий думать.
Книга построена на простом приеме. Естественные возможности человеческого глаза, например цветовое зрение или бинокулярность, рассматриваются как сверхспособности. Оказывается, мы умеем многое из того, о чем вроде бы только в сказках говорится. Например, видеть насквозь, потому что мы (приматы) — «лиственные» животные, для которых когда-то было жизненно важно по небольшой части предмета уметь угадать целое. Этим объясняется и расположение глаз человека. Ведь если бы они находились по сторонам головы (как у многих насекомых, рыб), позволяя охватывать широкую панораму, то мы видели бы ее только под одним углом зрения. А так — самая настоящая суперспособность! Или предсказание будущего: мы замечаем изменения вокруг быстрее, чем наш мозг получает информацию о них, потому что обладаем умением не «додумать», но именно буквально пред-видеть ситуацию и отреагировать на то, что еще не случилось. Отсюда и наша склонность к оптическим иллюзиям: мозг пытается приписать статичной картинке способность двигаться. Так нам велела эволюция.
Таких гипотез Чангизи генерирует десятки, пытаясь ответить на вопрос «Почему мы видим так, а не иначе?» или, вернее, «Зачем нам видеть именно так?». Особенно увлекательна последняя глава книги. В ней говорится о возникновении алфавитов и о характере начертания букв и иероглифов. Кстати, эту суперспособность владения письмом Чангизи называет спиритизмом. Потому что с помощью букв можно общаться с мертвецами. И рассказывает анекдот о первобытных соседях, которых мы (тоже первобытные) решили поразить невиданной «светской забавой» — чтением. Далее мы узнаем, как именно обозначают в разных странах лягушачье кваканье, как соотносятся алфавиты с детскими рисунками и иконками на рабочем столе компьютера…
Читать книгу, автор которой не просто знает больше и умеет рассказывать, но щедро разбрасывает перед читателем предположения и доказательства, позволяя подумать вместе, — истинное и редкое удовольствие.
Елена Леонтьева, Мария Илизарова. Про Психов
- Елена Леонтьева, Мария Илизарова. Про Психов. — М.: АСТ, 2014. — 416 с.
Терапевтический роман Елены Леонтьевой и Марии Илизаровой явился свету зимой, а внимание аудитории привлекает до сих пор. Написанный не профессиональными литераторами, а учеными, практикующими в психиатрии, он вызывает доверие. По словам авторов, настоящие психи – нормальные люди, попавшие в ненормальные ситуации. О попытках их излечения и рассказывается в книге.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
7 ноября
ЛОРЕ СТРАШНО Мама говорила, что главное в жизни — иметь план.
И держать все под контролем.
В шкафу еще остались подобранные ею комплекты одежды. Их хватит дня на три.
Мама умерла пятнадцать дней назад.
Недоброе утро. Часы тикают громче, чем вчера. С утра мне тревожно. Сегодня сильнее, чем обычно.
Я что, заснула на диване?
Нужно закончить работу и отослать ее в «Эпл». Потом я буду ждать письмо. Суть его не важна. Главное — оно будет подписано: «С уважением, Стив Джобс». Как приятно думать, что Он сам подписывает адресованные мне письма. Я знаю, что это не так, но все-таки.
Надо встать, умыться, одеться, выпить кофе и доделать работу. Таков план. Последние годы план всегда один.
Почему мама покупала мне одежду, которую я терпеть не могу? Розовые кофточки, юбочки, каблуки. Мама надеялась, что я стану настоящей женщиной.
Сама она ею никогда не была.
Звонок. По городскому.
Подходить? Кто это? Если мне и звонят, то на айфон. Ладно, отвечу.
— Да? Что вы хотите?
В трубке шуршит. Зловещее шуршание мне не нравится. Ответ на звонок — это нарушение плана? Обдумать не успеваю.
— Алло? Лорочка, деточка, это вы? Это Надежда Николаевна, помните меня? Я коллега вашей мамы.
— Здравствуйте, Надежда Николаевна. Вас я помню. Вы же с мамой на кафедре работаете?
— Деточка, как вы там? Такое горе, такое горе, такая потеря для всех нас.
Господи! Запричитала… Какой противный голос, не люблю я, когда плачут. Слабых не люблю.
— Деточка, может, вам нужна моя помощь? Ваша мама просила о вас позаботиться. Давайте я приеду? Покушать привезу, поговорим…
— Нет, спасибо,— отвечаю быстрее, чем положено.
В голове стучит: не дай ей помешать тебе. Какая чужая мысль.
— Нет, Надежда Николаевна, не надо приезжать. Вы же никогда не любили маму, завидовали ей, да?
Вешаю трубку. Разговор невыносим. Обрезаю телефонный провод. Вдруг она еще раз позвонит.
Умываюсь и не нахожу кофе. Надо заказать доставку продуктов. Не помню, когда я последний раз это делала. Почему-то нет связи. Проверяю, переподключаюсь — глухо. В магазин надо идти самой.
Надеваю все черное. Волосы убираю в пучок, как мама любит. Ей нравится, когда видно лицо. Она называет мое лицо благородным. И приписывает это себе как личное достижение.
Смотрю в зеркало — сегодня я должна быть особенной! Для Стива…
Распускаю волосы. Красиво! По-блядски. Но никто не раскритикует — мама-то умерла. Это плюс.
Прости меня, Господи! Какая жуткая мысль. Она не моя! Я никогда не хотела маминой смерти.
Бегу из дома. На улице лучше… Пока не вышла на проспект.
Машин много. Они едут слишком быстро и громко. Страшно: машины рычат, как огромные быстрые звери. Что за черт? Отменили все ограничения скорости? Хочу вернуться домой, но в холодильнике буддистская пустота. Я уже три дня ничего не ела. Не хочется. Но без кофе не смогу работать.
Пристраиваюсь к человеку в грязных ботинках. Сейчас он перейдет дорогу. И я с ним. Не дышу. Делаю шаг точно вместе с ним. Молодец, Лора!
Вот и магазин.
Какой странный дом… Он что — ненастоящий? Похож на киношную декорацию. Ни в одном окне не горит свет.
Я понимаю, что сейчас день, но в такую мрачную погоду хоть в одном окне должен гореть свет. С домом что-то неправильное происходит…
Всматриваюсь. И убеждаюсь в своей правоте! Провода везде, камеры… Раньше их точно не было. Я же не в маразме, я же помню. Куплю кофе — и бегом отсюда. Давай же, Лора, не бойся! Иду в магазин. В окружающее не вглядываюсь.
Возвращаюсь домой. Есть не хочется, пью героически добытый кофе с молоком. Пора работать. Стив ждет. Включаю компьютер. Всплывает фотография горящего самолета. Дымящиеся обломки фюзеляжа, почти целый нос. Хаос: спасатели и пожарники, разметанные разноцветные кусочки человеческой жизни. Я точно ее не загружала. Откуда она взялась?
Кто так шумит?
Соседи наверху двигают мебель, роняют что-то. Играют торжественно и бодро на фортепьяно. Неужели «Интернационал»?
Никто не даст нам избавленья:
Ни Бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.Конечно, сегодня же седьмое ноября! И как это у них получается? Одновременно и играть, и двигать? Не буду обращать внимания, главное — не отвлекаться.
Не отвлекаться? Нет, это выше моих сил! Кипит мой разум возмущенный, я вам сейчас покажу: кто был никем, тот станет всем! Сволочи!!
Там живет какой-то дед. Может, внуки к нему приехали? Так громко! Сосредоточиться невозможно. Ругаются, голоса злые. Наверное, уже идут «на смертный бой». Фортепьяно озверело. Дерутся, наверное. И еще аккомпанируют себе. Может, даже убивают друг друга?
И все это сопровождается «Интернационалом»:
Держава — гнет, закон лишь маска,
Налоги душат невтерпеж,
Никто богатым не указка,
И прав у бедных не найдешь.
Довольно государства, право,
Услышьте Равенства завет:
Отныне есть у нас лишь право,
Законов же у равных нет.Как современно, боже мой! Кто же это поет? Не могу больше терпеть. Бегу наверх. Стучу долго, никто не открывает. Наконец за дверью слышатся медленные шаркающие шаги. У двери затихают. Кто-то стоит и смотрит на меня, как в микроскоп. Я не выдерживаю:
— Откройте!
— Что вам надо? — старческий возмущенный и напуганный голос.
— Откройте мне! Что у вас происходит? Вы мешаете мне работать! — пытаюсь говорить спокойнее. Нужно увидеть, что происходит в квартире. Меня не провести. Может, заманивали?
— Чего тебе надо? Я сплю. Совсем, что ли, спятила?
— Откройте или я вызову милицию!
— Ты Лора? Девочка Эльзы Александровны? Не здороваешься со мной никогда!
— Пожалуйста, откройте! — изображаю вежливость, как учила мама.
— Ну ладно… Только отойди от двери.
Замок щелкает, дверь осторожно приоткрылась. На пороге стоит седой помятый старик. Сонный и раздраженный.
— Ну и чего ты хочешь, Лора?
— Здравствуйте, с праздником вас… а где она?! Я слышала, как кричала женщина. И пела «Интернационал».
Пытаюсь заглянуть за плечо старика. Ничего не вижу, кроме хлама в коридоре. В квартире тихо и обморочно. Тревожно.
Старик старается скрыть, но он испуган.
— Пустите меня, я посмотрю.
— Иди домой. Нечего тебе у меня смотреть. Я «Интернационал» уже лет пятьдесят не пел. Совсем ты умом повредилась…
Старик выталкивает меня на лестничную клетку. Дверь захлопнулась, лампа мигает и гаснет.
Жутко. Как днем перед магазином. Бегу вниз по лестнице. Уже около своей двери подворачиваю ногу и падаю.
Больно! Очень больно! В голове крутится мысль: «Дура! Дура! Не справилась, не справилась!» Страшно, хочется кричать, но кричать нельзя. Хватаюсь за ручку двери. Фуф! Наконец я дома, в безопасности.
Зачем выманивать меня из квартиры? Это знак? Только вот чего? Не понимаю.
Надо работать.
Два часа ночи. Ура! Все готово. Отсылаю файлы в «Эпл».
Спать не хочется. Надо сделать что-то. Может, убраться? Так грязно. Везде грязь. Почему мама не убирает?
Мама, когда плохо, дает мне феназепам. Где он? Высыпаю все из аптечки. Вот эти. Желтые. Выпью две для верности.
И обязательно помолюсь на ночь.
НАЧАЛО Мы — свидетели этой истории и хотим рассказать ее вам. Она началась, развивалась и закончилась в одной старейшей московской психиатрической больнице. Все, до последнего слова, в этой истории — чистая правда, как правда и то, что мы единокровные сестры. Итак…
Заканчивается год. В психиатрической больнице, как и везде, ждут праздников, суетятся, готовят подарки. Мечтают, чтобы каникулы стали особенными и запомнились на весь следующий год.
В отделениях устраивают «огоньки», утренники и дискотеки. В клубе готовится большой концерт, администрация делит годовую премию. Радость, возбуждение и суета — работать не хочется. Но больничная жизнь идет своим чередом: больные поступают, лечатся и выписываются. Врачи приходят затемно на работу, проводят утренние пятиминутки, делают обходы, пишут истории болезни, медсестры раздают лекарства, пьют чай в сестринских и сплетничают…
Наш герой оказался в больнице двадцать шестого декабря, пройдя все этапы ритуала поступления.
Вообще-то в психиатрическую больницу не так-то просто попасть. Здесь чрезвычайно не любят посторонних. Обязательно надо сойти с ума, совершить то, что другие сочтут безумным, внушить окружающим сильное чувство беспокойства и ощущение полной потери контроля над ситуацией. Необходимо выделиться так, чтобы стало очевидно, что человек больше не относится к благословенной норме, а навсегда или временно покинул ее, перейдя в разряд необычных, неврастеников, больных, ненормальных, ку-ку, психов и шизиков.
Конечно же, нормальные люди гораздо опаснее. Именно они, по большей части, совершают преступления, обманывают, предают, воруют, убивают, берут взятки, издеваются над подчиненными, придумывают дурацкие правила, усложняющие жизнь. Парадоксально, но факт: все эти люди принадлежат к психической норме! Кто же такие психи? Чем можно заслужить это звание? Как во время, которое многие считают концом времен, в наше время, уставшее от разнообразия всего — от йогуртов до религий,— как понять, что ты покинул среднестатистические берега нормы и отчалил к неизвестному миру безумия?
Возможно, история, свидетелями которой мы являемся, ответит на эти вопросы, возможно, усложнит их и поставит новые. Важно, что она позволит разобраться в этом вопросе без риска: вы можете не сходить с ума, не проживать все эти страшные и удивительные события в одиночку. За ними можно подсмотреть — с нашей и с Божьей помощью. И ответить в конце концов на вопрос, нормальны ли вы сами, и если да, то на чем основывается ваша убежденность? Со своей стороны обещаем, что не утаим от вас все самое интересное, не оставим за кадром то, «о чем лучше не говорить». Однако постараемся сделать это деликатно.
Кино прямого действия
- Карина Добротворская. Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной. — 352 с.
Издательство АСТ открыло новую мемуарную серию «На последнем дыхании» автобиографическим романом Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже». Едва попав на полки магазинов, эта книга, посвященная прославленному петербургскому кинокритику и сценаристу Сергею Добротворскому, успела стать бестселлером.
Когда британский филолог Бенджамин Джоуэтт заметил, что нигде не найдешь столько искренних чувств и столько плохого вкуса, как на кладбище, он, конечно, имел в виду надгробные памятники и эпитафии. Однако уже в XX столетии, оказавшемся кроме прочего веком литературных биографий — как никогда интимных и нередко намеренно скандальных — эта печальная шутка обрела новый смысл. Чтобы посвятить несколько месяцев, а то и лет собственной жизни другому человеку — даже совершенно незнакомому и, такова уж специфика жанра, давно покойному — нужно непременно быть влюбленным в его образ. А влюбленность (какую бы гамму эмоций и ощущений каждый из нас ни подразумевал под этим словом), обостряя все прочие чувства, обыкновенно лишает чувства меры. Писать же об ушедших из жизни подлинно близких и любимых без пошлости, сантиментов и эгоистического эксгибиционизма, кажется, и вовсе невозможно.
Карина Добротворская — редкий человек, которому это удалось. Сергей Добротворский, умерший 17 лет назад, был ее первым мужем. «100 писем», по словам автора, поначалу сочинялись из стремления справиться с собственной застывшей болью и преодолеть прошлое; лишь написав половину текста, она решила опубликовать его в виде законченной книги. Как всякая история настоящей любви, «100 писем» оказываются триллером — исполненным чувственности, страсти, боли и горечи повествованием о человеческих слабостях со всем прекрасным и страшным, из чего они состоят и в чем заключаются.
Таланты и слабости — пожалуй, вообще главное, что в нас есть и что нас точнее всего определяет. Тем труднее рассказывать о них (говоря о себе и близких), не увлекаясь ни самобичеванием, ни самоупоением, не впадая в отчаянную откровенность — почти неизбежную, когда и автор, и читатель знают, что у этого любовного рассказа смертельный финал. Сергей Добротворский, ушедший из жизни в 37, предательски мало реализовал свой грандиозный потенциал: будучи блестящим критиком и сценаристом, он мечтал, но так и не решился снять собственное кино. «Мне казалось, что ты недостаточно честолюбив, что ты слишком боишься совершить ошибку, — пишет об этом Карина Добротворская. — Я ждала от тебя большего. И не понимала, что значат твои отчаянные слова, которые продолжают меня жалить: „Мне не нужна твоя правда, мне нужна твоя вера!“»
В другом письме, рассуждая о природе этого страха, она формулирует очень точную и — при всей неординарности самого Добротворского — почти универсальную причину подобного неуспеха: «Я поняла, что бесстрашными бывают только люди без фантазии, которые не могут вообразить последствия своих действий. Твоя фантазия была безграничной. Помноженная на твой безупречный вкус, она парализовала твою творческую волю. Я знаю, ты никогда не произнес бы слово „творческий“, не прикрывшись иронией, но мне уже наплевать, прости <…> Чтобы быть бесстрашным, нужно быть влекомым мощной внутренней силой, сопротивляться которой невозможно. Или обладать менее сложной душевной структурой, чем твоя („Так всех нас в трусов превращает мысль“)».
Как ни велик соблазн перейти после этого трудного самоанализа к мазохистским рассуждениям о том, уравнивает ли всех нас смерть или, напротив, определяет выдающихся, Карина Добротворская его изящно избегает. И сохраняет тем самым не только драматургическую цельность этого автобиографического произведения, но и его совершенно особую магию. Любая попытка передать суть «100 писем» собственными словами (хоть в форме последовательных фактов, хоть в виде отдельных сюжетов и эпизодов) обречена на абсолютный провал — все тут же рассыпается и разлетается буквально «к черту на куски».
Эпистолярный роман — неважно, описывает ли он подлинные или вымышленные события — редко отличается удачным темпоритмом: один (неосознанно любимый автором более других) голос вечно перебивает там остальные. Нарушается задуманная композиция, повествование либо обретает невротический тон, либо невыносимую монотонность. В центре же «100 писем» — гармоничный дуэт: текст полон не только повседневных слов и шуток главного героя, Сергея Добротворского, но и цитат из его блистательных киноведческих статей и рецензий, которые Карина Добротворская нередко приводит в качестве своеобразных «иллюстраций» к собственным сторонним психологическим наблюдениям. Иногда дуэт превращается в ансамбль — к нему присоединяются голоса людей из ближайшего окружения Добротворских. Так «100 писем» оказываются еще и текстом о времени или, если быть точнее, безвременьи, которым обернулись ленинградские 1990-е.
«100 писем» — книга невероятно кинематографичная: не только благодаря своей талантливой, почти сценарно выстроенной фабуле, а еще и по той причине, что оба Добротворских всегда были страстными киноманами. Из текста романа можно узнать немало любопытного о том российском и мировом «кино, которое мы потеряли» и том, которое обрели в эпоху долгожданного доступа к зарубежным лентам. Кроме того, «Письма» еще и своевременно напоминают о нескольких десятках прекрасных фильмов, которые многим наверняка захочется немедленно пересмотреть.
Читателю, имеющему отношение к петербургско-московской кинематографической тусовке и знакомому с большинством героев этого текста, едва ли увидится что-либо неуместно откровенное и/или жестокое в оценках и комментариях, которыми автор сопровождает собственный пересказ ряда сюжетов. Некоторые же участники тех событий, вероятно, с ними не согласятся — ведь у всякого здесь своя правда, но ни у кого нет того особого права на ее озвучивание, что есть у Карины Добротворской. Тем важнее ремарка, предваряющая финальные «титры»: «Писать эту книгу было больно. Многим ее было (будет) больно читать. Моя благодарность этим людям — это одновременно моя просьба о прощении».
Что ж, справедливости ради, читать «100 писем» будет больно каждому, даже самому далекому от их персонажей человеку, но этот болевой шок оказывает в итоге поистине живительное воздействие. Ведь роман Карины Добротворской — это прежде всего признание в любви, а уж только потом эпитафия. Да такая, что с ней бы жить и жить.
Макс Фрай. Мастер ветров и закатов
- Макс Фрай. Мастер ветров и закатов. — М.: АСТ, 2014.
Книга «Мастер ветров и закатов» входит в цикл «Сновидения Ехо». На этот раз писательница Светлана Мартынчик, которая творит под псевдонимом Макс Фрай, расскажет, каково это – споткнуться с утра о собственный труп. Насчет ангелов есть сомнения, но ветры и люди (и не только) точно ждут вас на страницах нового романа талантливой сказочницы.
Утро началось с того, что на пороге спальни я споткнулся о собственный труп.
То есть, поймите меня правильно. Я не самое изнеженное существо на обоих берегах Хурона. Нервы мои всё ещё отличаются от металлических тросов, но разница постепенно перестает быть существенной. К тому же трупы вызывают у меня скорее симпатию, чем негодование: обычно они смирно лежат на месте и жизнь окружающим особо не портят. Козней не строят, интриг не плетут, убегать не пытаются и даже над душой, требуя безотлагательно заняться их делами, не стоят. Все бы так себя вели.
Поэтому труп на пороге спальни — вовсе не тот предмет, который способен всерьез выбить меня из колеи. Но только при одном условии — если мне сперва дадут выспаться, а потом кружку камры. Или кофе, или крепкого чаю, да чего угодно — когда регулярно меняешь место жительства, перебираясь из одной реальности в другую чаще, чем с квартиры на квартиру, поневоле сделаешься неприхотлив. Лишь бы напиток, с которого начинается утро, был горячим и ароматным, а его вкус умело балансировал между сладким и горьким, как сама жизнь, очередной день которой только что начался.
После нескольких неторопливых глотков жизни, данной мне в приятных ощущениях, я готов окончательно продрать глаза и встретиться лицом к лицу с любым количеством трупов, в том числе похожих на меня как две капли воды. Двойники, кстати, даже лучше, чем незнакомцы, собственная рожа меня умиротворяет и успокаивает, как всякое привычное зрелище. Особенно если ее не надо вот прямо сейчас брить.
Однако этим утром обстоятельства сложились не в пользу раннего визитера. Поспал я всего пару часов, а это, на мой вкус, гораздо хуже, чем ничего. Потому что тот, кто не спит вовсе, по крайней мере избавлен от мучительного момента пробуждения. Жаль только, что этот аргумент совершенно не действует на меня в тот сладостный миг, когда голова касается подушки, лживо бормоча: «Я на секундочку». Впрочем, по ощущениям всегда выходит именно что «секундочка», и это обидней всего.
К тому же, кое-как продрав глаза, я не нашёл у себя в спальне тонизирующего бальзама Кахара, который способен не только поднять мертвеца из могилы, но даже разбудить меня. Специально для подобных случаев я и держу его под рукой. Надо понимать, бутылку с бальзамом вероломно вынули из старого домашнего сапога, который я остроумно приспособил под ее хранение, и поставили, как говорят в таких случаях «на место» — например, на одну из кухонных полок, или в кладовую на другом конце дома, или вообще унесли на чердак. Главное, чтобы владелец как можно дольше не смог добраться до нужного предмета и использовать его по назначению. В этом, надо понимать, и состоит тайный мистический смысл «наместа».
Всегда считал, что от уборки вреда больше, чем пользы. Чистота сама по себе штука приятная, но за наведение так называемого «порядка», на мой взгляд, следует отдавать под суд. Был бы я в Ехо, когда мои друзья вовсю развлекались поправками к Кодексу Хрембера, непременно внес бы соответствующее предложение. Однако возможность была упущена, и теперь уборку время от времени устраивают даже в моей спальне — в надежде, что я просто не замечу. Обычно я и правда не замечаю, но порой наступает момент, когда я оказываюсь лицом к лицу с ее трагическими последствиями. Как, например, сегодня.
Поприветствовав столь прекрасное начало дня приличествующими случаю трудновоспроизводимыми сочетаниями малоупотребительных слов, я побрел в бывшую Малую Летнюю кухню, а ныне подсобное помещение, куда обычно стаскивают остатки наших аскетических ночных пирушек в гостиной и прочие собранные по всему дому съестные припасы. Надеялся обрести там если не павший жертвой наведения порядка волшебный бальзам, то хотя бы холодные остатки вчерашней камры. От чашки кофе сейчас было бы больше толку, но добыть кофе в этом Мире можно только колдовством -сунув руку в Щель между Мирами, откуда лично я способен извлечь абсолютно всё что угодно, по крайней мере, теоретически.
Вообще-то этот фокус уже давным-давно перестал казаться мне сложным. В нормальном состоянии я проделываю его почти машинально. Но спросонок, да ещё и не в духе в Щель между Мирами мне лучше не лазать, это я твердо уяснил несколько лет назад, когда как однажды после очередной бессонной ночи извлек оттуда ядовитую жабу. Ещё и ловить её потом пришлось по всему дому. И руку от ожога лечить. И ощущать себя конченым придурком — тоже не сахар, особенно прямо с утра.
И спотыкаться о собственный труп с утра тоже не следует. Об одеяло, подушку или свернутый в рулон ковер — ещё туда-сюда. Но труп — явный перебор. Невыспавшийся человек, лишенный единственного утешения в виде вкусных тонизирующих напитков, совершенно не способен оценить комическую сторону подобного происшествия. И какой тогда, скажите на милость, смысл всё это затевать?
Ну, по крайней мере, я устоял на ногах. Ухватился за стену и остался в вертикальном положении. Поэтому неожиданно возникшее на моем пути препятствие разглядывал с высоты своего роста, а не лежа с ним в обнимку на полу. Что, в общем, к лучшему. Потому что вид собственного мёртвого тела не вызвал у меня теплых чувств. Он, впрочем, и холодных чувств у меня не вызвал. Вообще никаких. Только сонное недоумение: «Зачем?» Поработав ещё несколько секунд на предельной мощности, мой горемычный мозг осторожно уточнил: «Зачем это здесь?» Потом он вошёл во вкус и породил несметное множество вопросов в диапазоне от: «Откуда оно взялось?» — до: «Ох, мамочки, делать-то что?!»
Приступить к выработке ответов бедняга не успел, потому что труп исчез, как это обычно случается с некачественными, наспех состряпанными наваждениями под пристальным взглядом любого мало-мальски сносного колдуна. А я как раз и есть сносный. Мало-мальски.
Сразу мог бы сообразить, в чем дело, и быстренько отвернуться, приберечь редкое зрелище для других желающих поглазеть на мой труп. Жестоко лишать ближних такого удовольствия. Но что взять с невыспавшегося человека.
Поэтому я даже сердиться на себя не стал. Бесполезно. Сперва кофе. То есть, тьфу ты, камра. И бальзам Кахара, если удастся его найти. А потом уже внутренний конфликт. Всё хорошо в своё время.
Аккуратно переступив место, где только что лежал мой труп, я отправился дальше.
В последнее время Малая Летняя кухня стала одним из моих любимых убежищ, чем-то вроде дополнительной гостиной, которая выгодно отличается от настоящей тем, что о ее новом предназначении знаю только я. Никому кроме меня в голову не придёт проводить здесь время. И уж тем более завтракать. Никто из уроженцев Ехо, включая портовых нищих, безбашенных провинциальных студентов и отставных мятежных Магистров, ни за что не станет есть в кухне, пусть даже бывшей. Это считается не просто проявлением невоспитанности, но варварством, деревенским дурновкусием и чуть ли не самым вопиющим попранием общественных устоев. Леди Меламори, в детстве последовательно нарушавшая все мыслимые запреты, рассказывала, что застукавший ее за поеданием пирога под кухонным столом отец в отчаянии воскликнул: «Лучше бы ты кого-нибудь убила!» А ведь Кима Блимм совсем не кровожадный человек, да и на правилах этикета помешан куда меньше, чем прочая столичная аристократия. Однако вот как его проняло.
Таким образом, завтракая в Малой Летней кухне, я убиваю сразу двух зайцев: получаю гарантированное одиночество, жизненно необходимое мне по утрам, и тешу анархическую часть своей натуры, требующую время от времени восставать против правил — всё равно, каких. Для государственных переворотов и продолжительных оргий в публичных местах я слишком ленив, поэтому завтрак в кухне, пусть даже давным-давно не использующейся по прямому назначению — именно то что надо.
Стоило мне добраться до кухни, как жизнь начала налаживаться. Во-первых, я сразу нашёл там бутылку с бальзамом Кахара. Просто увидел ее на полке, даже к заклинанию, призывающему потерянные вещи, о котором вспомнил, пока брел по длинным коридорам Мохнатого Дома, не пришлось прибегать. Во-вторых, после глотка тонизирующего зелья я обнаружил на кухонном столе почти полный кувшин камры, оставленный для меня не то одним из ангелов-хранителей, не то кем-то из поклонников наведения порядка, стаскивающих в Малую Летнюю кухню всё, хотя бы отдаленно похожее на еду, чтобы — совершенно верно! — её там никто не ел. Однако счастливчикам вроде меня иногда и чужое злодейство идёт на пользу.
Убежище мое хорошо ещё и тем, что окна его выходят не на улицу, а во внутренний двор, куда, похоже, никто кроме меня никогда не выбирается. Думаю, о нем вообще забыли. От улицы и соседских палисадников двор отгорожен высоким забором, даже без намека на калитку. И из дома сюда можно попасть только через одно из окон Малой Летней кухни. Других выходов я не обнаружил, сколько ни искал. Друг мой Нумминорих, изучавший когда-то историю архитектуры, говорит, такие дворы называются «поварскими» и иногда встречаются в очень старых домах, построенных в те давние времена, когда полезной считалась только еда, приготовленная под открытым небом; в закрытых помещениях в ту эпоху варили исключительно яды. Черт его знает, почему. Нынешние ученые считают, что всё дело то ли в целительных свойствах некоторых местных ветров, то ли напротив в тяжелом характере камней, из которых строили дома предки нынешних угуландцев. Я же думаю, древние жители Ехо просто предвидели мое появление. И любезно приспособили свою архитектуру к моим будущим нуждам, в надежде, что у меня хватит ума поселиться в доме, достаточно старом, чтобы там был двор, заросший высокой травой, и толстое, в два обхвата дерево вахари, под которым можно поставить кресло. Спасибо им, что тут ещё скажешь. Почему-то именно в поварском дворе у меня на удивление неплохо работает голова.
Наверное я — мыслящий омлет.
Вот и сейчас. Кувшин с камрой не опустел ещё и наполовину, а у меня уже появились целых две версии, объясняющих как неожиданное появление моего трупа на пороге спальни, так и его быстрое исчезновение. Вторая нравилась мне гораздо больше, зато проверить первую было проще — достаточно консультации грамотного специалиста. Поэтому я послал зов Джуффину. Кому же ещё.
Безмолвная речь, в общем, гораздо больше похожа на телефонный разговор, чем на какой-либо другой вид коммуникации. Только слова проговариваешь не вслух, а про себя. И реплики собеседника слышишь не то чтобы именно ушами. Сложно сказать, чем именно, но с собственными мыслями захочешь не перепутаешь — и на том спасибо.
Всё это, как ни крути, требует очень высокой степени концентрации на разговоре. Поэтому я до сих пор терпеть не могу Безмолвную речь. Но пользуюсь ею по любому поводу, с упорством старательного троечника. И не только потому, что не люблю сдаваться. Просто внезапно обнаружил, что разговаривая таким способом, начинаю мыслить более ясно и логично — вероятно потому, что вынужден быть предельно лаконичным и не отвлекаться на пустяки.Именно поэтому я не стал откладывать разговор, хотя дело перестало быть спешным сразу после исчезновения моего трупа. Показывать-то теперь всяко нечего. А обсудить причины происшествия можно и пару часов спустя, это ничего не изменит.
Но чего не сделаешь в борьбе за превращение своей глупой головы в хотя бы условно умную.
«Несколько минут назад на пороге спальни валялось мое мёртвое тело, — не здороваясь, сказал я. — Сходство полное. Исчезло от пристального взгляда. Я спросонок вовремя не отвернулся, и сделанного уже не воротишь. Вопрос, собственно, такой: это может быть чья-то шутка? Теоретически? В смысле, кто-нибудь из моих знакомых умеет насылать такие наваждения? Это сложно? Или любому школьнику по плечу?»
«Не то чтобы очень сложно, — отозвался Джуффин. — Но довольно хлопотно и одновременно настолько бесполезно, что мне даже в голову не пришло бы кого-то специально этому учить. Ладно, давай подумаем. Ясно, что устроить тебе этот сюрприз вполне мог бы я сам. Но вряд ли мое наваждение исчезло бы так быстро. Сперва тебе пришлось бы побегать за ним по всему дому. И выслушать всё, что оно при этом скажет. А некоторые пассажи, возможно, даже законспектировать на будущее. Я считаю, развлекаться — так уж развлекаться».
«Вот и я так подумал. Поэтому ты почти вне подозрений. А есть ещё умельцы?»
«Кофа, безусловно, умеет и не такое. Но браться за хлопотное колдовство ради нелепого розыгрыша не станет, ты его знаешь. Если бы Кофа вдруг захотел испортить тебе настроение, он, можешь мне поверить, отыскал бы более эффективный способ, чем какой-то нелепый труп».
О да.
«Сэр Шурф тоже способен смастерить сколько угодно качественных наваждений, — продолжил Джуффин. — Чем только ни забивали головы талантливой молодежи в Эпоху Орденов. Но до состояния, в котором это можно счесть хорошей шуткой, он на моей памяти в последний раз напивался ещё в Смутные Времена. Так что, при всем моем уважении, вряд ли».
Если бы мы говорили вслух, я бы сейчас заржал. А потом сказал бы: «Так может быть он наконец-то устроил инвентаризацию Орденских погребов?» И Джуффин, несомненно, с удовольствием подхватил бы мое предположение. Или напротив, опроверг. В любом случае, мне нашлось бы что ему ответить. И разговор надолго ушёл бы в сторону. А сейчас я даже не попытался развить столь благодатную тему — вот вам ещё одно преимущество Безмолвной речи. Ну или недостаток, это как посмотреть.«То есть, вероятность, что мой труп — просто милая дружеская шутка, невелика?» — спросил я.
«Совсем невелика, — согласился Джуффин. — И дело, честно говоря, не в наших умениях. Просто это как-то очень уж глупо — и в качестве шутки, и, тем более, как злодейство. Надо совсем тебя не знать, чтобы запугивать каким-то дурацкими мёртвыми двойниками — а то ты ничего хуже в жизни не видел».
«Тогда хорошо, — сказал я. — Значит это всё-таки послание. Ответ на мою последнюю реплику, отправленную наудачу, практически в никуда. Неужели диалог продолжается? Это такая прекрасная новость, что я оказался к ней не готов. Отсюда дурацкие расспросы. Спасибо, что развеял мои сомнения».
«Шикарно, сэр Макс, — отозвался Джуффин. — Вот и ты дожил до такого дня, когда собственный труп на пороге спальни может оказаться прекрасной новостью. От души тебя поздравляю. И жду через полчаса, как договаривались».
И исчез из моей головы, оставив меня наедине с блуждающей по роже растерянной ухмылкой и вопросом: «Как я дошёл до жизни такой?»
Вопрос, конечно, риторический. В какой момент его себе ни задай, ясно, что правильным ответом следует считать всю предыдущую биографию. Впрочем, в моем случае вполне можно ограничиться самым последним этапом, этакой финишной прямой протяженностью в две с небольшим дюжины дней, минувших с тех пор, как мы с Джуффином сидели у распахнутого окна его кабинета в Доме у Моста и смотрели на улицу, где, не обращая на нас ни малейшего внимания, творился восхитительный осенний день, теплый, пасмурный и немного чересчур яркий, как рисунок внезапно исцелившегося слепца.