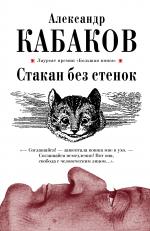Александр Нилин. Станция Переделкино: поверх заборов. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 560 с.
К концу ноября в Редакции Елены Шубиной выйдут воспоминания Александра Нилина о частной жизни «писательского городка». С интонацией одновременно иронической и сочувствующей мемуарист рассказывает о своих соседях по даче, среди которых Борис Пастернак, Александр Фадеев и Ангелина Степанова, Валентина Серова и Константин Симонов, Чуковские, Катаевы … Полагаясь на эксклюзив собственной памяти, автор соединяет в романе первые впечатления ребенка с наблюдениями и размышлениями последующих лет.
I. Поверх заборов
Глава первая
1
Среди игрушек моих в последний год войны выделил бы кроме большой, не заряженной, естественно, ракетами, ракетницы фотоаппарат — тоже немецкий, трофейный и тоже не заряженный, что менее естественно, пленкой. Не было пленки, ничего не поделаешь, да и не требовалось ее для осуществления моих детских замыслов.
Ни тогда, ни потом я не хотел ничему учиться — и фотографировать не учился (да и у кого я в тот год мог учиться, если бы даже вдруг захотел). Зато легко воображал себя приезжавшим иногда на дачу к моему отцу Виктором Тёминым, известным во время войны фотокорреспондентом, — я и всю дальнейшую жизнь себя постоянно кем-то воображал и до сих пор воображаю; интересно, в чьем образе умру (неужели в своем собственном наконец?).
Весной сорок пятого года маршал Жуков хотел Тёмина расстрелять за то, что фотограф самовольно улетел на его самолете в Москву. Но тут же выяснилось, что маршальским самолетом фотограф доставил в газету «Правда» снимок знамени над Рейхстагом (позже я услышал, чего стоила организация этой затеянной политуправлением фотосъемки), — и Жукову из-за исторического значения снимка пришлось свое решение о расстреле корреспондента отменить.
О намерении Жукова я не мог тогда знать, но видел, сколько на пиджаке всегда пьяного фотографа боевых наград.
Я бродил по поселку — и всех встречных (а на аллеях Переделкина народу встречалось тогда мало) фотографировал, и в частности Александра Александровича Фадеева.
Заслуги и звания Александра Александровича в ту пору не были мне известны — он, кстати, в сорок пятом году и не стал еще писательским министром (правда, членом Центрального комитета партии оставался, что вряд ли мог принять я во внимание, не осведомленный о партийной иерархии, и уже не помню сейчас, знал ли о роли коммунистической партии вообще). Но, вероятно, в тоне взрослых, произносящих имя Фадеева, что-то я улавливал — и когда при следующей встрече Александр Александрович серьезным голосом спросил меня: «А когда принесешь карточки, Саша?» — необычайно взволновался: в мечтания, которые смело полагал я реальностью, вторглась реальная реальность, с ней я как-то себя не соотносил (и соотношу ли сейчас, не излечившись от мечтаний?).
Я прибежал домой и спешно стал рисовать — не карандашом, заметьте, а обмакнутым в чернильницу пером — и ждал с испугом, но и не оставлявшей меня надеждой, что фокус мой пройдет.
На мою удачу — удачей, однако, считаю, не тогда, конечно, а сегодня, осмысливая всю свою жизнь целиком, не то вовсе, что мой обман не раскрылся, а то, о чем сейчас скажу, — на тогдашнюю, подчеркну, мою удачу, Фадеев так никогда больше про снимки не спросил.
Удачей же — одной из очень немногих за всю, повторяю, жизнь — стало открытие для себя жанра «изображения и рассказа»: я фантазирую, что фотографирую натуру, а на самом деле пытаюсь нарисовать ее, сменив со временем перо на пишущую машинку в прошлом веке и на компьютер в наступившем.
Поэтому и не стоит удивляться, что Александр Александрович Фадеев занимает в моих воспоминаниях большую площадь.
Хотя есть на то и другие причины.
Фотографировал я Фадеева летом, но в сознание мое он вошел как человек из зимы.
Так и вижу до сих пор снег на краю дачного участка с нашими глубокими в нем следами — и Фадеева в узком черном пальто (я любил военную форму и людей в ней, сам носил шинель, перешитую из гимнастерки жившим на адмиральской даче портным по фамилии Свиньин), остановившегося на дороге, которая называется теперь улицей Горького.
Мы с отцом пилим дерево.
Генетический — по отцовской линии — крестьянин, я терпеть не мог с детства физический труд (позже догадался, что не люблю вообще никакой труд — ни физический, ни тем более умственный, не знал, что буду к нему приписан). Но в раннем детстве моем выбирать не приходилось: младший брат, любящий всякий труд, еще не родился, в семье, кроме отца, мужчин больше не было — и я пилил дрова, колол, помогал корчевать «вагой» (никогда потом не слышал больше названия этого инструмента) пни; мы даже разобрали на дрова бревенчатый блиндаж, оставшийся на участке нашем с войны (до боевых действий в Переделкине не дошло, но блиндажи вырыли).
А летом и картошку копал и окучивал, на слуху были слова «рассада», «усы» (клубника тоже была своя); помидоры не успевали приобрести красный цвет за лето, дозревали, зеленые, на закрытой террасе.
Но пока стоит снежная зима, и Фадеев от дороги идет к нам в своем узком черном пальто.
Фадеев берет у меня пилу, и они с отцом вместе пилят, о чем-то, мне неинтересном (я не вслушиваюсь), разговаривают.
И вдруг вижу, что лицо Александра Александровича меняется, словно вспомнил он о чем-то важном, — и чуть краснеет.
«Павлик, — спрашивает он отца, — а у тебя есть разрешение лесхоза — пилить?»
Лесхоз вообще-то в двух шагах от нашей дачи. Но разрешения пилить сухое дерево нет — отец не удосужился спросить и отвечает, что нет, нет разрешения. Фадеев огорчен — пилят тем не менее дальше.
Смысл вопроса доходит до меня много позднее.
Фадеев ощущает себя государственным человеком — и всякое нарушение общих для всех правил ему неприятно.
Возникла — уж не припомню, в какие годы, но кажется мне сейчас, что до весны пятьдесят шестого, — бредовая идея: дать улицам в нашем городке литературные имена (контора, ведавшая литфондовскими дачами, отделяла свои владения от остальной части поселка псевдонимом «городок писателей»).
Я потому считаю ее бредовой, что, выбери Литфонд (или кто там утверждал названия) имена безусловных классиков — Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, кто бы с начальством спорил.
Но когда вместе с Гоголем и Лермонтовым (Пушкину и Льву Толстому не повезло) увековечить захотели советских классиков: Вишневского, Павленко, Тренева, — получился эстетический винегрет с комическим привкусом. Писателей, в иерархии стоящих примерно рядом, оказалось больше, чем улиц. И Николай Погодин, например, жил на улице Тренева, которого вряд ли считал лучшим, чем сам, драматургом.
А когда Николай Федорович в шестидесятом году умер, его именем назвали безымянную до того улицу (в то время почти без домов), ведшую к вокзалу. По-моему, драматургии в сочетании названий улиц с именами тех, кто продолжал жить на них, побольше, чем в пьесах, временно прославивших наших соседей.
Есть столичная улица имени Фадеева, но жил он последние годы, когда в городе, на улице Горького, а дачный его адрес — улица Вишневского, дача № 4.
2
Когда въезжаешь в Переделкино со стороны Москвы, набирая ход от Самаринского пруда при подъеме на горку к перекрестку (где, кстати, на ржавых железках перечислены все наши улицы), недолго и проскочить мимо улицы Вишневского — она у самого подножия резко, но укромно ныряет в тень от елок.
Вместе с тем эта улица — не пролог даже к истории писательского поселения, а ее краткий курс: мне кажется, разобравшись в странностях улицы Вишневского (от изначальных соседств до названия), дойдешь когда-нибудь и до романной сути всей местности.
На наших сегодняшних улицах непременны стрелки-указатели, направляющие в музеи Пастернака, Чуковского, Окуджавы.
А вот улицу Вишневского я бы и саму уподобил стрелке, надломленной почти посредине шлагбаумом, за которым теперь новые каменные дома, сразу ставшие для меня подобием миража.
Замечал неоднократно, что обрывающий мои шаги в прошлое шлагбаум сильнее воздействует на мое воображение, чем когда бродил я по той же улице, утратившей былых жильцов-арендаторов, но сохранявшейся в том же пейзаже, в каком застал я ее впервые почти семьдесят лет назад.
К музеям местным в знакомых мне с детства и отрочества дачах я отношусь равнодушнее, чем к улице Вишневского.
3
Улица некогда упиралась во всегда запертые ворота, окрыленные высотой сплошного забора. За воротами и забором различалась лишь крыша самой дачи, где жил писательский министр Александр Фадеев.
Но я успел захватить время, когда забора еще не было, ворота не запирались и хозяин — арендатор дома министром не был.
И теперь, когда нет ни дома, где и жил он и ушел из жизни добровольно совсем нестарым (в пятьдесят пять лет), ни возникших при нем забора и ворот, а стоят на месте фадеевской дачи чужие каменные строения за другим забором и другими воротами — и шлагбаум нынешний пересек бы, пожалуй, сегодня дорогу тогдашнему длинному (в пол-улицы Вишневского) черному «ЗИСу», вызванному мною за Александром Александровичем из воспоминаний ребенка в свое нынешние воспоминание, — все равно моему рассказу никакое предметное отсутствие былого не мешает.
Для меня реальной остается та несуществующая дача, а сегодняшняя постройка — что-то вроде помех на экране старого телевизора.
С этой улицы начиналось поселение — и обозначалась судьба — не одного только поселка, но самого понятия «Переделкино», перебродившего затем в писательском сознании.
4
Первый коттедж на будущей улице Вишневского сделан был улучшенной, как стали говорить позднее, планировки — комнат на восемь. Он предназначался видному партийному деятелю Льву Каменеву, потерявшему в полемике со Сталиным все шансы оставаться во власти.
Понизив его в должностях и унизив насколько хотел, Сталин по просьбе Горького совсем было согласился пощадить соперника, дав ему должность директора издательства Academia, но после смерти Горького передумал — и не удержался, казнил Каменева. В дачу тот не въехал.
Из дачи решили сделать Дом творчества — вроде общей мастерской для писателей, не имевших дач.
К тому, чтобы жить мне сразу после рождения в Переделкине, коттедж Каменева имеет непосредственное отношение. Живший в Доме творчества мой тридцатилетний отец решился на авантюру — поселиться в дачном поселке. Риск даже не в том был, что самочинно вселялся он в дачу репрессированного Пильняка — и мог навлечь на себя гнев карательных органов. Не менее существенным для литературного будущего становился риск быть отторгнутым писательской средой как самозванец, захотевший сделаться соседом едва ли не всех тогдашних литературных знаменитостей.
Впрочем, к тридцать восьмому году въехать в дом, в котором не поселился призрак репрессированного хозяина, едва ли представлялось возможным. Скажем, Бабелю построили новый дом в полусотне шагов от неслучившейся дачи Каменева, но репрессированным суждено было стать и ему.
В это второе на будущей улице Вишневского дачное строение Вишневский и вселился.
Я видел Всеволода Вишневского один-единственный раз, летом сорок седьмого года. Но с того раза поверил, что Вишневский — прирожденный драматург, — и поверил в рассказы о нем. Как собирает он знакомых на читку новой пьесы, предварительно кладет на письменный стол толстые тома энциклопедии и заряженный револьвер; чтение начинается с авторской ремарки: «Слышна отдаленная канонада» (спихивает со стола на пол тяжелые фолианты) — продолжает: «…револьверные выстрелы» (стреляет из револьвера).
Биография его казалась выдуманной от начала до конца (даже то, что и на самом деле с ним было). Жизнь свою он непрерывно додумывал — и соответственно декорировал. Московский обратный адрес он так надписывал на конвертах: «Москва. Кремль. Лаврушинский переулок» (из его окна, на пятом, кажется, этаже, действительно были видны кремлевские башни).
Так вот, единственный раз, когда я мог наблюдать Вишневского воочию, он сидел (полосатая пижама) в плетеном кресле, вынесенном из огня, — горела дача Федина. Все сбежавшиеся хотя бы делали вид, что тушат пожар, — таскали ведрами воду и так далее (правда, по голодному времени были факты мародерства со стороны соседей — не писателей, но в отдельных случаях со стороны их сторожей, фадеевского сторожа Чернобая, например), — а Вишневский сидел будто в партере театра и с круглолицей радостью дорвавшегося до зрелища ребенка завороженно смотрел на огонь.
Про исчезнувшего Бабеля никто тогда не помнил — вернее, я вообще о нем не знал, а взрослые, вероятно, не хотели говорить. Но помнить, наверное, помнили — не хотели, как мне теперь кажется, лишний раз вспоминать, чтобы не огорчаться.
Бабель был из Одессы, Катаев тоже. И неужели, бывая у Фадеева, Катаев совсем никогда не думал о том, что дача Вишневского предназначалась для его земляка?
Отец мой вряд ли был знаком с Бабелем лично. Позднее уже, когда я не только знал про Бабеля, но и почти все прочел из написанного им, отец рассказал, что, когда писатели навещали перед войной Ясную Поляну, от станции все они шли пешком, а Бабель взял извозчика…
Самое смешное, что и Фадеев въехал в дачный дом, освободившийся после ареста Зазубрина. Странно, что фамилии Бабель я до середины пятидесятых годов не слышал, а про то, что до Фадеева в последней на улице Вишневского даче жил некто Зазубрин, — знал, может быть, потому, что Зазубрин был родом из Сибири, а отец мой тоже сибиряк, но сомневаюсь, что были они знакомы.
Позднее я прочел в чьих-то воспоминаниях, что на вечере в доме Горького, куда позвали известных писателей на встречу со Сталиным, Зазубрин повел себя не лучшим образом — и в состоянии алкогольного опьянения чуть ли не надерзил товарищу Сталину, во всяком случае, вызвал его неудовольствие.
Я даже знал название наиболее заметной вещи, сочиненной Зазубриным, «Щепка», но так и не удосужился ее прочесть — посмертно возращенным в литературу репрессированным писателям на читателя не везло (Бабель — исключение), переизданные через столько лет книги почти не возвращались в читательский оборот. Вместе с тем я слышал, что «Щепка» была по тем временам вещью острой, и товарища Сталина не поведение Зазубрина у Горького возмутило (на кремлевских приемах известным деятелям случалось напиваться без каких-либо для себя последствий), а сильно не понравилась сама «Щепка». Действительно, лес рубят…
И все же факт, что дачу сначала дали не Фадееву, говорит о том, какое положение в литературном сообществе занимал погибший Зазубрин.
Я не подсчитывал, но где-то же есть точные данные, сколько из первых поселенцев писательского городка замели в конце тридцатых. На каждой из улиц были свои репрессированные. И тем не менее по количеству потерь ни одна из улиц не дотягивала до той, что стала имени Вишневского, — там выбыл весь первый состав дачников.
Между прочим, переданный бездачным писателям Дом творчества вскоре после войны сгорел. Я знал к тому времени, что пожары случаются, видел пепелище, оставшееся от дачи Всеволода Иванова рядом с дачей Пастернака, но свежий запах залитых водой углей вдохнул в себя впервые утром, когда прибежал к месту сгоревшего за ночь Дома.
За недосмотр, приведший к пожару, уволили директора городка писателей Розу Яковлевну Головину, никогда потом не появлявшуюся в Переделкине. Она служила в московском Доме литераторов на скромных административных должностях — и каждое свое выступление на собраниях начинала фразой: «Может быть, я и не писатель…»
В последний предвоенный год никого в писательском поселке больше не сажали — и по записям отца вижу, что оставшиеся (и заменившие репрессированных) дачники жили вызывающе открытой жизнью: дружили, как не дружили никогда потом, общались тесно семьями — и делали, в общем, вид, что самое страшное позади и никогда больше не повторится. Но без такой эгоистической эйфории как бы жить и работать?
Допускаю, что с подобными — неподтвердившимися — надеждами вступали писатели-переделкинцы и в послевоенную пору. Самое, как казалось (ну и на самом деле было), страшное — война — было позади.