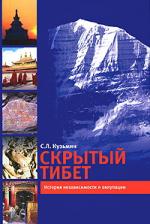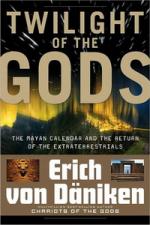Отрывок из книги
О книге Александра Сидорова «Песнь о моей Мурке. История великих блатных и уличных песен»
Любка — Маша — Мурка
Первоосновой «Мурки» стала знаменитая одесская песня о Любке-голубке. По некоторым свидетельствам (например, Константина Паустовского), эта уголовная баллада появилась уже в начале 20-х годов прошлого века. Впрочем, на этот счет есть определенные сомнения. Текст песни записан лишь в начале 30-х годов, а в первые годы Советской власти о ней нет никаких упоминаний. Однако такая же судьба — у целого ряда блатных песен. Кроме того, есть основания предполагать, что первоначальный, не дошедший до нас текст «Любки» значительно отличался от поздней «Мурки».
Уже вслед за «Любкой» появилась и «Маша». Песни имели массу вариантов. Приведенные в нашем сборнике тексты ни в коем случае не являются первоначальными. Оба они — и «Любка», и «Маша», — записаны в 1934 году студенткой Холиной (хранятся в Центральном Государственном Архиве литературы и искусства).
В ранних вариантах песни героиня выведена не в качестве «авторитетной воровки», каковой является в «классической» «Мурке». Например, Маша, помимо «бандитки первого разряда», рисуется как любовница уркаганов («маша», «машка» на старой фене и значило «любовница»). Однако в песне повествуется лишь о совместных кутежах, нет даже упоминания о «воровской жизни», а также о том, что «бандитку» «боялись злые урки». Все это пришло позже.
В результате многочисленных переделок «Любки» сначала в «Машу», потом в «Мурку» поздний текст песен оказался полон темных мест и противоречий. Например, речь идет о событиях, которые произошли не позднее 1922 года. Несколько раз упоминается Губчека, то есть Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Известно, что ВЧК с ее отделениями на местах приказала долго жить 6 февраля 1922 года. Ее функции были переданы ГПУ. Но в начале 20-х годов еще не было магазинов Торгсина (магазинов по торговле с иностранцами, упоминаемых в некоторых вариантах «Мурки»): сеть специализированных торговых предприятий по обслуживанию иностранных граждан открылась в СССР 5 июля 1931 года согласно постановлению, подписанному председателем Совнаркома Вячеславом Молотовым. Еще одна нелепость состоит в том, что по воровским «законам», которые сформировались в начале 30-х годов, женщины не могли играть ведущей роли в уголовном мире, а уж в сходках им вообще запрещалось участвовать, не говоря о том, чтобы там «держать речь»…
Впрочем, некоторые «нелепости» порою оказываются мнимыми. Многие считали странным то, что урки в своем притоне «собирали срочный комитет» (а в некоторых вариантах и того хлеще — «местный комитет»). При всей кажущейся неуместности «советской» терминологии в уголовном жаргоне, в те далекие времена воровской мир любил использовать для «форсу» реалии новой жизни. В одной из блатных песен поется:
Мы летчики-налетчики,
Ночные переплетчики,
Мы страшный профсоюз!
Итак, в первоначальном варианте песни речь шла о Любке-голубке. Но до нас дошли именно варианты с Муркой. Почему же героиня переменила имя? И когда это произошло?
Вероятнее всего, «Мурка» полностью вытеснила «Любку» не ранее середины 30-х годов. А к началу 30-х еще существовали «Любка» и «Маша». Их превращение в «Мурку» состоялось, когда песня из Одессы вышла на широкие просторы СССР и попала в столицу (в сборнике приводится и «московский» довоенный вариант песни).
И все же Любка, судя по ряду свидетельств, была первой. Во всяком случае, Паустовский вспоминает песню о Любке, не обмолвившись ни словом о Мурке. Так отчего же Любка в конце концов уступила Мурке?
Попытаемся разобраться. Прежде всего, примем за отправную точку то, что «Любка» родилась в Одессе, на что указывают и ее реалии, и свидетельство Паустовского, и произошло это не позднее 1922 года. Возможно, смена имени как-то связана с реальными событиями и возможными прототипами Мурки?
Был ли прототип у Мурки?
На этот счет есть целый ряд догадок — убедительных и не очень. Начнем с того, что в Одессе времен Гражданской войны действительно были фигуры, которые некоторым образом подпадают под описание Мурки как предательницы интересов своего «комитета».
Обратимся для начала к книге Сергея Мельгунова «Красный террор в России 1918—1923», где он рассказывает о страшных «красных» палачах-садистах, в том числе о негре Джонсоне: «…с Джонсоном могла конкурировать в Одессе лишь женщина-палач, молодая девушка Вера Гребенникова („Дора“). О ее тиранствах также ходили легенды. Она буквально терзала свои жертвы: вырывала волосы, отрубала конечности, отрезала уши, выворачивала скулы и т.д. В течение двух с половиной месяцев ее службы в чрезвычайке ею одною было расстреляно 700 с лишком человек, т.е. почти треть расстрелянных в ЧК всеми остальными палачами».
На самом деле легенду о «кровавой садистке» Доре создал бывший чекист Вениамин Сергеев (настоящие фамилия и имя — Бенедетто Гордон), которого отступавшие из Одессы большевики оставили в городе как руководителя подполья. Однако после того как 23 августа 1919 года белые войска захватили город, Сергеев в первые же дни явился в белую контрразведку и сдал всех своих товарищей. За этот «подвиг» его назначили вторым заместителем руководителя контрразведки. При его прямом участии и с его легкой руки на Одесской кинофабрике было сляпано якобы «документальное» кино о мнимых зверствах большевиков, где главную роль играла… жена Сергеева, Дора Явлинская.
Любопытно, что Сергеев то ли не успел, то ли не захотел затем бежать с белыми (а возможно, остался в Одессе с тем же заданием, что когда-то давали ему красные). Но его грехи быстро всплыли. Был устроен показательный процесс, а затем Гордона-Сергеева вместе с супругой расстреляли.
Но при чем тут Мурка? То есть, конечно, Сергеев с супругой действительно были предателями и провокаторами — но ведь предавали они как раз чекистов! Однако существовала и другая Дора, она же Вера Гребенникова — сексотка-проститутка, в 1919 году выдававшая ЧК скрывавшихся офицеров, с которыми перед этим занималась любовными утехами. По некоторым данным, таким образом она обрекла на смерть несколько десятков человек. Эта знаменитая личность послужила прототипом Надежды Лазаревой — персонажа повести Валентина Катаева «Уже написан Вертер» (1979). Обе Доры в конце концов слились в одно и то же лицо и стали для одесситов символом коварства и гнусности.
Итак, реальная фигура проститутки-сексотки — причем довольно известная — в Одессе все-таки существовала. Она могла служить основой как для Любки, так и для Мурки.
Некоторые исследователи обращают внимание на то, что имя «Мурка» (дериват имени Мария, Маша) могло возникнуть под впечатлением от имен известных «дев-воительниц», деятельниц бандитского и повстанческого движения на Юге Украины в Гражданскую войну. Григорий Дубовис в очерке «Романтическая история Марии Никифоровой» отмечает странную закономерность: «На Киевщине действовала Маруся Соколовская — жена погибшего в бою повстанческого атамана Соколовского. На Полтавщине действовал конный отряд некоей „Черной Маруси“, личность которой пока еще не удалось точно установить. Там же принимала участие в повстанческом движении Мария Хрестовая, сестра известного атамана Л.Хрестового, девушка, по описаниям очевидцев, обладавшая необыкновенной красотой. Наконец, в Харьковской губернии время от времени появлялся отряд Марии Косовой, представительницы антоновских повстанцев, главная оперативная база которых находилась в Воронежской губернии. Все перечисленные Маруси в тот или иной момент сотрудничали с Махно, и это сбивало с толку как свидетелей, так и многих исследователей. Одни из них принимали этих атаманш за М.Никифорову, так как твердо знали, что „Маруся“ есть только у Махно, и эта Маруся есть Никифорова… другие считали, что „атаманша Маруся“ — это просто народное прозвище, перекочевавшее из фольклора в плоскость реальной жизни. Однако при ближайшем рассмотрении действительно оказывается, что все самые известные украинские повстанческие атаманши, как это ни покажется странным, носили имя Мария…»
Стоит немного рассказать о каждой из этих легендарных женщин.
Главная в их ряду — конечно, Мария Никифорова. Если верить ряду источников, она родилась в 1885 году и была дочерью штабс-капитана Григория Никифорова. Впрочем, многие исследователи ставят под сомнение ее дворянское происхождение. Но для нас это не столь важно. Согласно легендарной биографии, в шестнадцать лет Маша без памяти влюбляется и бежит из дома с любовником. Затем совратитель ее бросает, и юная Маша попадает на дно Александровска (Запорожья) и Екатеринослава (Днепропетровска). Озлобившись, она включается в революционное движение, примкнув к партии социалистов-революционеров. Затем в 1905 году становится анархисткой-террористкой. Маруся оказывается в рядах группы «безмотивников», теоретики которой истребляли всех, кто имеет сбережения в банках, носит дорогую одежду и обедает в ресторанах. В 1908 году Никифорову осуждают на двадцать лет каторжных работ.
В 1909 году Мария в Нарымской каторге поднимает бунт и бежит через тайгу к Великой Сибирской магистрали. Затем — Япония, США, Испания (где анархистка ранена при нападении на банк), Франция. Здесь Мария сходится с богемой — парижскими поэтами и художниками, посещает Школу живописи и скульптуры самого Родена. В Первую мировую войну оканчивает офицерскую школу под Парижем и, единственная женщина-эмигрантка, получает офицерские погоны. В конце 1916 года отправляется на фронт в Грецию, воевать против турецкой армии.
В апреле 1917 года Никифорова возвращается в революционную Россию, пытается организовать вооруженные выступления против Временного правительства. После неудачи бежит на Украину, в Александровске и Екатеринославе создает анархистские рабочие боевые отряды «Черной гвардии». В начале сентября Никифорова пытается совершить революционный переворот в уездном Александровске. Здесь она знакомится с анархистом Нестором Махно. Мария попадает в тюрьму по приказу уездного комиссара Временного правительства. В ответ почти все предприятия города объявляют забастовку, тысячи рабочих требуют освободить арестованную. Власти уступают.
Пересказывать подробно деяния Марии Никифоровой мы не будем: это — тема отдельной книги. Здесь и установление Советской власти в Крыму, и бои с отрядами крымских татар, и зверские расправы над мирным населением в Севастополе и Феодосии, противостояние большевикам и сражения с немецкими войсками. Костяк отряда Никифоровой «Дружина» составляли анархисты-террористы, матросы Черноморского флота, гимназисты, уголовники, деклассированные интеллигенты… Отряд насчитывал 580 человек, имел две пушки, семь пулеметов, броневик. Снова арест (на сей раз большевиками), «суд революционной чести» в Таганроге — и оправдание, не в последнюю очередь из-за угроз анархистов поднять восстание.
Потом — кровавые грабежи в Ростове, суд Ревтрибунала в январе 1919 года, роспуск «Дружины» и требование ЦК Компартии Украины привлечь Никифорову к суровой ответственности. Спас анархистку большевик Владимир Антонов-Овсеенко, авантюрист и эстет — видимо, почувствовал родственную душу.
В марте 1919 года Никифорова вступает в повстанческую анархистскую бригаду батьки Махно (которая входила в состав Заднепровской советской дивизии Украинского фронта). В июне после ареста нескольких махновских командиров Маруся решила провести террористический акт против Ленина и Троцкого на пленуме ЦК партии в Москве. По одним данным, Махно отверг это предложение, и ссора едва не дошла до перестрелки, после чего Нестор Иванович выгнал Никифорову и навсегда с нею порвал. Другие источники настаивают на том, что Махно одобрил план и снабдил героическую анархистку деньгами в размере полумиллиона рублей. Однако Ленин задержался и не прибыл к открытию пленума. Погибают 12, ранено 55 человек. На октябрьские праздники 1919 года бойцы Никифоровой закладывают динамитные шашки в систему канализации Кремля, но чекисты раскрывают планы организации, арестовывают многих террористов, а Мария с мужем, польским анархистом-террористом Витольдом Бжестоком, бежит в Крым, рассчитывая оттуда перебраться на Дон, чтобы взорвать ставку Деникина. В Севастополе Никифорову опознал белогвардейский офицер, и ее вместе с мужем повесили во дворе городской тюрьмы в конце 1919 года. Впоследствии ходили слухи, что Мария осталась жива, и большевики направили ее в Париж, где ее видели в числе тех, кто готовил убийство Симона Петлюры. Но это не более чем легенда, поскольку сохранились протоколы заседания военно-полевого суда под председательством коменданта Севастопольской крепости генерала Субботина, а также многочисленные отклики газет того времени.
Ради справедливости надо отметить, что внешность Марии Никифоровой не очень вяжется с образом песенной Мурки. По воспоминаниям анархиста М.Чуднова, «это была женщина лет тридцати двух или тридцати пяти, с преждевременно состарившимся лицом, в котором было что-то от скопца или гермафродита, волосы острижены в кружок». Комиссар М.Киселев вспоминает весну 1919-го: «…ей около тридцати — худенькая, с изможденным, испитым лицом, производит впечатление старой, засидевшейся курсистки». Но народная молва всегда приукрашивает своих героинь…
Вторая известная Маруся-Мурка водила украинских повстанцев в бой против «коммунии» в районе Чернобыля — Радомышля — Овруча в 1919 году. Это была сторонница Симона Петлюры, бывшая учительница, двадцатипятилетняя Маруся Соколовская. Ее брат Дмитрий Соколовский, повстанческий атаман, был убит красными летом 1919-го. Маруся возглавила отряд брата, который назвала Повстанческой бригадой имени Дмитрия Соколовского. В конце года ее повстанческий отряд из 800 человек был разбит частями 58-й советской дивизии. Атаманшу Марусю и ее жениха — атамана Куровского взяли в плен и расстреляли.
В 1920 году в армии Махно появляется новая атаманша Маруся — «Тетка Маруся» или «Черная Маруся». Она около года командует конным полком, который совершал рейды по тылам красных, действовал на Полтавщине, в районе Запорожья, на Черниговщине. По некоторым данным, Черная — это ее настоящая фамилия, а родилась Маруся в селе Басань. В октябре 1920-го Маруся Черная пустила под откос советский эшелон с войсками у Нежина. Погибла в бою летом 1921 года на юге Украины. По другой версии (анархист В.Стрелковский в конце 1970-х записал рассказ жителей одного из сел Киевской области), Маруся была тяжело ранена, вылечена крестьянами, но сошла с ума от пыток, которым ее подвергли красные, и в начале 1922 года была расстреляна.
Бандитка Мария Косова представляла на Украине повстанцев крестьянской армии атамана Антонова, поднявшего восстание на Тамбовщине в 1921—1922 годах. Косова прославилась взрывным характером и жестокостью. Именно она, «кровавая Мария», была одной из организаторов «Варфоломеевской ночи» — расправы над морскими офицерами в Крыму. В эту ночь анархистами и озверевшими матросами были расстреляны, утоплены, заколоты штыками сотни безоружных людей.
Вспомним и Марию Хрестовую — сестру-красавицу знаменитого на Полтавщине атамана Левка Хрестового. Как рассказывал троюродный племянник Хрестового Федор Коваленко, Левко со своими повстанцами хозяйничал на Полтаве вплоть до 1921 года и пользовался широкой поддержкой селян. Затем на подавление повстанцев была послана с Польского фронта конная армия Буденного. Левко со своими соратниками попытался скрыться вплавь через речку Псел (левый приток Днепра), однако там уже была выставлена застава красноармейцев, и никто из атаманского отряда не остался в живых. Скорее всего, в водах Псела погибла и Мария Хрестовая.
Теоретически имена всех этих «лихих Марусь» могли повлиять на создание песенной Мурки. И все же следует напомнить, что имя Мурка появляется значительно позже, нежели Любка — примерно в конце 20-х — начале 30-х годов. Поэтому влияние Мурок-атаманш на выбор имени песенной бандитки представляется хотя и возможным, однако не слишком очевидным.
Мария Евдокимова… она же — Маруся Климова?
Но вот на одну претендентку стоит обратить особое внимание. Появление этой «Мурки» относится уже к более поздним временам — к 1926 году. Мария Евдокимова была сотрудницей ленинградской милиции. Молодую девушку удалось успешно внедрить в осиное гнездо матерых уголовников, центр сборищ лиговской шпаны — трактир «Бристоль». Девушка только недавно поступила на службу в уголовный розыск, и поэтому никто из бандитов ее не знал. Мария выдавала себя за хипесницу (женщину, которая предлагает жертве сексуальные услуги, а затем вымогает с доверчивого клиента деньги при помощи сообщника, играющего роль «внезапно появившегося мужа»). Евдокимова убедила хозяина трактира в том, что ей нужно на некоторое время «затихариться», и тот взял девушку на мелкую подсобную работу. Мария имела возможность многое видеть и слышать.
В то время женщины-оперативники, видимо, были большой редкостью, поэтому обычно подозрительный владелец «Бристоля» не проявил особой бдительности. Евдокимова вскоре примелькалась, на нее перестали обращать внимание. Уже через месяц агентесса собрала крайне важные сведения об уголовниках, а также об их «наседке» в органах милиции. Предательницей оказалась Ирина Смолова — одна из канцелярских работниц.
В ноябре 1926 года, поздним вечером, уголовный розыск организовал масштабную облаву на «Бристоль». В помощь милиции привлекли курсантов командирских училищ, вооруженных винтовками. Достаточно сказать, что участники облавы прибыли к месту на нескольких десятках машин. В перестрелке были убиты пятеро бандитов, ранены двое милиционеров. Десятки крупных преступников оказались в руках милиции, хозяин трактира отправился в «Кресты».
Вот эта чекистка, на мой взгляд, могла наверняка подвигнуть неизвестных авторов на то, чтобы переименовать одесскую Любку-голубку в Мурку. Более того — в Марусю Климову! Не правда ли, есть определенная рифмованная перекличка фамилий: Климова — Евдокимова? Причем подобная версия кажется достаточно убедительной.
Дело в том, что возникновение известного припева, в котором фигурирует Маруся Климова, некоторые исследователи связывают именно с Ленинградом. Да, сегодня припев про Марусю Климову стал уже практически неотъемлемой частью известной песни. Однако в ранних вариантах он не встречается. Откуда же он взялся?
В книге музыковеда Бориса Савченко «Вадим Козин», автор которой строит повествование на основе бесед со знаменитым певцом, утверждается, что Козин вспоминал, как песню о Мурке с характерным припевом «Мура, Маруся Климова» исполнял в самом начале 20-х годов прошлого века известный эстрадный куплетист Василий Гущинский, работавший под «босяка». Однако исследователи сомневаются в точности воспоминаний Козина, указывая на свидетельство того же Савченко о своем собеседнике: «Даты, фамилии и прочая фактография были для него чем-то вроде высшей математики. Ему, например, ничего не стоило сдвинуть во времени какое-то событие из личной жизни на целое десятилетие вперед или назад».
И все же — процитируем отрывок из книги Савченко:
«В кумирах ходил и артист-трансформатор Гущинский. Особенно его любили рабочие петроградских окраин. Куплеты для него писал Валентин Кавецкий. Гущинский распевал, а фабричные вторили ему хором:
Мура, Маруся Климова,
Ты бы нашла любимого.
Эх, Мура, ты мур-муреночек,
Марусечка, ты мой котеночек…»
В другом месте беседы Козин опять-таки вспоминает о Кавецком и приводит другой отрывок песни:
Мурку хоронили пышно и богато,
На руках несли ее враги
И на гробе белом
Написали мелом:
«Спи, Муренок, спи, котенок,
сладко спи!..»
Почти наверняка можно утверждать, что эти события могут относиться к концу 20-х — началу 30-х годов прошлого века. Практически исключено, чтобы одесская песня о Любке, возникшая в первой половине 20-х, не только мгновенно стала популярной в Петрограде, но в ней еще и изменилось имя главной «героини».
А что касается названных артистов…
Валентин Кавецкий (Валентин Константинович Глезаров), как и Василий Гущинский (знаменитый Васвас Гущинский, кумир питерской публики) работал в жанре трансформации, то есть мгновенной смены ролей-масок на сцене. В послевоенное время этим прославился Аркадий Райкин, которого смело можно причислить к ученикам именно Кавецкого (исследователи утверждают, что к жанру трансформации Райкин обратился сразу же после того, как впервые побывал на концерте Валентина Константиновича).
Почему же Кавецкий не исполнял песню о Марусе Климовой сам, а передал ее коллеге? Объяснение простое: именно Василий Гущинский, еще начиная с дореволюционной эстрады, работал под «босяка». Так, один из авторов «Республики ШКИД», Леонид Пантелеев, вспоминал: «Васвас Гущинский! Кумир петербургской, петроградской, а потом ленинградской публики. Демократической публики, плебса. Ни в „Луна-парк“, ни в „Кривое зеркало“ его не пускали. Народный дом, рабочие клубы, дивертисмент в кинематографах. Здесь его красный нос, его костюм оборванца, его соленые остроты вызывали радостный хохот… В.В.Гущинский — это мое шкидское детство, послешкидская юность».
У Кавецкого было несколько иное амплуа, он был скорее «салонным» куплетистом. Поэтому он выступал больше в театрах, нежели в кафешантанах, рассчитывая на утонченную публику.
Можно точно сказать, что куплеты про Марусю Климову Гущинский исполнял не позднее середины 30-х годов. Уже во второй половине 30-х Гущинский вынужден был расстаться с маской «босяка», которая шла вразрез с официальной эстетикой того времени. Он стал выступать в обычном костюме, читать фельетоны от своего лица — и прежнего успеха не имел. Поэтому появление припева про Муреночка-Климову следует, скорее всего, отнести к концу 20-х — началу 30-х годов. История Маруси Евдокимовой в то время еще гремела на весь Ленинград и почти наверняка могла отразиться на содержании баллады — во всяком случае, указанием на «злых хулиганов» (Лиговка действительно считалась «хулиганским» и «бандитским» районом).
Ясно, что Кавецкого нельзя назвать автором первоначального варианта «Мурки» — хотя бы уже из-за выбора имени героини, которое вторично по отношению к Любке. А вот автором знаменитого припева, скорее всего, был именно он.
Маловероятно также, что фамилия Климова могла принадлежать реальной чекистке, погибшей от рук бандитов. Равно как и намек некоторых исследователей на то, что на выбор фамилии погибшей предательницы мог повлиять образ красавицы-террористки Натальи Климовой — любовницы Бориса Савинкова, дворянки из знатной семьи, покушавшейся на премьер-министра Петра Столыпина, приговоренной к повешению и бежавшей из тюрьмы. Хотя, по некоторым сведениям, муж Климовой, эсер-максималист, боевик Михаил Соколов по прозвищу «Медведь», якобы был до прихода к эсерам известным взломщиком сейфов и грабителем банков (его в 1906 году за взрыв дачи Столыпина повесили). Но Климова умерла еще в 1918 году, заболев гриппом на пути из Парижа в Россию. Да и вряд ли авторы песни — тем более авторы поздней переделки — вспомнили о мало популярной в Советской России эсерке.
Читать главу о песне «Цыпленок жареный»