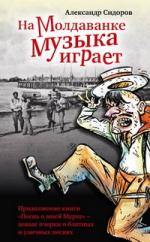- Издательство «ПРОЗАиК», 2012 г.
- Повести «Стеклянный шарик» и «Кормление ребенка» — две истории о детстве нынешних взрослых. Причем детство для героев Ирины Лукьяновой — понятие не биологическое, а мировоззренческое, которое великий поэт назвал «ковшом душевной глуби», «вдохновителем и регентом» и которое продолжает жить в человеке и после того, как он покидает его возрастные границы. Так и происходит развитие вечного конфликта — «отцы» стараются вернуть «детей» в привычный круг поведения и поступков, а «дети» пытаются преодолеть сопротивление, изменить течение своей жизни и увлечь в полет тех, кто оказался рядом.
Диванный бегемот
Ася сторожит потолок. Когда проезжает машина, ей в крышу бьет солнце, и по потолку пробегает солнечный зайчик непонятной формы. Ася хочет остановить и разглядеть зайчика, разобраться — где у него лапы, уши, — но машины едут слишком быстро, и зайчики пробегают стремительно.
Ася сидит неподвижно и напряженно смотрит в потолок. Вся группа уже оделась и вышла из спальни, они кричат и возятся в умывальнике, и стало хорошо, тихо, только машины за окном вжжж, вжжж, и зайцы быстро пробегают по потолку.
— Ася, тебе особое приглашение нужно? — говорит няня Анна Семеновна. — Давай одевайся быстренько, иди полдничать.
Ася смотрит на потолок.
— Ну чего ты там увидела?
— Зайчик, — говорит Ася очень тихо. Она понимает, как это глупо.
И Анна Семеновна откликается:
— Глупости какие. Одевайся, а то опоздаешь. Там ватрушки.
— Не хочу ватрушки, — говорит Ася, не сводя глаз с потолка. Она ждет зайчика. И зайчик выходит из ничего, из серого потолка, и медленно идет, и Ася видит, что у него одно ухо и две лапки, а двух, наверное, просто не видно, и хвоста тоже нет, но Анна Семеновна хватает ее и начинает одевать.
Ася не сопротивляется. В прошлый раз она дергалась и вырывалась, и Анна Семеновна крепко дала ей по попе. С Асей никогда такого раньше не было. Как будто к попе приклеили раскаленную железку. После полдника уже перестало болеть, а железка жгла. Ася полдня хромала, чувствуя раскаленную железку, а Анна Семеновна сказала «не выдумывай, тебе не больно». Асе убежала и спряталась от Анны Семеновны в туалете, вдруг она еще раз ее обожжет. Она не знала, что мама пришла, а то бы она, конечно, сразу побежала к маме. «Почему ты пряталась?» — спросила тогда мама, но Ася не сказала, что Анна Семеновна жжется, мама бы ей не поверила. А если бы поверила, то еще хуже. Ася когда ей сказала, что под верандой живет пушистая крыса Дуня, она не поверила, а когда Ася рассказала, что носит ей хлеб после завтрака, мама нажаловалась заведующей. Ася потом болела, а когда пошла потом на прогулке кормить Дуню, там все цементом заделано. Мама, сказала Ася, они Дуню замуровали. И очень хорошо, сказала мама, крысы разносят болезни, а если бы она тебя укусила? Она бы меня никогда не укусила, сказала Ася, она меня любила. Она еду любила, а не тебя, засмеялась мама. Ася встала и ушла. Она долго ходила вокруг веранды, — может, Дуня ей хоть привет оставила. И нашла. Там лежал квадратный обрывок газеты, а на нем написано:
отъе
есто
вида
Ася научилась читать еще в позапрошлом году и хорошо поняла, что Дуня ей оставила записку: «отъезжаю в другое место, до свидания». Ася положила дунино письмо в секретную коробку, а маме больше ничего не рассказывала, потому что все равно будет только хуже.
— Ася, тебе ушки прочистить, чтобы ты услышала? Вот возьму ершик и почищу!
Ася понимает, что у Анны Семеновны не только электроток в правой руке — у нее еще из пальцев выдвигаются такие длинные прозрачные усики, щеточки и ершики, которые она втыкает детям в уши. У Аси отнимаются ноги и холод растекается по спине. Зачем она ждала зайчиков и думала про Дуню, надо было бежать еще когда она вошла.
Ася съеживается и представляет, как в уши ей входят холодные усики. Анна Семеновна надевает ей колготки и платье задом наперед, и Ася стоит и думает, как идти — чтобы лицо было впереди или карман с котенком? Она когда надевала это платье, показывала котенку дорогу и рассказывала: это наш двор, мы тут играем. В группе котенок был первый раз, платье еще новое, Ася вдруг спохватилась, что ничего ему не рассказывала, а тут его задом наперед еще надели. Ася решительно повернулась спиной и пошла по проходу котенком вперед.
— Да что ж за девка такая! — закричала Анна Семеновна.
Ася рванулась вперед, к выходу из спальни, но налетела спиной на кровать, упала и ударилась головой.
Анна Семеновна бросилась ее поднимать, но Ася заорала от ужаса. Сейчас Анна Семеновна отведет ее на кухню, прикует к стене, облепит раскаленными железками и будет совать в уши холодные усики. Анна Семеновна огромная, как бегемот. Она состоит из шаров и валиков, как бабушкин диван. А на концах валиков клешни с током.
На крик прибежала воспитательница Нина Андреевна.
— Что у вас тут случилось?
— Нина Андреевна, ну сколько можно! То сидит на потолке ворон считает, то задом наперед ходит! — Ася, что случилось?
Ася кидается Нине Андреевне на шею. У Нины Андреевны мягкая сиреневая кофточка с вырезом, а на шее на цепочке висят часики и тихо тикают. Ася прижимается к часикам ухом, они говорят тик, тик, тик, тики, тики, тики, тики. Нина Андреевна пахнет ландышем, а на груди в вырезе кофточки у нее конопушки.
— Вы пока идите в группу, Анна Семеновна.
— Что случилось, Ася? Ты почему плачешь?
Зайцы, железки, усики, клешни, кот на кармане. Никто не поверит, потому что им это не важно.
— Я упала и ушиблась.
— Зачем же ты шла задом наперед, глупенькая?
— Я не знаю, — говорит Ася. — Мне платье задом наперед надели.
— Ну давай переоденем. А зачем спиной вперед-то ходить, это ведь опасно?
— Не знаю, — плачет Ася. На сиреневой кофточке у Нины Андреевны темные пятна от Асиных слез.
Ася знает, что она глупая. Что она ни сделает, все выходит не так. Ее потом приводят, ставят, спрашивают: Ася, ну скажи, ну зачем ты это сделала? А она не может ответить. Клоун был страшный и смотрел, поэтому оторвала глаза и выбросила в унитаз. А если они там плавают и глядят, и все ему в голову передают, то и голову оторвала и выбросила в другое место.
А белую блузку брала, потому что снежная королева должна быть в белом, а синие пятна потому что рисовала на ней звезды и снежинки как в книжке на мантии, а краска растеклась и не отстирывается. А снежная королева потому что день такой, чтобы стоять у окна и повелевать снежинкам с волшебной палочкой в руке.
— Зачем ты испортила блузку, Ася?
— Не знаю.
Нина Андреевна причесывает Асю и перевязывает ей бантики потуже. Ася чувствует себя затянутой, аккуратной и новенькой, как кукла из магазина.
— Иди умойся, — говорит Нина Андреевна, — и быстро полдничать.
Ася идет умываться. В умывальнике зеркало. В нем чужая красивая девочка с новыми косичками и красными глазами. Ася качает головой и трясет косичками: здравствуйте, здравствуйте, чужая девочка, вы плакали? Да, я плакала, говорит чужая девочка, на нас набросился диванный бегемот.
— Диванный бегемот! — хохочет Ася. — А не хотите умыться?
— Умыться? — говорит красивая девочка в зеркале и красиво качает косами. — Это можно. Только не забудьте, пожалуйста, высморкать мне нос.
Анна Семеновна входит в умывальню, хватает Асю за руку и плещет ей в лицо воду. Вода забивается под веки, красивая девочка в зеркале убегает с криками «диванный бегемот!», бантик сползает. Анна Семеновна трет ей лицо чужим полотенцем, это полотенце Коновалова, а Коновалов сопливый. Теперь Ася покроется коноваловскими соплями. Ася отпихивает полотенце и сует голову под воду, быстро трет лицо, чтобы смыть коноваловские сопли.
— Да что за ребенок такой! — кричит Анна Семеновна. — Все поперек!
— Это не мое полотенце! — отчаянно кричит Ася.
— Какая разница! — кричит Анна Семеновна.
Анна Семеновна хватает Асю за плечи, тащит мимо столиков с полдником, сажает на табуретку возле входа на кухню. Рядом стоит стол, на столе серая кастрюля с хлорным раствором. В серой кастрюле мокнет и воняет хлорная, скользкая, серая марлевая тряпка.
— Посиди здесь и подумай о своем поведении.
Ася ненавидит запах тряпки. Асю тошнит. Ася говорит:
— Меня сейчас вырвет.
Диванный бегемот унес Асю в свое логово, приковал и душит тряпкой.
— Не выдумывай, — говорит Анна Семеновна, достает из кастрюли тряпку и начинает ее отжимать.
Асю рвет на пол.
— Что за девка! — говорит Анна Семеновна убито. — Нина Андреевна! Тут Николаеву вырвало!
Нина Андреевна отвечает с другого конца группы:
— Анна Семеновна, я не могу подойти. Разберитесь сами.
Ася встает и пошатываясь бредет к Нине Андреевне, но та уже сама кричит:
— Ася, за тобой мама пришла!
Асина мама, Нина Андреевна и Анна Семеновна долго разговаривают. Асе сказали «иди погуляй», мама переминается с ноги на ногу, по щекам у нее переливаются красные пятна. Анна Семеновна гудит, а Нина Андреевна вертит головой по сторонам:
— Саша! Ты куда пошел?
— Валя! Отойди от Коли!
Ольга Евгеньевна из соседней группы зовет их играть в ручеек. Ася бежит сквозь коридор из рук, пар, подолов. Этого взять? — незнакомый? Этого — Коновалов! Незнакомый, незнакомый, незнакомый, вдруг его взять опасно? С Валей не хочу, с Таней не хочу, ни с кем не хочу, куда хочу, туда лечу!
Ася выбегает с другого конца ручейка — одна, свободная, довольная: отделалась!
И идет проверять у веранды, нет ли нового письма от Дуни.
— Ася! — говорит ей мама по дороге домой. — Я тебе сколько раз говорила, что нельзя убегать? Почему ты опять убежала?
— Не знаю, — говорит Ася механически.
— Что мне с тобой делать?
— Не знаю, — говорит Ася искренне.
— Ты как себя чувствуешь-то? — вдруг вспоминает мама.
— Ужасно, — отвечает Ася очень честно. — Бегемотовна меня била, совала холодные трубки в уши, потом макала головой в воду, натирала соплями, а потом душила тряпкой. И от этого меня вырвало. Вот.
— Ася, — вздыхает мама. — Ну зачем ты это все придумываешь?
— Не знаю, — вздыхает Ася.
Форма Вселенной
День очень длинный, но еще длиннее ночь. Ночь смотрит светлыми глазами — серыми, полупрозрачными, внимательно, в упор. Задает вопросы, на которые надо отвечать, а нечего. Чего-то хочет от тебя — пароля, волшебного слова, тогда что-то сдвинется, изменится, а так ничего не меняется, ждешь и ждешь неизвестно чего, ждешь и ждешь, как в коридоре поликлиники.
Мама уже успеет со всеми поговорить, подержать на руках какого-то чужого малыша противного, поставь на место, зачем он нам, я же лучше? Почему ты смотришь на него, а не на меня, почему ты хвалишь его, а не меня, я же тоже милая? Я тоже умею говорить, а хожу я даже лучше, я не падаю.
Ася, якать некрасиво.
В очереди успеешь на все посмотреть, прочитать все плакаты про мойте руки перед едой и профилактику простудных заболеваний, они уже успеют все надоесть, и сама успеешь себе надоесть, и тетки в шапках, и дети сопливые, и разговоры: вы за кем? — вы за нами! — за какими такими «нами», кто эти «мы»? — это еще три кило груза, а не мы…
…а все сидишь, и сидишь, и сидишь…
Ночью и плакатов нет. Уже и сама себе надоешь, а все не спишь, и не спишь, и не спишь.
Ночью комната другая: цвета уходят, зато приходят узоры. Узоры и днем есть, они складываются из рисунка плитки, из орнаментов и трещин, из пятен и складок, и мама думает, что Ася ненормальная, потому что она внезапно смеется, а на полу смешная рожа из пятен.
Ночью узоры страшные: рожи и пальцы. Глаза слепые, пучеглазые, как у глубоководных рыб, раззявленные пасти. Ходить по полу опасно, схватят. Свешивать одеяло с кровати опасно, утянут. Подходить к стулу опасно, на нем висит халат-людоед. Он протянет к тебе безрукие рукава и усосет.
Мимо дома проходят машины, и по темному потолку пробегает светлый веер: слева направо, слева направо, слева направо. Это большая дама машет светлым веером, если у нее руки на втором этаже, то где голова? На крыше, наверное. В огромной шляпе. Когда она снимает шляпу, может закрыть всю крышу. Когда она машет веером, надо притаиться: вдруг она засунет руку в окно? И все кактусы посыплются.
Сидеть и плакать в ночном аквариуме, полном слепых глаз, потому что страшно сходить в туалет.
— Ася, что случилось?
— Мне страшно.
— Что опять?
— Я в туалет хочу.
— Иди.
— Включи свет.
Свет падает, и они все разбегаются, как тараканы на кухне, — мама даже не видит, как они прячутся, шмыгают за плинтус, забираются под кровать, прикидываются халатами.
Мама сонная, щурится, потирает плечи, чешет руки спросонок, переминается с ноги на ногу на холодном полу.
— Подожди меня под дверью.
— Ася! Тебе уже шесть лет!
— Я боюсь!
— Иди спать.
— Можно к тебе?
— Ася, у тебя есть своя кровать. Давай я тебя укрою, поцелую, вот возьми Динку…
— Оставь свет!
— И как ты будешь спать?
— Я все равно не буду спать.
— Ася, не глупи. Спи давай, завтра вставать рано.
— А уже завтра.
— Ась, я спать хочу.
— Иди, мам.
Как только выключается свет, во всех углах шорох, они вылезают, смотрят, таращат глаза. Динка, скажи им. Сядь рядом, вот так.
Динка садится возле подушки. Пластмассовый нос водит по ветру, непришитое ухо топорщится, пришитое прижато, пуговичный глаз сверлит темноту.
Ночь длинная, длинная, она не кончается никогда. Никогда — длинное слово, длиннее, чем жизнь. Жизнь кончится, а никогда останется. Оно плодится, разрастается, складывается узорами, узоры делаются все сложнее, ветвятся все дальше, из больших веточек растут маленькие, из маленьких тоненькие, из тоненьких ниточные, из них еще мельче, а там совсем микроскопические, и не кончаются, и так дальше, и дальше, везде. Везде — тоже очень длинное слово. Человек такой маленький, а везде — очень большое, больше дамы с веером. Динка, тихо, она опять махнула.
Вот я тут сижу, кажется, такая большая, а если смотреть на веточки от никогда, то и я маленькая, и мама маленькая, как засохшая ягода на ветке, и Динки совсем не видно, а веточки растут, тянутся, тянутся, уже и нас не видно, и дома нашего, мы все уменьшились, а конца не наступает, и кажется, я падаю куда-то в яму, падаю и падаю..
АААААА!
— Ася! Что случилось?
— Я упала.
— Куда ты упала? Ты тут, на кровати. Тебе приснилось чего?
— Не знаю. Страшное.
— А не надо страшные сказки на ночь читать.
— Это не сказки. Это веточки.
— Ветка в окно?
— Нет, веточки такие маленькие, а на них еще меньше, и еще, и мы с тобой совсем потерялись.
— Какие глупости тебе снятся. Ну вот, обними Динку, спи.
— Нельзя. Она сторожит.
— Хорошо. Пусть сторожит.
Меня никто не возьмет. Они будут тянуть лапы, ручки, веточки, но не возьмут. А тогда они пришлют холод и болезнь. И я заболею и буду лежать, и они будут тянуть из меня жизнь по ниточке, и совсем меня размотают. Я не хочу умирать.
Я не буду плакать. Я не хочу будить маму. Мне ее жалко, я не даю ей спать. Я ее замучила. Но мне очень страшно: здесь, под одеялом, еще ничего, но за ним начинаются взгляды и руки, и веер, и окно, а за ним дама со шляпой на крыше, там чужие, там холод и болезнь, и все расширяется, расширяется в светло-серое, холодное, бескрайнее, в везде, и я одна, и я меньше засохшей ягоды на ветке.
И надо встать и пройти по холодному полу. Он очень холодный, как будто жжется. И там клетчатый пол, как шахматы. И черная комната, и там мама, тоже холодная.
А дальше бескрайнее никогда, потому что у меня никогда, никогда не будет мамы.
— Мама!
— Ася, что с тобой?
— Мама!
— Что случилось?
— Приснилось.
— Что приснилось?
Это нельзя сказать. Потому что если сказать — то допустить его в реальность. Назвать пароль, впустить в свой мир. Я не пущу. Не скажу. Такие вещи не говорят.
— Плохое. Про тебя.
— Ну ты видишь, со мной все в порядке?
— Можно к тебе?
— Можно.
— А можно Динку к тебе?
— Можно.
Вселенная послушно принимает форму яйца; в ней можно склубочиться, подоткнуть одеяло, повращаться и заснуть. Время перестает ветвиться и останавливается: половина четвертого.
Замок
За Асей скоро приедет мама, а за Олей никто не приедет. Ася живет в городе, а Оля здесь. Олины друзья разъехались по деревням, только Ася на август приехала к бабушке. Оля бродит у Асиных ворот, слушает, как у Еремеевны блеют козы. Гремит засов, из калитки выходит Олина бабушка с сумкой.
— А Ася выйдет? — жалобно спрашивает Оля.
— Да кто ее поймет, опять на веранде с книжкой засела, — отвечает Асина бабушка.
Оля уныло бредет туда — в сторону котельной, потом обратно — в сторону колонки. Ждет, пока бабушка скроется за углом и громко кричит:
— А-ся! А-ся!
Повязанная платком голова Еремеевны возникает над ее низкой калиткой:
— Чего блажишь, дурная? Вот же я Макаровне скажу.
Оля убегает от Еремеевны подальше, легко топоча сандалиями. Она рисует прутиком на пыли, собирает в карман голубые стеклышки, пытается поймать на цветущем малиново-фиолетовом репейнике бабочку павлиний глаз, но бабочка улетает. Оля обрывает репьи и делает из них маленькую корзиночку.
Засов гремит снова, калитка скрипит, и выходит Ася. Ждет, пока Оля подбежит.
— А, привет, — говорит она.
Оля хочет дружить с Асей, но Ася такая недоступная. У Аси бело-красное чистенькое платье с клубничиной на кармане и белые носки с кружевами по краешку. И белые туфельки. А у Оли облезло-голубые, уже пыльные, и у одного резинка растянута, он сползает. И красные потертые сандалии, и желтое платье с коричневыми цветами и зелеными ягодами. У Аси красиво заплетенная косичка от темечка и атласный бант, а у Оли банты капроновые и косы как посудные ершики. Как подойти к такой Асе?
Ася направляется к куче песка у ворот.
— Будешь замок строить?
Оля кивает и присаживается рядом.
Ася возводит башню. Выкопала колодец и берет из глубины кучи сырой песок, лепит высокий конус и трет ладонями его бока, пока песок не становится темным и с виду прочным, как цемент. Оля лепит домик и проковыривает в нем дырочки: окно и дверь. Смотрит на Асин конус:
— А что это будет?
— Вот это внутренний колодец будет, а это донжон, — степенно отвечает Ася.
Ася достает из кармана с спичку. К ней приклеен бумажный красный флажок с треугольным вырезом. Ася укрепляет спичку на макушке башни. Выходит здорово, но Оля не знает, что такое донжон, так что переводит тему:
— А в башне кто живет? Красавица?
— Нет, — сосредоточенно бормочет Ася, пристраивая к башне ворота, — здесь живет феодал. Рыцарь. Его звали…
— Бюсси Д’Амбуаз, — выпаливает Оля самое красивое из найденных в памяти подходящих имен и заглядывает Асе в глаза.
— Нет, — отсекает Ася. — Бюсси Д’Амбуаз — это из графини де Монсоро по телеку, а здесь живет… здесь живет злой рыцарь Фрон де Беф.
-А можно я с тобой буду строить?
— Давай. Вот здесь будет крепостная стена, а здесь барбакан.
— Кто?
— Ну вот так вот будет ров, через него мост, а тут барбакан.
— А это что?
— Это тут такая защита входа, такая круглая как будто башня с воротами.
Оля сгребает песок и строит толстую высокую башню. Ася, недовольно нахмурившись, отрывается от возведения барбакана:
— Нет, донжон только один должен быть, самый высокий, нельзя башню выше его. Давай ты вот здесь строй стену, а на стене тоже башни поменьше.
Оля строит стену. Стена длинная, одинаковая, ей уже скучно, и она лепит башенку за башенкой, украшая их верхушки сорванными рядом лютиками.
— А давай как будто твой этот украл принцессу, а за ней как будто принц приехал.
— Мой этот — кто? — строго спрашивает Ася.
— Ну как его? Феодул.
— Феодал?
— Ну.
— Погоди. Там на самом деле он красивую Ревекку украл и рыцаря, а другой рыцарь, черный, за ним пришел и разбойников привел, и они стали осаждать замок. А вот здесь должен быть бартизан, — Ася показывает на угол, где сходятся две построенных Олей крепостных стены.
— Кто? — Оля смущенно смеется. Ася вздрагивает так, будто ее ударили.
— Ничего смешного. Бартизан — это башня такая сторожевая.
— Партизан, — хохочет Оля.
— Не хочешь играть — не надо, — обижается Ася.
— В партизанов! — веселится Оля. Она думает, Асе тоже будет смешно: партизан, толстый такой. — Прикинь, толстый, с бородой, в фуфайке, выходит из леса такой. А эти, рыцари — все — бах, офигели: кто такой?
Оля воображает явление партизана перед защитниками замка и заливается смехом.
Асе кажется, что Оля смеется над ней.
— Смешно дураку, что рот на боку, — оскорблено замечает она.
— Сама ты дура, — по инерции хохочет Оля. — Партизанка Ася!
Оля легко вскакивает на ноги и убегает. Она радуется своему партизану и почти летит от смеха, и сандалии оставляют легкие следы в остывающей тонкой пыли на неасфальтированной дороге.
— Партизан, партизан, — горланит она, а из кармана выпрыгивают голубые стеклышки.
Ася смотрит ей вслед. Вынимает из кармана спички с наклеенными флажками, смотрит на них и кладет обратно в карман. Солнце ушло с песочной кучи за сад, натянулась тень от ворот, и песок быстро стал холодным. Ася подходит к кусту золотых шаров, обрывает один цветок и, сосредоточенно общипывая его на ходу, идет по улице. Лепестки становятся все мельче и сыплются на землю желтой дорожкой.
Из-за угла выворачивает бабушка с тяжелой сумкой.
— А тебя Оля ждала, — говорит бабушка, увидев Асю.
— Я ее уже видела, — Ася крутит в пальцах оставшийся от цветка зеленый пенек.
— Вы хоть погуляли? А то все сидишь на веранде весь день.
— Да ну ее, — Ася отшвыривает останки цветка. — Она дура какая-то.
— Что-то и Маринка у тебя дура, и Оля дура, — осторожно замечает бабушка.
— Бабушка! Ну если она правда — дура?
Бабушка пожимает плечами.
Ася идет с ней домой, ждет, пока бабушка разгрузит сумку, хватает булочку с изюмом и убегает с ней на веранду — дочитывать книжку про рыцарей.