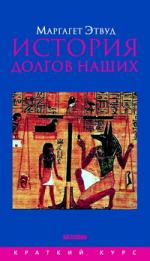Пролог к роману
О книге Антонии Арслан «Усадьба жаворонков»
Мы отправились в гости к святому по улице под
портиками. Было 13 июня — день моих именин. Шел
дождь, и мне не хотелось никуда идти, но дедушка Ерванд
— патриарх, чье слово было для всех законом, —
до этого сказал: «Надо, чтобы девочка знала своего
святого. Давно уже пора: ей пять лет. Не годится заставлять
святых ждать. И пускай идет пешком». А сам
он вместе с водителем Антонио потом догонит нас на
своей «Ланче».
И вот мы с тетей прошли две длинные улицы под
портиками, ведущие к собору. Тетя Генриетта была миниатюрной
женщиной с крупным армянским носом и
короткими блестящими черными волосами. Она ревностно
хранила множество тайн, никогда не носила
низкие каблуки и не разрешала мне открывать ее сумочку.
Ей тоже был не по душе дедушкин приказ: ей
было жарко, у нее «почти что» болела голова; и потом,
что за дурной тон — идти в собор в праздник святого:
так делают только провинциалы да туристы. Она боялась
потерять меня в толпе и, как всегда, переживала
из-за каждого пустяка.
Тетя Генриетта была одной из тех, кто пережил геноцид
1915 года. Она была дитя диаспоры, и у нее больше
не было родного языка. На всех языках, в том числе на своем, армянском, она говорила неестественно,
с усилием и смешными трогательными ошибками, как
иностранка. Она никогда не рассказывала о том, как
ей удалось выжить. Она забыла даже свой истинный
возраст (по прибытии в Италию она была такой крошечной
и измученной, что ей дали на два или три года
меньше, чем ей было на самом деле). Но каждый вечер,
когда она приходила к нам ужинать и приносила
большие блюда австрийского печенья, огромные банки
домашнего йогурта, пахлаву с медом и орехами, ее
присутствие наполняло наш дом смутными воспоминаниями.
Я ее обожала, а она меня баловала. У нее дома целый
день звучали диски Эдит Пиаф, и можно было танцевать
в атласных туфельках. Так что с ней я шла к свято му
с каким-то ленивым любопытством, надеясь получить
мороженое, или медальончик, или книжку с картинками,
или еще что-нибудь. Меня бы устроил любой подарок,
и я доверчиво ждала его.
И когда мы подошли к тому месту, где улица дель
Санто выходит на огромную площадь, я получила свой
подарок. Дождь уже несколько минут как перестал,
и вдруг облака раздвинулись, точно занавес, и яркий
горячий луч солнца превратил площадь в театральную
сцену, где пришли в движение бесчисленные разноцветные
фигурки — они закрывали свои зонтики и спешили
к дверям собора. «Аида!», «Нив!», «Эстерина!»,
«Джи-джа!» — весело и нетерпеливо перекликались
жен щины; за женщинами шли дети, тихие и чинные,
как маленькие монахи, и крепкие серьезные мужчины
в черном. В самом центре площади сразу же бросалась
в глаза какая-то торжественная группа людей в кричащих
костюмах — длинные юбки и пышные волосы
у женщин, лихо закрученные усы у мужчин. Они стояли неподвижно и не сводили глаз с приоткрытых дверей
собора.
«Видишь? И цыгане тут, — взволнованно сказала
те тя. — Держи меня крепче за руку». Я и не думала
отпускать ее руку — мне достаточно было просто смотреть.
Я была очарована и растеряна. Так это и есть цыгане?
Те самые, что все время куда-то едут, и нигде не
останавливаются, и живут в пестрых повозках, которые
совсем как маленькие дома, и в них есть все необходимое?
Мы, армяне, тоже много ездим по разным странам,
но, приехав куда-нибудь, останавливаемся, так что наша
родня разбросана по всему свету. И я начала повторять
названия городов, где жили наши родственники, и их
имена, смакуя их во рту, словно леденец.
Тетя частенько повторяла: «Вот рассердите вы меня,
будете плохо себя вести — возьму и уеду от вас. В Бейрут
к Арусяк, в Алеппо к дяде Зарe, в Бостон к Филиппу
и Милдред, во Фресно к сестре Нвард, в Нью-Йорк
к Ани или вообще в Копакабану к кузену Микаэлу. Но
к нему в последнюю очередь, потому что его жена — ассирийка». Меня прямо-таки завораживала эта госпожа
тетушка-ассирийка. В книжке с картинками я ви дела,
какие у древних ассирийцев были костюмы и бороды,
мне рассказывали историю Навуходоносора и великих
городов Вавилона и Ниневии, и я представляла себе
эту тетушку — как она, закутанная в роскошные шелка,
важно прогуливается по висячим садам Вавилона (это
название звучало совсем как «Копакабана»). Разве можно
ехать к ним в последнюю очередь, как говорила тетя Генриетта? По мне, эта блестящая бразильская родня
должна была быть на первом месте. Но, по правде говоря,
моего мнения никто не спрашивал…
По-прежнему нервно сжимая мне руку, тетя осматривалась
вокруг. Она была маленькой, трогательной и
сразу же терялась, ей необходимо было ободряющее
присутствие дедушки, который, к счастью, как раз приехал.
Серебристая машина описала безупречную дугу
по площади и бесшумно остановилась прямо рядом с
нами. Водитель Антонио вышел и бросился открывать
дверь старику; тот тоже был невысоким, но у него был
такой важный вид — не то что у тети! Вся его фигура,
начиная с совершенно лысой головы, которую каждый
день тщательно брили, и с короткой властной бородки-
эспаньолки до блестящих сапог с аккуратно застегнутыми
гетрами, излучала уверенность в себе и огромную
внутреннюю силу. При этом дедушке не чужды
были и кое-какие властные капризы, которые никем
не обсуждались и очень нравились нам, детям, — именно
потому, что они совершенно необъяснимым образом
противоречили разумным решениям других взрослых
членов семьи.
Дедушка сразу оценил ситуацию, в том числе пугающее
тетю присутствие цыган, и распорядился: «Ты,
Генриетта, заходи в собор через боковые двери, садись
и начинай молиться. Прочти розарий, потому что
ждать придется долго. Потом мы за тобой зайдем. Девочка
пойдет со мной. Ты, Антонио, тоже иди внутрь:
сего дня праздник твоего святого, у тебя найдется о чем
его попросить. Хорошая молитва и тебе не повредит.
Потом садись позади барышни — подождете нас
вместе».
Он взял меня за руку и повел прямо к цыганам в центре
площади. Впереди всех стоял цыганский барон, высокий и красивый. Увидев дедушку, такого маленького
и кругленького, с блестящей цепочкой часов поперек
жилета, он поздоровался с ним и сразу же сказал остальным
цыганам, которые в моих восхищенных глазах были
такими же красивыми: «Вот пришел профессор. Тот
самый, который спас нашего малыша. Он пойдет с нами
в собор, будет молиться с нами». А дедушка сказал:
«А это моя внучка. Ее зовут Антония».
В этот миг главные двери собора начали медленно
отворяться. По ту сторону двух тяжелых занавесей открылась
огромная темная пустота, откуда шел очень
сильный запах благовоний, глухой шум огромной почтительной
толпы и время от времени доносились обрывки
песнопений. Дедушка взял меня за одну руку,
цыганский барон — за другую, и мы вместе медленно
и торжественно направились внутрь. Люди расступались
перед нами, перешептываясь. От этих цыган исходил
какой-то особенный запах, который навсегда
остался в моей памяти, как запах родного гнезда, куда
все мы когда-нибудь вернемся: запах лошадей, кожи,
загара и дорожной пыли.
Цыгане пели на своем непонятном языке. И дедушка
тоже запел на своем непонятном языке, и слова звучали
так нежно, что казалось, совсем не он произносит
их необычайно глубоким голосом, будто разговаривая
сам с собой. Глядя на него снизу вверх, я слушала и слушала,
и мне действительно казалось, что я дома, что
я возвращаюсь в теплое гнездо. «Прости меня, Господи,
— говорил дедушка на древнем языке, — прости и
помилуй; Иисус, Спаситель наш, смилуйся над нами.
Святая Троица, дай спокойствие этому миру, дай славу
Церкви; дай нашей армянской нации любовь и единство,
исцеление больным и Царство Небесное усопшим».
В этот миг послышался чей-то громкий уверенный
голос (мне показалось, что он донесся прямо из таинственной
Вечности; на самом деле это говорил проповедник,
но мне его было не видно): «Слушайте слова
святого брата Антония. Христа он сравнивает с наседкой:
„Как наседка собирает под крыло своих цыплят…“
Он говорит, что наседка болеет, когда болеют цыплята;
она зовет их есть, пока не охрипнет; она прячет их
под крылом и защищает их от коршуна. Так же и Христос,
воплощение Божественной Мудрости, ради нас,
больных, взял на себя наши болезни. Как говорит Исайя:
„Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей
и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице
свое“».
Мысль про наседку мне понравилась. Я знала, какими
бывают наседки, как они себя ведут; когда-то у меня
даже был цыпленок. Хотя моя мама, думала я, моя молодая
и дерзкая мама совсем не похожа на наседку…
Все это вместе — и исцеление больных из дедушкиной
молитвы, и Армения, и материнская забота Бога-наседки,
о которой говорил голос, и запах цыган, и эта
огромная пустота под сводом собора — вдруг слилось
в моей душе в чувство такой абсолютной защищенности,
такого огромного счастья, что я расплакалась.
Тогда дедушка взял мою руку в свои и сказал: «Эта
церковь — как корабль, а ведет его твой святой. Эта
церковь — как гавань, где нас встречает твой святой,
он говорит нам слова любви и утешения, и все зло остается
там, за дверью». (Я посмотрела на большие двери:
не такая уж это была и преграда, а снаружи был яркий
свет. Но дедушке лучше знать…) «Эта церковь — видимый
дом, который ведет в невидимый. Здесь ты всегда
будешь дома. Ты слышала, что говорил святой: Бог —
это утешение и познание, это поддержка в болезни, это сердце, которое бьется рядом с твоим. Здесь все
наши усопшие: бабушка Антоньетта, моя молодая мама
(„Оказывается, у дедушки была мама“, — изумилась
я), мои братья и сестры, погибшие во время депортации…»
«Ну, а теперь, — продолжал он, — пойдем поздороваемся
с ним. Не годится забывать про хозяина дома».
Мы тепло попрощались с цыганами и встали в длинную
очередь в тесной и потной толпе: все хотели прикоснуться
к черной мраморной плите, за которой, как объяснил
дедушка, находилось тело святого Антония. «И он
действительно там? И слышит нас? — спросила я. —
И по нимает, о чем мы думаем?»
«Надо положить руку на мрамор, — ответил он, —
и прочесть молитву: какую лучше всего знаешь или
какую вспомнишь в первую очередь. Он прочтет в твоем
сердце». Я подумала, что в моем сердце нельзя прочесть
ничего особенного — ведь его занимали только
детские заботы; что там может быть интересного для
святого? Зато мое внимание привлекли серебряные
сердечки — тонкие кружева блестящего металла, которые
висели повсюду вместе с серебряными ручками
и ножками и крошечными разноцветными картинками.
Но не было времени на чем-нибудь задерживаться.
Плот ная толпа напирала со всех сторон на дедушку
и на меня, толкая туда и сюда.
Наконец какой-то толстяк позади нас обратил внимание
на старика и маленькую девочку: он заслонил
дедушку от толпы и поднял меня на руки, на миг прижав
к той самой черной плите. Я поспешно подумала: «Самое
главное — меня зовут Антония. Я тебе сразу скажу
свое имя, а то как ты меня запомнишь в такой толпе?»
Но он ничего не ответил. «Слишком много народу, —
подумала я, — наверно, нужно говорить погромче».
Но свой долг я исполнила — поступила как воспитанная
девочка; к тому же он, наверно, уже знал меня: ведь дедушка
ему обо мне рассказывал.
И меня снова охватило счастье — бурное, как поток,
который понес меня вместе с движущейся толпой.
Не помню, что было дальше; помню только, что дедушка
крепко держал меня за руку, и нас как будто объединяло
одно и то же тайное чувство. Помню, что в какой-
то момент (кажется, за главным алтарем, где было
темно и относительно спокойно) он присел прямо на
ступеньку — он, обычно такой щепетильный! — как
будто его охватили неожиданные мысли, заставившие
забыть обо всем вокруг; а я, спокойная и радостная,
стояла перед ним и ждала. Сегодня я понимаю, что в
тот миг его посетили все его дорогие усопшие, и он
вдруг стал похож на старого, усталого купца, который
долго мечтал вернуться на родной Восток, чтобы закончить
там свои дни, но постепенно смирился с тем,
что умрет здесь, в изгнании; хотя это было уже не изгнание
— это было пристанище для всех народов, утраченная
древняя родина.
Зато я отлично помню, как он пришел в себя. Неожиданно
повеселев, снова полный энергии, он сказал
мне: «Ну, а теперь пойдем поздороваемся с отцом провинциалом.
Тетя и Антонио могут еще немного помолиться.
А тебя там наверняка угостят лимонадом и печеньем». Но вместе с печеньем мне дали крошечную
рюмку аппетитной ярко-красной наливки, и я подумала,
что с ее сладким вкусом розовых лепестков ничто
не сравнится и что братья, когда я им расскажу, умрут
от зависти; а еще мне подарили «Историю Иосифа»
в картинках — на будущее, когда я научусь читать. Но
еще больше мне нравилось слушать и разглядывать все
вокруг: стол, покрытый плотной скатертью, изобра жения
святых на стене, двух дружески беседующих стариков
— дедушку с матовой желтоватой кожей, неторопливо
поглаживающего свою эспаньолку, и румяного
монаха с пышной седой бородой, которую он время
от времени величественно поправлял обеими руками.
Он сказал мне: «Обязательно приходите с дедушкой
снова, когда суеты будет поменьше, чем в празд ник святого.
Раз тебя зовут так же, как его, и ты женщина, то
у тебя особые обязанности. Есть много мужчин по имени
Антонио, но женщин по имени Антония мало». Мне
это очень польстило.
Все это я, любопытная маленькая девочка, впитала,
как губка, в тот далекий июньский день.
Дедушка умер спустя несколько месяцев. Мы так и
не навестили старого монаха, я так и не узнала, какие
«особые обязанности» есть у женщин по имени Антония.
Но и спустя столько лет я ничего не забыла. До сих
пор для меня огромные купола собора — словно могучие
корабли, величе ственно плывущие, согласно пророчеству,
с Запада на Восток, возвышаясь над городом,
который по сравнению с ними кажется таким маленьким.
До сих пор, когда я вхожу в его огромные двери,
мое сердце трогает аромат благовоний, пение лоретанских
литаний или одно лишь воспоминание о них,
эхо от звука шагов миллионов и миллионов паломников,
которые приходят и уходят, как морские волны,
и о душе каждого заботится великий святой, чье имя я
ношу.
Прошло много лет, но всякий раз, когда я вхожу в это
благоухающее и людное здание, я по-прежнему чувствую себя дома, в теплом гнезде: здесь я не чужая и не
гостья, но путешественница, которая ждет свой поезд.
Когда он придет, я не знаю; знаю только, что пройдет
он здесь, мимо этой станции, где нет чужих и где чье-то
большое сердце готово указать нам путь. Здесь я хо тела
бы закончить свои дни, опустившись на стертую шагами
людей ступеньку: я знаю, что тогда не исчезну в небытии
— меня за руку отведет к свету мой добрый друг
Антоний-португалец, известный всем как Антоний Падуанский,
святой с лилией в руке.