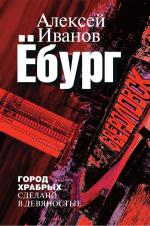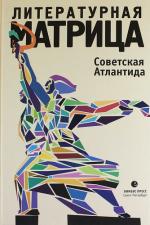- Анна Старобинец. Икарова железа. Книга метаморфоз. — М.: АСТ, 2013. — 254 с.
Имя Анны Старобинец вновь украшает список «Национального бестселлера». На сей раз в поле внимания попал ее сборник рассказов «Икарова железа». Он представляет собой развитие тех образов и мотивов, которые уже стали визитной карточкой писательницы. «Икарова железа» — связующее звено между настоящим и фантастическим миром будущего из романа «Живущий». Это портрет общества, которое могло бы создать Живущего, сущность, обещающую взамен личной свободы общечеловеческое счастье. «Икарова железа» — еще одна антиутопия, предостерегающая о том, что в счастье можно «погрязнуть». Но на сей раз она слишком откровенно намекает на свою реалистичность.
Все семь историй сначала напоминают обыкновенные случаи из жизни. Муж заводит любовницу, влюбленная пара мечтает попасть в прекрасный Сити, ребенок просит купить модный гаджет…Торт из «Азбуки вкуса», эсэмэски от «Билайна» — мир героев Анны Старобинец, кажется, ничем не отличается от привычного нам. Но это только иллюзия. Постепенно описанные сюжеты оказываются страшной фантазией.
Книга открывается историей удаления у одного из героев так называемой икаровой железы. Стоит только заглянуть в социо (привет из будущего мира «Живущего»), чтобы узнать: жизнь без нее гораздо спокойнее. Однако за внешним благополучием скрывается огромная трагедия человеческого духа: люди превращаются в безвольные и равнодушные существа. Похожая ситуация возникает в каждом рассказе сборника: перед нами появляются герои, лишенные икаровой железы, а значит, и возможности делать выбор, любить и мечтать. Не случайно волшебная железа располагается в солнечном сплетении — в «энергетическом центре человека, где формируются его эмоции», по словам уже нашего социо. «Сильнейшие спазмы в районе солнечного сплетения» — привычное чувство для героев Анны Старобинец. Таков закон этого художественного мира: даже если ты сохранил икарову железу, все равно ее тебе удалят.
Герои обязаны подчиниться этому правилу или погибнуть, что в сущности одно и то же. Чтобы город-сказка принял тебя, нужно отказаться от настоящей реальности, а вместе с ней потерять и возможность быть по-настоящему счастливым. Анна Старобинец, подобно писателям-романтикам вроде Гофмана, помещает своих персонажей «под колпак» страшного мира, которым нередко управляют странные существа, больше напоминающие инопланетян, нежели людей. Она ставит над героями эксперимент и смотрит, к чему он приведет, каковы будут их метаморфозы. «Я словно нахожусь в кукольном театре, — писал гетевский Вертер, — смотрю, как движутся передо мной человечки и лошадки, и часто думаю: не оптический ли это обман? Я тоже играю на этом театре, вернее, мною играют как марионеткой, порой хватаю соседа за деревянную руку и отшатываюсь в ужасе». Эти слова могли бы стать эпиграфом не только к рассказу «Споки», герои которого в прямом смысле превращаются в кукол, но и ко всему сборнику.
Насекомое — другой вариант превращения. Мухи, муравьи, мошки, личинки оказываются обязательным атрибутом мира-иллюзии. Из-за того что их слишком много, возникает неприятное ощущение: «И зудит вся кожа. Через порванную москитную сетку пролезают полупрозрачные мошки. Насосавшись крови, они становятся темно-багровыми. Если их убиваешь, они лопаются как волчьи ягоды».
Для того чтобы вызвать отвращение ко всему, что происходит в мире ее героев, Анна Старобинец не брезгует и разными физиологическими подробностями, будь то покатившийся деревянный протез ноги или выпавший зуб, вставленный обратно. Пожалуй, с этой точки зрения одним из самых сильных и, надо признаться, страшных текстов является рассказ «Паразит» — мастерский обман читательского ожидания. Беззащитная бабочка с хрупкими прозрачными крыльями превращается в «гигантского слепня», «в глубине хоботка» которого виднеются «тонкие черные иглы». Его желание — «взять кровь и насытиться». В этой книге нет веры в добрый исход. Автор оставляет читателей наедине с героями в самый драматичный момент. Что произойдет дальше? Кажется, что-то настолько ужасное, что лучше об этом умолчать.
«Икарова железа» — это кривое зеркало, отражающее нашу жизнь. На обложке связанный Икар с плавящимися крыльями являет свою вторую сущность — насекомое, не способное долететь до Солнца. Подзаголовок этого сборника — «Книга метаморфоз». Анна Старобинец, подобно римлянину Овидию, описывает небывалые превращения человека, обнажающие его трагическую сущность. Этот сборник — отличная возможность заглянуть внутрь себя и убедиться, что там, глубоко, не поселилась какая-нибудь муха или даже целый рой.
Рубрика: Рецензии
Сердца, пронзенные стрелой
- Марк Вейцман. Обычная драка. — М: Самокат, 2014. — 80 с.
В поэтической серии издательства «Самокат» вышла книга Марка Вейцмана «Обычная драка». Соседи Вейцмана по серии: Александр Тимофеевский, Олег Григорьев, Михаил Грозовский, Татьяна Стамова и другие большие поэты, по разным причинам — время ли, репертуар или образ жизни, — не вошедшие в традиционный диапазон Барто-Маршак-Михалков. И произведения их не «заслуженные», не затверженные, не затасканные по школьным хрестоматиям. Хотя многие из этих строк известны всем и без упоминания автора.
Так вышло и со стихотворением Вейцмана «Спросите меня, отвечать я хочу!» — титульном в этом сборнике. В нем есть намек, код и ключ ко всей детской поэзии автора — здесь и школьная тематика, и пронзительное авторское «я», и умение неожиданно, головокружительно поменять сюжетную горизонталь на поэтическую вертикаль.
Только Вейцман может сквозь дроби, задачки, шпаргалки, ошибки и переменки (он хорошо знаком со школьным материалом — десять лет проработал учителем физики) вырваться в любовь, боль и во взрослый выбор. Только он рассказывает: «Мы красим парты. С непривычки уже слегка болит спина», а уже через четверостишие заканчивает тем, что «нет любви, и нет печали… как можно быстро все стереть!». Только он может начать стихи о прогуле урока со слов: «Я знал, что не имею права на этот влажный ветерок…» Это его фирменный переход из детского, пустого, школьного быта в огромные взрослые чувства, в «какую-то взрослую тайну».
Здесь и горечь («Девчонка качнулась и вышла в упор, прогнулась и сделала „стойку“. Я думал, что правильно жил до сих пор, а жил я на слабую тройку».), и первая, еще непроизносимая любовь («Я стоял на воротах и взял столько „мертвых“ мячей, прыгал с крыши, ходил на руках — хоть бы раз поглядела! Ведь я видел, я глазом косил на нее, а зачем? Ну какое мне дело?»).
Из каждого весеннего двора, футбольного поля, класса Вейцман забирается на такую верхотуру, с которой авторское «я» уже кажется читательским, где все едино: общее счастье, общее горе. Где страх клена и березы уже становится просто Страхом — твоим: «Лесники прореживают лес, лишние деревья убирают. Лишние деревья умирают, чтоб расти нелишним до небес».
Вся поэтическая серия «Самоката» оформлена в едином стиле: необычный узкий формат, серая бумага, спешащие — чернильные, небрежные — карандашные, случайные — коллажные, в общем, «несерьезные» иллюстрации… Эти стихотворные сборники больше всего похожи на чьи-то записные книжки. Те самые, в которых и водятся настоящие живые стихи, уязвимые настолько, что их непременно хочется выучить наизусть, сохранить, запомнить.
Лучше вы к нам!
- Алексей Иванов. Ёбург. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 573 с.
«Ёбург» — это шестисотстраничная летопись одного областного центра. «Декамерон» по-уральски. Книга с «говорящим» названием: каждая страница вслед за обложкой кричит читателю «Ё! Йоу!» Разве что «чувак» не добавляет.
Язык Алексея Иванова умело мимикрирует и под речь четырнадцатилетнего подростка с «Уралмаша», и под тексты репортажей Телевизионного Агентства Урала, и под слова научного сотрудника Уральского федерального университета. Иванов освоил мастерство конвергенции на высшем уровне: его книгу станут читать все, везде и всегда — от мала до велика, от южных морей до полярного края, от заката до рассвета.
Несмотря на нон-фикшн-ориентацию, по событийной насыщенности «Ёбург» мало чем отличается от фикциональных произведений Иванова — будь то вездесущий «Географ глобус пропил» или роман «Золото бунта». Мы имеем дело с документальной прозой, написанной не просто историком, антропологом и архивным работником, но художником.
«Уралоцентризм» и «екатеринбургоцентризм» неизбежны после прочтения этой книги. Оказывается, что жизнь — она не только в Москве и Петербурге. Она там, где есть благоприятная политическая и культурная среда, в городах, которые сами строят свою судьбу, у которых есть свое лицо. В масштабной перспективе «Ёбург» позволяет осмыслять и переосмыслять жизнь регионов, отвлекает внимание от привычных «столичных» стереотипов. Это не только учебник по истории, но и по политической и культурной географии. «Ёбург» — это сочинение о любви к родине.
Здесь, как и в книге для школьников, некоторые абзацы отчеркнуты: не хватает разве что восклицательного знака и подписи на полях «Это важно!». Правда, что и почему важно — неясно: то ли Иванов жаждет заключить в рамку бытие новомодного Екатеринбурга, то ли стремится продемонстрировать действительность — невольный «взгляд в будущее», который не нарушает логику повествования. Как и любому настоящем учебнику (особенно многопрофильному и многофункциональному), этой книге приходится подчинять самое себя определенной концепции, основанной на авторском взгляде на историю, на его толковании произошедших (и происходящих) событий. Но порой — в зависимости от бэкграунда читателя — видны торчащие из этой концепции «уши». Иванов настойчиво притягивает за них свою стройную концепцию: «Ёбург как переходный возраст города Свердловска-Екатеринбурга».
Так, в главе «Обгорелые жирафы» Иванов пишет об уличной художественной среде и о трех ее героях: о «панке-скоморохе» Старике Букашкине, о герое улиц Спартаке и о нынешнем лауреате премии Сергея Курехина Тимофее Раде. Заявленный в заглавии герой-Спартак удостаивается лишь одного абзаца, а все остальное внимание уделено Букашкину и Раде. Но их истории не до конца встраиваются в замысел автора: например, о политнаправленных акциях стрит-артиста Ради Иванов вообще предпочитает молчать; по-видимому, аполитичность и политизированность совсем сложно подвести под общий знаменатель: добрые клоуны оказались бы противопоставлены отчаянным самураям. И если эти герои так разительно отличаются, то насколько выдержаны остальные сравнения? Многое в книге Иванова так ладно складывается и прикладывается друг к другу, что скептическое стремление усомниться не проходит.
Впрочем, несмотря на шаткость каких-то элементов этой конструкции, все же в основной своей массе она вызывает доверие (в том числе благодаря громадному таланту убеждения Алексея Иванова и подкупающей простоте его стиля). Доверие основывается и на внелитературных факторах. На своем сайте Иванов пишет: «Дополнения или замечания по темам, заявленным в новеллах „Ёбурга“, автор просит присылать ему на сайт (ivanproduction.ru) для уточнения текста в следующих изданиях».
Вокруг высотки под названием «Ёбург» до сих пор стоят леса. Писатель оставляет за собой право менять историю. Все-таки Иванов — историк, и он наверняка знает, по каким законам создаются летописи. Эта книга не только о Ёбурге, его предшественнике Свердловске и преемнике Екатеринбурге; эта книга — шире — об Урале; эта книга — сам Урал.
Знаете, как там говорят? 100 % Урал.
100 % Ёбург.
Королевский блюз
- Кристиан Крахт. Карта мира. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 256 с.
Книга эта — сборник эссе о путешествиях в довольно-таки неожиданные места: Монголию, Чернобыль, Джибути, Египет, Парагвай, Камбоджу и так далее. Именно эссе, а не путевых заметок. Исторические справки, характерные сценки, местный колорит, беседы с людьми или журналистские зарисовки — вроде все как у всех, — но, правду сказать, очень странная получилась книга. Потому что очень странный у нее автор, этот Кристиан Крахт.
Первое, что о нем говорят — Крахт очень не беден, ему 48, он сын управляющего мультимедийной компании «Аксель Шпрингер». Получил прекрасное образование, стал журналистом, много путешествовал. Автор четырех скандальных романов и множества эссе. Молва считает его эстетом, надменным снобом, а после романа «Империя» — чуть ли не правым расистом. Вынесенные в подзаголовки и заголовки цитаты из немногочисленных интервью рисуют нам не слишком привлекательный образ человека, прикрывающего иронией неизбывную скуку. На самом же деле, скорее всего, мы о Кристиане Крахте не знаем почти ничего. В отличие от прочих «гламурных эссеистов» и «интеллектуальных спекулянтов» (пишу в кавычках, так как определения нелестные, а значит — почти ни для кого не справедливые) Крахт абсолютно не стремится показывать самого себя и потреблять. Он умен, утончен — так утончен, что я порой перестаю понимать, о чем это он и зачем ему это, — слегка ироничен или даже, скорее, улыбчив; это уже не ирония, это ее вторая производная, беглый солнечный зайчик, усмешка. Так иногда в разговоре с малознакомым собеседником вдруг ощущаешь легкий привкус бреда, безумия, но вглядываешься пристальней — и говоришь себе: да нет же, это совершенно нормальный, обыкновенный человек, и с чего бы это я такое о нем подумал.
От путевых заметок Крахта создается ровно такое же ощущение. Читаешь с вежливым интересом, без потрясений, о чудовищно длинных иглах дерева в заброшенном Чернобыле, о том, как в Монголии автор стремится попробовать сурка — разносчика чумы, и как в Джибути задает неприличные вопросы женщине-сотруднице военно-морского флота, и рассуждения о бакинской нефти, и как ему категорически не понравился Сингапур. Читаешь, читаешь, и вдруг… легкое головокружение… и среди светской болтовни вперемешку с лирическими наблюдениями (как бы пропущенная глава из современного «Евгения Онегина»: им овладело беспокойство, охота к перемене мест, — и вот куда он отправился) вдруг возникает томительное или жестокое чувство, намек на что-то такое, чему в тексте места не нашлось. Я тоже не знаю, как это назвать. Заголовок последнего эссе — «Королевская грусть», но это опять недомолвки, — нет, это не просто грусть, это блюз, страсть, жаркий ветер какой-то. Вот на секундочку, ровно на одну секундочку этим жарким ветром повеет — и опять: бренды, имена, сценки, немного философии. Читать стоит: интересно, что скажете вы.
Двадцать с лишним лет под водой
- Литературная матрица: Советская Атлантида. — СПб.: Лимбус Пресс, Издательство К. Тублина, 2014. — 528 с.
То, что дети девяностых уже не помнят советскую классику, вранье. Летом, чуть менее двадцати лет назад, я лихо рубила крапиву и «обстреливала» белых — дачников, идущих с вечерней электрички. Я была, конечно же, Валеркой, самым умным из четверки неуловимых. Под ногами вечно крутились знакомые Даньки и Ксанки, которых приводили на участок, чтобы «Валерка» не скучал в одиночестве.
Словом, ранние годы моих соотечественников вплоть до начала нулевых проходили так, как рассказывает Илья Бояшов в эссе о мало кому известном советском писателе Артеме Веселом: «Что еще окружало нас с детства? Растиражированная история о закалке стали, „Судьба барабанщика“… Бабочкин на жеребце (полы бурки вьются на ветру, глаза бешеные)… несгибаемый советский разведчик-куплетист Буба Касторский, и конечно же, враги — сукины дети каппелевцы…»
А как благородно вскипала кровь, когда при тебе на страницах расстреливали из пушек Мальчиша-Кибальчиша и бросали камнями в Альку?! Написал в 1930-х Аркадий Гайдар недетские сказки, а переживаний уже почти на целый век набралось. Кто уж тут поспорит, что красного командира не стоит записывать в классики. Вот и Михаил Елизаров тер глаза, когда ему шестилетнему читали эпизод о гибели Мальчиша-Кибальчиша: «Я плакал, но слезы уже не казались липкими, как насморк. Это были торжественные горючие слезы, честные, словно авиационный бензин. Такими слезами можно заправить самолет, подняться в воздух и упасть на колонну вражеских танков».
Из таких взъерошенных воспоминаний состоит новый том «Литературной матрицы» с подзаголовком «Советская Атлантида». Двадцать три современных писателя рассказывают, как в 12-13 лет уже знали, что такое гены и какова глубина Марианской впадины – а все благодаря братьям Стругацким и Александру Беляеву.
Во вступительной статье сразу заявлено, что книга об этой эпохе — предприятие отчаянное. Приверженцу соцреализма тут же напомнят о цензуре, идеологии, произведениях на заказ, а «вишенкой на торт приведут цитату из Набокова: „Советская литература — мещанская литература“. Набокова трогать опасно — кто Набокова обидит, трех дней не проживет». Однако составители сборника Павел Крусанов и Вадим Левенталь осмелились перекопать парк Советского периода, погрузиться на самое дно забвения и вытянуть оттуда недавних живых легенд, представив на суд публике: «Смотрите, ничего еще».
Черкая карандашом, отмечаю важное: вдруг завтра потребуют пересказ параграфа. В хорошем смысле это и правда учебник. Не только по литературе, но и по истории, этике, культуре родной речи. Читается он легко, может, оттого что обладает омолаживающим эффектом и возвращает обратно в школу, в которой дамокловым мечом еще не нависают вопросы к ЕГЭ.
Каждая статья здесь обстоятельна, самостоятельна и тянет на добротную выжимку из ЖЗЛ. Двадцать шесть судеб писателей не только описаны досконально, но и отмечены личной авторской любовью. Захар Прилепин с гордостью ученика-потомка рассказывает о жизни Леонида Леонова, Герман Садулаев сопереживает трудностям, выпавшим на долю Николая Островского. Резкие вопросы тут тоже поставлены ребром. Действительно ли Аркадий Гайдар был жестоким кровопийцей, а Константин Симонов так и не смог создать прозаическое произведение, равное по силе его стихам? Однако авторы отвечают на них максимально корректно, без злорадного перемывания костей. Здесь все в одной лодке, ценят друг друга и знают силу слова. По страницам нового учебника шагают Булат Окуджава, Евгений Шварц, Александр Фадеев и Илья Эренбург, о которых после поднятия Атлантиды со дна снова заговорили.
В детстве у меня была затрепанная книжка, с обложки которой большими серыми глазами смотрел мальчик. У него были по-птичьи острые черты лица, а на шее алел галстук. Мальчика звали Тимур – и он был моей первой любовью. Говорят, она самая сильная. На ВДНХ матово поблескивают обновленные «Рабочий и колхозница». Страна советов продолжает существовать в воспоминаниях, не дает забыть о себе шедеврами конструктивизма. Ее певцы, пережившие двадцать лет забвения, возвращаются на книжные полки и в программу по литературе. Современным школьникам нелишне будет узнать, как закалялась сталь.
Александр Попов. Дневник директора школы
- Александр Попов. Дневник директора школы. — Челябинск: Издательство Игоря Розина, 2013. — 216 с.
Утром завхоз прямо с порога:
— Директор, деньги давай на аборт.
— Ты от кого так сумела ловко?
— Не я это, не я, Рая забеременела. Ей третьего не потянуть.
— А я тут причем?
— Не доглядел, вот и плати.Дневник, по моему личному убеждению, — жанр, далекий от интимности. Это не двойник тонкой поэтической души, ускользающий от постороннего взгляда. Даже записная книжка писателя, технический материал, «расходник» в процессе создания художественных текстов, имеет самостоятельное и целостное прочтение — достаточно освободиться от предвзятого отношения к фрагментарному письму и признать за литературой право на «броуновское» повествование, «диффузия» которого должна как-то вы(c)читываться. Соответственно, если автор берется вести дневник, он пишет прозу, в которой читатель не игнорируется. Такую литературу нужно читать, заглядывая через плечо, стараясь неловким движением не нарушить атмосферу писательской кельи — читать, соответствуя бликам свечи.
Однако «Дневник директора школы» даже при такой расширительной трактовке жанра — никак не дневник. Здесь много неосторожных мыслей вслух, внутренних противоречий и даже откровенных истерик, которые позволены мужчине только «под душем и в дождь». Соблюдение некоторых содержательных характеристик исповедального дискурса не организует текст воедино. Достаточно открыть книгу на первой странице, где указаны выходные данные, — автор закончил текст дважды: в 2005 году (учебный 2004/2005 год — заявленное время ведения «Дневника) и в 2013-м, когда, видимо, «Дневник» дополнялся и правился для типографии. Дневники против редактуры, против вторичного вмешательства — это одно из главных условий жанра!
Таким образом, перед нами литературный «автопортрет» директора физико-математического лицея № 31 А.Е. Попова, динозавра педагогики, выживающего в ледниковый для системы образования период.
— Вот видишь, как вам всем хорошо. Вставай на руки.
— Зачем?
— Отжиматься будешь. Давай раз пятнадцать.
Он молча отжался пятнадцать раз.
— Вспомнил формулу?
— Нет.
— Давай еще раз двадцать.
Он с трудом отжался. Мой ботинок находился рядом с его лицом.
— Не вспомнишь — пну.Автопортрет, безусловно, укорененный в культурной традиции. Заглавие книги отсылает нас к одноименному фильму Бориса Фрумина 1975 года, в котором герой Олега Борисова, директор Борис Свешников, в одиночку донкихотствует за честь собственной школы, встает против закоренелого традиционализма завуча, в полный голос критикует проект «всеобщего образования» (который не учитывает индивидуальных особенностей учеников), при этом почти забывая о семье. Тот директор смотрит сквозь пальцы, как его собственный сын бросает институт и приводит в дом невесту. Ко всему прочему, Свешников — фронтовик, выпускник Литинститута, нашедший себя в работе с детьми. Аллюзия не случайна. Попов во многом повторяет судьбу своего кинопрототипа. Только конфликты внутри коллектива жестче, критика «начальников» — злее. А вместо патриотизма взглядов и романтизации образа бойца за Родину — армейские методы работы с подопечными и вечная оборона школы от чиновничьего захвата.
Особенности характера, личные приоритеты, профессиональные ориентиры автора «Дневника» также раскрываются с помощью чужих имен. Попов ерничает, как это умел Диоген или Гашек, вдохновляется педагогической «поэмой» Макаренко, философствует в духе Хемингуэя. Он пуленепробиваем как Бисмарк и идет напролом подобно Суворову. Где же физика души самого хранителя «Дневника»?!
На пеньке возвышались две открытые, но еще не тронутые бутылки красного крепленого. В голове промелькнули две крайние ситуации. Совместное распитие или конфискация? Обе не годились: одна другой хуже.
— Сколько мне по рангу положено?
— А что осилите, все ваше.
Вылил в себя одну за другой — не отравился. Пока пил, видел недоуменные перегляды. Ни слова не говоря, составил посуду на пенек, поблагодарил и ушел.Он «смазал карту будня», плеснувши краски Врубеля и Параджанова из граненого стакана. Временами внутренний монолог автора, разбитый на даты и дни недели, напоминает сборник анекдотов в духе Довлатова, отрешенный пересказ каждодневных рутинных подвигов, поиск человеческой правды в ресторанах, в зале затянувшегося заседания, в одиночестве. Однако Попов не пишет «Соло за партой». Если довлатовский сторонний наблюдатель становится литературным типом, последним героем своего времени, «лишним» повествователем, существующим сугубо по художественным законам, то автор «Дневника» не довольствуется литературной парадигмой — его высказывания наполнены публицистической полемикой. Суть книги — безжалостная критика разлагающегося общества. Это «Сатирикон», поставленный на сцене школьного театра вместо ожидаемого праздничного концерта ко Дню учителя.
Вчера договорился с секретаршей начальника, чтобы она пришла пораньше. Взял такси, заехал в супермаркет, купил ящик хорошей водки: начальство травить суррогатом не стоит. Затащил это дело в приемную, отпечатал бутылки одну за другой, а секретарша залила в емкость от «Люкс Воды». Поначалу хихикала и вдруг одумываться начала. Пришлось успокоить. Тару забрал и удалился восвояси незамеченным. Пусть пьют — веселие всем необходимо.
Из отдельных сюжетно бессвязных реплик видно, как вместо городских бань вырастают офисы, из зданий детских садов — налоговые службы. Жадность местных чиновников не знает границ. Их непомерную любовь к себе Попов метко называет «нетрадиционной сексуальной ориентацией». Современная структура образования с легкостью позволяет разрушить педагогические традиции, учителя — посадить в долговую яму, школу — взорвать. Случай в Северной Осетии отнял 1 сентября, но не доказал необходимость замены ветхой проводки в челябинском лицее. Сколько Освенцимов — столько и Адорно.
Такое публичное высказывание рвет дневник на части. Гласность — вот определяющий повествовательный модус данного текста. Она, заложенная внутри этого дневникового «сериала» о жизни школы, кажется, реализуется уже в непосредственной профессиональной деятельности директора Попова. Как следует из одной из записей «Дневника», правда о школьниках и учителях не вписалась в контент программы «Очевидное — невероятное», но, вероятно, была очевидна для бомжа, еще одного случайного героя книги. Куда смотрит «Первый канал», мы знаем. Куда только смотрит Гай Германика?!
Обитель особого назначения
- Захар Прилепин. Обитель. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 746 с.
«Непрерывный и исключительный труд при наилучших условиях жизни», по известным словам Льва Толстого, позволил ему воссоздать целую эпоху и передать опыт тысяч людей, которых он никогда не знал. У Захара Прилепина в деревне под Нижним Новгородом, похоже, намечается что-то вроде Ясной Поляны. Представьте, что скрестили рецензента приличного книжного сайта и желтушного корреспондента известного телеканала: примостился гомункул на веточке напротив дома, навел на автора зум: как он там живет-поживает? Что кушает, чем запивает, да много ли душ? Потом в телевизоре, конечно, шок и сенсация.
Нет, серьезно. Похоже, что прозаик Прилепин вступил в славную пору человеческого и творческого расцвета и написал действительно Большой Текст, каких не было… не будем говорить сколько времени, чтобы не обидеть коллег Прилепина. Не хочется и никому говорить приятное: роман «Обитель» тяжелый, страшный и плотный почти до окаменелости, его надо не читать, а пережевывать могучими, привычными к сырому мясу неандертальскими жвалами. У нас они с божьей помощью давно атрофировались на легкоусвояемых, не содержащих почти ничего десертах — текстах многих современных авторов.
События в романе Захара Прилепина «Обитель» происходят в первом советском концентрационном лагере на Соловецких островах. На основе богатого, долго и тщательно изучаемого автором историко-документального материала выстроен сюжет, в основе которого любовная линия заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины Кучеренко. Композиция закольцована: начинается и заканчивается роман сценой сбора ягод в лесу привилегированной освобожденной от общих работ «ягодной» бригадой.
Сам автор называет изображенный им Соловецкий лагерь особого назначения «последним аккордом Серебряного века». На фоне величественной природы на берегу Белого моря на соседних нарах обитают озверевшие от водки и кокаина чекисты, и блатные, на протяжении семисот страниц пытающиеся убить главного героя за то, что не поделился материной посылкой, и «фитили», собирающие помои у кухни, и «леопарды» — опустившиеся воры, по мужской надобности использующие кота (надо засунуть его головой вниз в сапог). И поэты, ученые, просто мальчики из интеллигентных петербургских семей, говорящие на нескольких европейских языках.
А разве у Евгении Гинзбург не то же?.. Не так же ли белы ночи на Колыме, как на Соловках, не столь же величественен пейзаж штрафной эльгенской командировки? Разве описанные ею зеки не помнят наизусть тысячи стихов, знают несколько языков и остаются людьми после всего, что с ними сделали?
Все так же. Аккорд этот звенит весь ХХ век как звук лопнувшего дрына — палки, которую взводный сломал о заключенного, выгоняя того на работу.
Мог ли Прилепин писать о лагерной жизни, не проверив ее тяготы опытным путем? Как Толстой описывал умирание Николая Левина, сам не будучи при смерти? Вот про замедление времени вокруг шипящей гранаты — сколько угодно; и Прилепин, как известно, воевал и в разных интервью любит говорить, что бегать с автоматом совсем не так страшно, как думают не воевавшие мужчины. В этом нет ни капли рисовки, и я уверен, что лично ему, человеку Захару Прилепину, было далеко не так страшно, как получилось потом у писателя в «Патологиях».Рассказывать, понятное дело, можно обо всем, но есть темы, которые в случае неудачи автора могут сжечь талант. Известны слова Маяковского, что Блок «надорвался», работая над поэмой «12». И Горький, с которым раньше любили сравнивать Прилепина, не после книжки ли о Соловках окончательно умер как художник?
Автор «Обители» нацелился взять серьезный вес да еще и поставил рядом с собой своего читателя: смотри, не удастся — задавит обоих. Но Прилепин взял этот вес и написал большой исторический роман, который и станет явлением современной литературы, и с полным правом продолжит традицию «лагерной» русской прозы ХХ века.
«Обитель» тяжело читать еще потому, что постоянно пытаешься сравнить воссозданное автором состояние лагерников с тем, что описывали перенесшие это на себе. Дело вовсе не в «традиции», о традиции при желании можно забыть, а вот внутренность твоя, единственная и родная, постоянно с тобой. Центром и смыслом существования становится еда. Когда перечитываешь «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, начинаешь есть гораздо больше, чем обычно, запасаешься и жиреешь впрок, чтоб не дай бог. Причем не хватаешь и не глотаешь, а медленно и с чувством, как полагается, рассасываешь, растворяешь в себе каждую мясную жилку, хлебную крошку, разбухшую черную родинку-чаинку.
То же и с «Обителью»: я дочитывал роман в прекрасный субботний солнечный день, в живописном уголке Кусковского парка в Москве, на берегу пруда, на фоне шереметьевского усадебного барокко… Над водой легко летали чайки, и я удивлялся: почему это соловецкие лагерники в романе так рады уничтожению каждой из этих отвратительных тварей… Вполне милые птицы… И на очередной сцене с растворением еды в человеке и человека в еде я вдруг почувствовал, что больше не могу. Я поверил. Это очень страшно — остаться без еды еще хоть на полчаса.
Я быстро пошел домой, жрать — минуту назад здоровый, сытый и спокойный человек.
У Чехова, говорите, в русской литературе интереснее всех про еду? У Шаламова, на мой вкус, лучше.
Читая «Обитель», я сначала заносил в отдельный файлик все замеченные мной фирменные прилепинские «фишки», рифмовки, любовные сувениры из стреляных гильз, но быстро убедился, что это дело бесполезное. Текст очень «плотный», и на страницу повествования приходится один-два сильных образа.
В монастырском дворе при лагере живут олень Мишка и собака Блэк, которых постоянно чем-нибудь угощают. Но у героя нет ничего с собой, и он просто чешет собаку за ухом. «Олень Мишка выжидательно стоял рядом: тут только чешут или могут угостить сахарком?»
(Бык в «Анне Карениной», который «хотел встать, но раздумал и только пыхнул два раза, когда проходили мимо».)«Из двух полубогов можно сделать одного бога. Ленин и Троцкий — раз, и готово».
«Диковато было подмигивать одноглазому».
С ужасающей напряженностью, на которую не решился бы, пожалуй, и Михаил Елизаров, написана сцена молитвенного исповедального делирия в церкви на Секирной горе — карцере для смертников, ждущих расстрела. Его возвещает звон колокольчика в руке чекиста, даром что над головой колокол настоящий, который больше ни по ком не звонит:
Пьянство непотребное. Здесь. Курение дыма. Здесь. Чревобесие. Здесь. Грабеж и воровство. Здесь. Хищение и казнокрадство. Здесь. Мздоимство и плутовство. Здесь.
Всякий стремился быть громче и слышнее другого, кто-то разодрал в кровь лоб и щеки, кто-то бился головой об пол, выбивая прочь свою несусветную подлость и ненасытный свербящий звон. Кто-то полз на животе к священникам, втирая себя в пыль и прах.
Небрежение Божьими дарами: жизнью, плотью, разумом, совестью. Так, и снова так, и опять так, и еще раз так — икал Артем, сдерживая смех.Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки… и даже гады были кривы и уродливы: попадались лягушки на одной ноге, прыгающие косо и падающие об живот, глисты с неморгающим птичьим глазком на хвосте, сороконожки, одной половиной ползущие вперёд, а другой назад, ящерки с мокрой мишурой выпущенных кишок, и на каждой кишке, вцепившись всеми лапками, обильно сидели гнус и гнида…
Я нарочно не касаюсь героев. Их десятки, они расставлены в пространстве романа с непреклонной шахматной гармонией: каждая судьба четко прочерчена, все друг с другом пересекаются, никто не будет забыт, все, конечно, умрут. Взять хоть блатных Ксиву и Шафербекова, которые хотят убить главного героя Артема Горяинова. Он сам, подхваченный небывалым везением, вознесенный в ранг начальственного слуги и оказавшийся почти в безопасности, периодически забывает о блатарях. Я о них не всегда помнил, да и автор, наверное, пару раз запамятовал, но Ксива и Шафербеков ни разу не забыли свои роли. Они ведь живые, тоже какие-никакие, а люди.
Отдельного разговора требуют фигуры Федора Эйхманиса, практического основоположника системы советских концлагерей, и других известных чекистов, выведенных в романе. Священники и монахи, ставшие зеками в собственном монастыре — в какой рецензии коснешься этой темы?
Наконец, в «Обители» много комического, и эротического, и авантюрно-приключенческого. После цитаты с гнусом и гнидой, после чекистского колокольчика трудно поверить, что в романе Прилепина борются со штормом двое влюбленных на катере, чекистка раздевает и трогает зека, «словно обыскивая его», а в лисьем питомнике за новорожденными лисятами следят с помощью системы прослушек, установленных в каждой норе. «Лисофон» называется.
Захару Прилепину выпал большой фарт — написать такой роман. Теперь можно и перекантоваться.
Искусство слушателя
- Дмитрий Бавильский. До востребования. Беседы с современными композиторами. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 792 с.
После книги Элмера Шёнбергера «Искусство жечь порох» у нас еще не выходило такого подробного и полезного сборника о современной музыке, как «До востребования» Дмитрия Бавильского. Полезного не в том смысле, что много можно извлечь оттуда сведений (хотя, да, можно, и много), а в том, что когда читаешь, хочется лезть в интернет и слушать. Или даже ходить на концерты.
Бавильский взял интервью у современных российских композиторов, поговорил с ними и об их собственных сочинениях, и о контексте, и о старых мастерах, и об учителях. Автор изначально и сознательно занимал позицию заинтересованного любителя — смотрел на вещи не изнутри, знал гораздо меньше своих собеседников. Ему приходилось, преодолевая себя, задавать вопросы, которые, как он знал, могли бы показаться композиторам глупыми, банальными и прочее — но ведь это те самые вопросы, которые мог бы задать о современной музыке его читатель. При этом Бавильский не остается в роли профана, он слушает, развивается, изучает контексты, делает выводы. Поэтому разговор и получается интересный, поэтому и эффект такой — читателю тоже хочется пройти этот путь. Никаких предисловий, сразу о деле весьма таинственном: кто знает, что такое музыка сейчас?
Во-первых, мало кому известно, что происходит в актуальной «серьезной» музыке. Сложилась уникальная ситуация: музыка осталась наедине с собой — и вздохнула с облегчением. Она не пытается нравиться широкому кругу, а решает свои задачи. Впрочем, оставаясь при этом музыкой для слушателя, но только добровольного, готового сделать шаг навстречу. Сделавший этот шаг будет вознагражден новыми наслаждениями, это я говорю как человек, недавно открывший для себя, например, Галину Уствольскую, о которой Бавильский поговорил с молодым композитором Георгием Дороховым — перед самой его смертью.
Но неожиданно (во-вторых) оказывается, что все это касается не только музыки современной. Бавильский и его собеседники говорят и о способах восприятия, о том, как играют и слушают музыку прошлого: тот ли самый у нас Бах, что был во времена Баха? Что нам дал Чайковский, что в нем становится слышно, когда слушаешь его в ином контексте? Выясняется, что композиторы, как и мы, предаются в качестве слушателей разным музыкальным порокам и добродетелям. В чем-то их слушание отличается от нашего; в чем-то оно характерно, современно. Но они способны обдумать свое восприятие, и мы можем думать вместе с ними, менять свою точку слушания, заходить в музыку с непривычной для нас стороны.
Вообще говоря, искусство слушания — первое дело для писателя нашего времени. И читать эти интервью приятно уже потому, что вопрошающий умеет слушать и чувствовать не только музыку, но и слова — интонации, эмоции, иронию, печаль. Даже если вы совсем не интересуетесь музыкой, «До востребования» можно рассматривать и просто как сборник бесед; все равно будет интересно. И это тоже возможный источник наслаждения. А открыл нам его не кто иной, как Дмитрий Бавильский. Большое спасибо.
В пику традициям
- Мервин Пик. Цикл романов о замке Горменгаст. — М.: Гаятри/Livebook. — 2014.
Серия романов английского писателя и художника Мервина Пика о замке Горменгаст, созданная в середине двадцатого века, малоизвестна сейчас не только в России, но и в мире, несмотря на ряд театральных и радиопостановок, один мини-сериал от BBC и премию английского Королевского литературного общества. Сразу после публикации трилогия была признана великим произведением. Ее относили то к готическому роману, то к фэнтези, ей восторгались многие, но это были в основном литературные критики и филологи.
«Горменгаст» среди широкой аудитории так и не получил признания, каким обладает, например, «Властелин колец» (хотя эти книги созданы в одно время) или «Гарри Поттер». Сейчас о трилогии говорят либо как о вехе в истории фэнтези (и то с оговорками), либо как об образце необычной прозы, почитаемой «новыми странными», такими как писатель-фантаст Чайна Мьевилль.
Для того чтобы создать свою историю, Пик смешал традиции романа классической готики, как у основателей этого жанра Анны Радклиф или Горация Уолпола, с их описаниями ветхого, но все еще темного и опасного Средневековья, с дворцовыми интригами произведений эпохи Регентства, добавил элементы романа-воспитания и темного фэнтези — пусть без магии (в произведении нет ни одного волшебника, файербола или пророчества), но с древними ритуалами, циклопическими пространствами и бесконечной фантасмагорией.
Пользуясь гротеском в духе Джонатана Свифта, переходящим почти в абсурд, который внезапно становится жестоким реализмом, Пик превращает взаимодействие героев друг с другом в понятную человеческую драму. Кажется, автор придерживается традиций только для того, чтобы их нарушать. Все, кого мы видим — от нянюшки Шлакк до старшего лорда Гроана, — обладают набором разнообразных утрированных черт, постоянно отражающихся не только на внешности или на поведении, но и в речи. Диалоги и монологи персонажей порой заставляют вспоминать кэрролловскую «Алису в Стране чудес».
Проиллюстрировав произведения Кэрролла, братьев Гримм, Стивенсона, творчество которого оказало большое влияние на прозу писателя, Пик, конечно, и цикл о Горменгасте не оставил без изображений. Зарисовки сцен, портреты героев — некоторые закончены, некоторые в эскизах — сердобольно отсканированы и размещены в тексте. Кое-где пропечатался и фон — тетрадный лист в линейку, придающий иллюстрациям оригинальность и реалистичность. Лишив читателей возможности вообразить, как выглядел тот или иной персонаж, Мервин Пик с эгоистичностью художника взял на себя ответственность за создание вселенной Горменгаста целиком.
«Он проходил по заброшенным пустым дворам, вымощенным каменными плитами, между которыми, пробившись в щели, росли сорняки и трава. Он проходил там, где темные коридоры, в которые никогда не заглядывало солнце, неожиданно выводили на террасы, с которых открывался вид на раскинувшиеся кругом романтические руины, где царствовали крысы».
В Горменгасте в неизвестные века (время в этой вселенной не соответствует нашему) живут Гроаны, правители какой-то странной, малоисследованной даже ими территории. Каждый день обитателей замка расписан по минутам, однако занимаются они не только делами государственной важности, но и совершением множества ритуалов, например, бросанием жемчужин в ров возле замка или поливанием строго определенных камней в галерее вином. Смысл этих обычаев давно утерян.
Гроаны гордятся своим родом, но каждый из них понимает, что за историю и власть нужно расплачиваться личной свободой. Сепулькгравий Гроан, отец семейства, погружен в бесконечную меланхолию и больше всего на свете любит отдыхать в своей библиотеке, мать Гертруда научилась забываться в обществе птиц и животных, с которыми она легко находила общий язык, а старшая дочь Фуксия живет в собственном маленьком мирке, населенном друзьями, которых у нее на самом деле никогда не было. И только Титус Гроан, единственный сын и наследник, решился на открытый бунт и покинул замок, отказавшись от правления.
Главный конфликт книги основывается на необходимости выбора героев в пользу личности или рода, свободы или ответственности. На долю Гроанов выпадают и другие испытания — их власть над Горменгастом находится под угрозой: кухонный мальчишка, хитроумный бунтарь, Стирпайк во что бы то ни стало решил завладеть замком. Задумав четыре книги, Мервин Пик успел закончить лишь три из них.
В первом томе трилогии «Титус Гроан» автор как опытный шахматист расставляет действующие фигуры по местам, знакомя читателей с границами территории и стратегией борьбы за трон. Взросление и формирование характера Титуса приходится на вторую часть саги — «Горменгаст», в которой герой до времени противостоит Стирпайку и последствиям его интриг. «Титус один» — самая сюрреалистическая книга серии. Странствуя в поисках самого себя по миру, полному почти стимпанковских технологий, Титус пытается жить без Горменгаста…
(На этом рукопись обрывается.)
На золотом крыльце сидели…
- Людмила Маркина. Исторические сказки. — М.: Арт-Волхонка, 2014.
«Исторические сказки» — комплект из трех книг, написанных Людмилой Маркиной, заведующей отделом живописи XVIII — первой половины XIX веков Третьяковской галереи, доктором наук, профессором, автором многих искусствоведческих статей, а также биографий художников Дмитрия Левицкого и Владимира Боровиковского, выходивших когда-то в издательстве «Белый город».
Первая книга серии «Сказка о русской императрице Елизавете Петровне и граде Москве» появилась еще в 2011 году и была приурочена к открытию в Третьяковской галерее выставки «Елизавета Петровна и Москва». Она стала довольно успешным «сказочным» дебютом автора. Потом была опубликована «Сказка о том, как немецкая принцесса Фике стала русской императрицей Екатериной Великой» и вот, наконец, «Сказка о царе Петре I и столице Санкт-Петербурге».
Эти книги по сути и не сказки вовсе — за традиционным зачином прячется набор фактов, мифов и курьезов из жизни трех российский монархов. Фактов как общеизвестных, так и совершенно неожиданных. Например о том, что императрица Анна Иоанновна ненавидела ворон. «В кремлевском дворце у нее в каждой хоромине висели заряженные ружья. Как только раздавалось противное карканье, Анна Ивановна палила в раскрытые окна».
Юная «цесаревна Елизавета любила блины и яичницу, но больше всего „конфекты“ и „мармелады“, поэтому всегда отличалась „крепким сложением тела“, а царь Петр обидно дразнил дочку „бочкой“». Екатерина же еще в пору своего немецкого детства страдала от диатеза. В повествовании нет сюжета как такового, нет встроенности в фактологический контекст — это не «История России в рассказах для детей» Александры Ишимовой.
Особый вес и прелесть придают изданию иллюстрации «господина живописца» Виталия Ермолаева — «фамильяра ордена куртуазных маньеристов» и известного московского художника. Ермолаев — полноправный соавтор Людмилы Маркиной. Иллюстрации в книге — репродукции его масляных полотен, посвященных русской жизни XVIII века. Барочные, карнавальные, избыточные, они усиливают и подчеркивают авторскую иронию, связывают воедино несколько обрывочные эпизоды повествования и отвечают за ту самую «сказочность», с которой не вполне справляется текст. Есть и роскошные «принцессочьи» наряды, и русская зима, и шествие слонов потешной свадьбы, и яркие декорации Кускова, Коломенского, Измайлова, Строгановского дворца и Царского села, на фоне которых прогуливаются юные императрицы в окружении карлов и арапчат.
Все книги серии можно приобрести по отдельности, но в комплекте они «звучат» по-другому. Само собой, например, напрашивается сравнение детства немецкой принцессы Софии Фредерики Ангальт-Цербстской и русской цесаревны «Лизетки». Одна должна была беспрекословно подчиняться «Правилам трех „У“» (уважение к старшим, усидчивость в учебе, умеренность в еде), годами не снимать специальный корсет для исправления осанки и приносить себя в жертву честолюбивым мыслям о короне. Другая — резвилась в царских конюшнях и солдатской слободе, любила сладко поесть и предавалась любви с бандуристом Алешей Розумом.
Юные читатели (сказки подойдут тем, кому еще нет 10 лет) смогут сделать собственные выводы. Например, узнать, что цари и царевны тоже были маленькими: болели, проказничали, любили сладости. И тогда история, которая в глазах детей всегда выглядит сказкой в силу своей отдаленности во времени, вдруг станет ближе, реальнее. Словом, приобретет смысл.