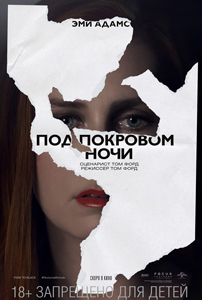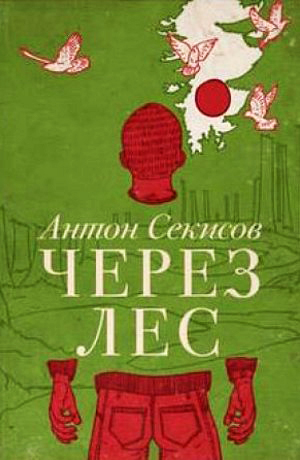Сборники интервью занимают промежуточную ступень между книгой как таковой и прессой, газетами и журналами. Выходя за рамки привычного формата, вчерашний журналист уже сегодня, с собственной книгой, превращается в писателя. А если книга состоит из бесед с писателями, то получается литература в собственном соку.
Впрочем, все это лукавство. Журналист даже в книге остается журналистом, а иногда и вовсе незаметным интервьюером. А тексты, по-настоящему глубокие и интересные, обычно пишут такие люди, к которым и ярлыка не приклеишь.
В любом случае, сборники интервью или даже сборники, в которых только некоторые тексты оказываются интервью с писателями, становятся для читателей книгами многофункциональными. Во-первых, это энциклопедии современной литературы, дающие представление об уже известных авторах и позволяющие узнать о существовании новых. Во-вторых, это учебники по истории литературы, написанные не в диахронии, а в синхронии, рассказывающие о ситуации в литературе в целом. В-третьих, некоторые из этих книг по-настоящему хороши как художественные произведения – и тогда они дают ответы на многие, многие вопросы, выходящие далеко за рамки собственно литературы. Они пытаются ответить на вопросы о жизни, вселенной и всем остальном, да так, чтобы ответом оказалось не число 42.
- Одиннадцать бесед о современной русской прозе / Интервью Кристины Роткирх. Под ред. Анны Юнггрен и Кристины Роткирх. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 160 с.
 Шведско-финская журналистка Кристина Роткирх как раз остается тем самым незаметным интервьюером, с которым сами писатели не собираются ни спорить, ни строить интересную беседу. Журналист заметно долго готовится. Пишет вопросы. Старается задать их все во чтобы то ни стало. Практически из всех ответов (за исключением, пожалуй, интервью с Лимоновым и Пелевиным) можно было бы сразу же собрать монологи. Книга больше всего напоминает строгую и обязательную энциклопедию: сказано много и по делу, но никаких эмоций не вызывает. Приятна, однако, тем, что приглашает совершить экскурс в прошлое: вышла книга семь лет назад, и с тех пор что-то неуловимо поменялось. То ли литература все же обновилась и впустила новые большие имена, то ли общественная жизнь переломилась и пошла по другому пути, чем тогда, то ли и то, и другое. Изменился и сам читатель: теперь ему в таком формате книги редко предлагают, пытаются подать под более съедобным соусом, в том числе с помощью иных видов искусства.
Шведско-финская журналистка Кристина Роткирх как раз остается тем самым незаметным интервьюером, с которым сами писатели не собираются ни спорить, ни строить интересную беседу. Журналист заметно долго готовится. Пишет вопросы. Старается задать их все во чтобы то ни стало. Практически из всех ответов (за исключением, пожалуй, интервью с Лимоновым и Пелевиным) можно было бы сразу же собрать монологи. Книга больше всего напоминает строгую и обязательную энциклопедию: сказано много и по делу, но никаких эмоций не вызывает. Приятна, однако, тем, что приглашает совершить экскурс в прошлое: вышла книга семь лет назад, и с тех пор что-то неуловимо поменялось. То ли литература все же обновилась и впустила новые большие имена, то ли общественная жизнь переломилась и пошла по другому пути, чем тогда, то ли и то, и другое. Изменился и сам читатель: теперь ему в таком формате книги редко предлагают, пытаются подать под более съедобным соусом, в том числе с помощью иных видов искусства.
Улицкая: «Я не думаю, что есть отдельная сфера интеллектуального и отдельная сфера физиологии. Эротика же принадлежит области физиологии не меньше, чем сфере интеллектуального. Человек – целостное существо, и само намерение установить в человеческом существе «верх» и «низ» — плод нашей кривой несовершенной цивилизации, в которой веками существовал этот водораздел».
- Игорь Свинаренко. ВПЗР (Великие Писатели Земли Русской). — М.: Время, 2016. — 864 с.
 Журналист Игорь Свинаренко, напротив, очень яростный собеседник. О нем и не подумаешь, что он какие-то вопросы задает «с бумажки». И выборка у Свинаренко оказалась побольше – целых 40 писателей, а еще приложения – в одном из них, например, интервью с Дмитрием Набоковым. Реплики Свинаренко резкие, участники беседы искренние, сам он, среди прочего, не преминет проверить или опровергнуть слухи, рассказать разухабистую байку и обязательно вставить в текст пару скабрезностей. С некоторыми Свинаренко на «ты», но с иными и на «вы». Ему Прилепин расскажет, что пошел на филфак за «воздушной и литературной» кузиной, но больше, чем о литературе, они будут говорить о политике, ОМОНе и Чечне. Быкова он спросит, как писатели ненавидят друг друга, а тот в ответ упомянет, как кому-то из писателей «дала полячка», после чего беседующие и вовсе обсудят детали сексуальной жизни Быкова. А Эдуард Успенский поведает о цензуре, самоцензуре, стихах о бюджете и моче. Восемьсот страниц таких разговоров – это, конечно, несколько неподъемно, зато не скучно.
Журналист Игорь Свинаренко, напротив, очень яростный собеседник. О нем и не подумаешь, что он какие-то вопросы задает «с бумажки». И выборка у Свинаренко оказалась побольше – целых 40 писателей, а еще приложения – в одном из них, например, интервью с Дмитрием Набоковым. Реплики Свинаренко резкие, участники беседы искренние, сам он, среди прочего, не преминет проверить или опровергнуть слухи, рассказать разухабистую байку и обязательно вставить в текст пару скабрезностей. С некоторыми Свинаренко на «ты», но с иными и на «вы». Ему Прилепин расскажет, что пошел на филфак за «воздушной и литературной» кузиной, но больше, чем о литературе, они будут говорить о политике, ОМОНе и Чечне. Быкова он спросит, как писатели ненавидят друг друга, а тот в ответ упомянет, как кому-то из писателей «дала полячка», после чего беседующие и вовсе обсудят детали сексуальной жизни Быкова. А Эдуард Успенский поведает о цензуре, самоцензуре, стихах о бюджете и моче. Восемьсот страниц таких разговоров – это, конечно, несколько неподъемно, зато не скучно.
Быков: «В России нельзя, чтобы на тебя распространялись общие правила. Иначе тебя любой врач бортанет, таксист обхамит, официант пошлет на фиг и так далее. Нужно, чтобы тебя хоть немножечко знали в лицо. Тогда мент, когда будет тебя бить, будет делать это с некоторым опасением».
- Захар Прилепин. Именины сердца: разговоры с русской литературой. – М.: АСТ, 2009. – 416 с.
 Если у Свинаренко интервьюируемый так или иначе попадал под влияние интервьюера, то Прилепин, как бы эмоционален он ни был, всегда оставляет писателя в своей тарелке. Однако в случае с «Именинами сердца» есть другой нюанс – Прилепин встретился с 30 писателями, но только с теми, кто ему был интересен самому. Сдержанное интервью с Анной Козловой будет отличаться от дружеской беседы с Александром Гарросом и уж тем более – с Александром Прохановым. Однако здесь, под прикрытием чинного диалога о самих писателях, Прилепин часто говорит о себе: то в вопросах, то в финале интервью, когда он ставит точку на том, что его самого пригласили в один из российских городов. Да и само построение сборника, встречающего читателя несколькими интервью с самим Прилепиным, подсказывает, что эта книга – даже не литература в кубе, а Прилепин в кубе. Сам выбирает собеседников, сам берет интервью, да и о себе не забывает.
Если у Свинаренко интервьюируемый так или иначе попадал под влияние интервьюера, то Прилепин, как бы эмоционален он ни был, всегда оставляет писателя в своей тарелке. Однако в случае с «Именинами сердца» есть другой нюанс – Прилепин встретился с 30 писателями, но только с теми, кто ему был интересен самому. Сдержанное интервью с Анной Козловой будет отличаться от дружеской беседы с Александром Гарросом и уж тем более – с Александром Прохановым. Однако здесь, под прикрытием чинного диалога о самих писателях, Прилепин часто говорит о себе: то в вопросах, то в финале интервью, когда он ставит точку на том, что его самого пригласили в один из российских городов. Да и само построение сборника, встречающего читателя несколькими интервью с самим Прилепиным, подсказывает, что эта книга – даже не литература в кубе, а Прилепин в кубе. Сам выбирает собеседников, сам берет интервью, да и о себе не забывает.
Данилкин: «Что они умеют, Захар, эти двое, так это дать по яйцам; в жизни тяжело прожить без этого умения, но в критике, мне кажется, можно; я, во всяком случае, всегда полагал, что для критика эффективнее поднять бровь, чем врезать по яйцам; мы все-таки имеем дело с писателями, у них гораздо чувствительнее совсем другие нервные окончания»
- Лев Данилкин. Клудж. Книги. Люди. Путешествия. – М.: РИПОЛ-классик, 2016. – 384 с.
 «Клудж» Данилкина на самом деле, разумеется, не сборник интервью. Однако эту книгу проигнорировать невозможно: один из самых известных литературных критиков беседует с отечественными и зарубежными писателями, перемежая такие рассказы историями из путешествий. Его беседы меньше всего напоминают интервью; больше всего – репортажи. Ради писателя он выдвигается хоть в Пермь, как в случае с Алексеем Ивановым, хоть в Великобританию, как в случае с Джулианом Барнсом, и рассказывает не только о персоне, но и о том, как рядом с ним себя чувствует обычный человек. То есть да, говорит он и о себе тоже – но выступает в роли маленького человека, хотя таковым и не является. Данилкин в каждом интервью разыгрывает спектакль, в котором роли исполняют писатель, его книги и читатель (в этой ипостаси выступает сам Данилкин). И каждый такой спектакль переводит все, что мы знаем о чтении, из плоскости теории литературы – в понятную реальность.
«Клудж» Данилкина на самом деле, разумеется, не сборник интервью. Однако эту книгу проигнорировать невозможно: один из самых известных литературных критиков беседует с отечественными и зарубежными писателями, перемежая такие рассказы историями из путешествий. Его беседы меньше всего напоминают интервью; больше всего – репортажи. Ради писателя он выдвигается хоть в Пермь, как в случае с Алексеем Ивановым, хоть в Великобританию, как в случае с Джулианом Барнсом, и рассказывает не только о персоне, но и о том, как рядом с ним себя чувствует обычный человек. То есть да, говорит он и о себе тоже – но выступает в роли маленького человека, хотя таковым и не является. Данилкин в каждом интервью разыгрывает спектакль, в котором роли исполняют писатель, его книги и читатель (в этой ипостаси выступает сам Данилкин). И каждый такой спектакль переводит все, что мы знаем о чтении, из плоскости теории литературы – в понятную реальность.
Данилкин о Барнсе: «В любом случае у меня возникает дурное предчувствие, что в следующем своем романе он выведет иностранного журналиста-идиота. Утешает, что обещанный в июле «Артур и Джордж» — вроде бы из викторианской жизни, и вряд ли он захочет предпринимать дополнительные усилия по инсталляции туда моей скромной персоны»
 Собственно, книга Гарроса тоже не вписывается в рамки условного жанра книги с интервью. Да и разговоров с писателями здесь не так много – не больше пяти. Но это тот случай, когда берут не количеством, а качеством. На читателя должны повлиять даже не сами тексты интервью, а то, что их окружает: если у Данилкина это рассказы о путешествиях, то у Гарроса – неэкзотические повествования о совсем обычных вещах, например, о том, как он пытался перевезти в поезде Москва – Петербург свою собаку. Литература у Гарроса идет на сближение со всем: с журналистикой, музыкой, цирком, теми же путешествиями на поездах. Книга предоставляет читателям мнимую свободу выбора: литература здесь вроде бы действует на равных с другими сферами деятельности человека, однако задает им тон: не только тем, что каждая глава начинается с интервью с писателем, но и тем, что жизнь в описании Гарроса приобретает подозрительное сходство с литературным произведением.
Собственно, книга Гарроса тоже не вписывается в рамки условного жанра книги с интервью. Да и разговоров с писателями здесь не так много – не больше пяти. Но это тот случай, когда берут не количеством, а качеством. На читателя должны повлиять даже не сами тексты интервью, а то, что их окружает: если у Данилкина это рассказы о путешествиях, то у Гарроса – неэкзотические повествования о совсем обычных вещах, например, о том, как он пытался перевезти в поезде Москва – Петербург свою собаку. Литература у Гарроса идет на сближение со всем: с журналистикой, музыкой, цирком, теми же путешествиями на поездах. Книга предоставляет читателям мнимую свободу выбора: литература здесь вроде бы действует на равных с другими сферами деятельности человека, однако задает им тон: не только тем, что каждая глава начинается с интервью с писателем, но и тем, что жизнь в описании Гарроса приобретает подозрительное сходство с литературным произведением.
Гаррос о Прилепине: «Скоро Саша поедет в Ригу убивать латышского судью, впаявшего “союзникам” пятнадцатилетние сроки, а Яна залепит тортом в лицо президенту РФ — и даст старт короткой, отчаянной и обреченной революции молодых маргинал-патриотов. Это в романе, а в жизни мы оба вполне себе сыты и пьяны, и Прилепин рассказывает мне о памятной скамейке за несколько дней до своего знаменитого чаепития с Путиным, во время которого он спросит о Тимченко и “Гунворе”, но тортами швыряться не станет».