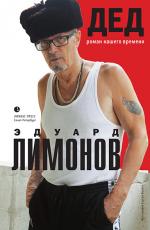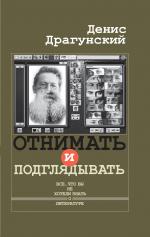- Эдуард Лимонов. Дед (роман нашего времени). — СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2014. — 352 с.
Большинство книг Эдуарда Лимонова наполнено страстями, интересными судьбами и героическими смертями. Не изменяет автор себе и на этот раз. Документальный роман «Дед» – промежуточный итог пестрой жизни писателя, полной событий, затмевающих любую литературную выдумку. Как заявляет сам автор: «Новейшая Российская История живет и дышит в этой книге». Не верить ему – нет оснований.
ЗАДЕРЖАНИЕ
1 В два часа дня он лёг спать. У него выработалась привычка, в дни, когда ему было нужно выходить «на арену», он старался выспаться впрок. Мало ли что могло ожидать его в этот вечер, и в последующую ночь, возможно, спать не доведётся совсем, разумно было выспаться. Он взял из шкафа в коридоре большое одеяло и подушку и ушёл в кабинет. Застелился, но без простыни. Вернулся к охранникам.
Двое его охранников сидели в кресле в большой комнате, третий пил чай в кухне.
— Я прилягу, пацаны, попытаюсь уснуть. По старой традиции. Ночь предстоит длинная. Следите тут.
Охранники были новые, однако не настолько свежие, чтобы не знать об этой привычке «Деда» — так они его называли за глаза. Прозвище ему по сути не нравилось, незаслуженно старило его, однако он никогда не выступал с предложением называть его как-то иначе. За глаза есть за глаза, не в его же присутствии. Охранники приняли его сообщение знаками понимания. Мол, нам ясно, ты идёшь спать, иди, «Дед».
В кабинете он накрылся одеялом. Одеяло пахло его девкой, Фифи. Вообще-то девку звали иначе, но он назвал её Фифи, и теперь она всегда будет такой. Как будто он отчасти Бог, он обладал даром и правом называть смертных, как назовём, так и будет. Девка от одеяла пахла душно, кромешным востоком, еврейством, Библией, сосцами библейских коз и немного приторно, как, возможно, попахивают бараньи кишки. «Какие кишки, не фантазируй, — одёрнул он себя, — не фантазируй, „дед“», — но всё же вынужден был признать, что душный телесный запах одеяла имеет кишечную основу, под этим одеялом они только что провалялись, спариваясь, все выходные. Ну, оно и пахло их соединением, точнее, пах пододеяльник, и, в сущности, — что есть соединение мужчины и женщины: он проталкивает в её кишку свой «жезл». Кишка, конечно кишка, а что это ещё? Влагалище — не что иное, как кишка…
— Прекратить! — сказал он себе. — А то члена лысого ты так заснёшь. Не заснёшь. Так и будешь медитировать на свою еврейку.
Но она не выходила из его головы, оккупировала область воображения, и не выходила. У него было четыре темы, наиболее часто оккупировавших его воображение: первая она — его еврейка, вторая — политика, третьей были его дети, и четвёртой — создатели человека, семейство Бога. Точнее, не обязательно именно в перечисленном порядке его оккупировали эти темы. Они могли напасть на него все вместе, но то, что они главные — это факт.
Он даже не знал, где она живёт. Он не был уверен, что те немногие куски её жизни, которые она ему добровольно открывает иногда, — правда. Он предполагал, что всё — ложь. Хочет ли он знать правду? «Нет», — сказал он себе искренне. Она ему очень нравилась, эта Фифи, молодая женщина с телом подростка. Он грыз это тело как старый жестокий крокодил, и она ему нравилась. Иногда ему представлялось, что он нашел её во время погрома, под старыми еврейскими перинами, у неё были косы и, может быть, вши в косах, он отнял её у толпы, чтобы изнасиловать самому. Между тем она…
— …ард …инович? — тихий стук в дверь кабинета, — …ард …инович!
Он вздохнул:
— Чего?
— Там опера во дворе. Много.
— Сейчас выйду.
Ну да, во дворе, не очень скрываясь, перемещались оперативные сотрудники милиции. За годы своей политической деятельности он научился распознавать их мгновенно. Толстомордые, часто опухшие, нелепо сложённые, нелепо одетые. Фактически их существует два основных типа: мордатые, постарше, заматеревшие от водки и жратвы мужчины и новое поколение: джинсы, курточки, барсетки — оперской молодняк косит и под футбольных фанатов, и под студентов, но выдаёт их прежде всего разбитная наглость. Он называл их «шибздиками».
Охранники сгрудились у окна кухни, выходившего во двор.
— Вот в той машине с затемнёнными стёклами — их пять человек, …ард …инович. А вон там дальше, видите, — серебристый форд, их вторая машина. Опера друг к другу в гости из машины в машину шастают . А вот за трансформаторной будкой, видите, скопились милиционеры в форме…
Внезапно ему пришли на память строки из его книги «Дневник неудачника», написанной в баснословном 1977 году: «„Ну что они там, внизу, шевелятся?“ — спросил он у прижавшегося к вырезу окна Лучиано. Внизу на далёкой улице задвигались чёрные спины солдат».
Вот и двигаются. Через 33 года. В сказках полагается, чтоб прошло ровно тридцать лет и три года.
Посчитав всех во дворе, они пришли к неизбежному выводу, что их будут брать. Для наружного наблюдения такое количество ментов не необходимо. Все смотрели на него, охранники, что скажет.
— У нас есть другой выход? — спросил он, не то сам себя, не то всех присутствующих спросил. — У нас нет другого выхода. Я должен быть на площади, куда я вызвал людей. Ровно в пять будем выходить.
— Может, дадут добраться до площади? — Фразу произнёс Ананас, молодой человек с тонкой, выбритой бородкой, он работает барменом.
— Маловероятно. Давайте собираться.
И он пошёл утепляться. Так же как и традиция выспаться впрок, утепление было насущно необходимой мерой. Неизвестно, куда попадёшь. В обезьяннике, или куда там ещё поместят, может быть очень холодно. Однажды в ледяную ночь его продержали несколько часов в неотапливаемом автозаке. У него зуб на зуб не попадал, растирал себе безостановочно ноги и грудь. Чудом не заболел.
Он надел помимо двух футболок ещё три свитера, яйца предохранил чёрным трико, подаренным ему непонятно кем и когда, может быть, олигархом из Ростова-на-Дону, натянул две пары носков, на башку надел чёрную шапку с кожаным верхом — память от умершего отца, — шапка из крашеной овчины была старомодна, как головной убор фараона 18-й династии.
— …ард …инович, — в дверь протиснулся Панк (у всех были клички, так удобнее), — …ард …инович, они заблокировали нашу машину.
Он пожал плечами.
— Ясно. А что вы ожидали?
Панк, худенький, но железный носатый молодой человек, превращавшийся, когда надо, в боевую машину без страха и упрёка, всё же вздохнул. Один раз.
По традиции они присели все четверо. На дорогу, чтобы вернуться когда-нибудь в эту квартиру. Высокий блондин Кирилл, ржаная щетина на щеках, вздохнул несколько раз. И он волнуется. Это понятно. Человек без нервов нежизнеспособен, нервы должны быть.
— Всем внимание! Выходим очень спокойно. Не отвечаем на их агрессию. С Богом! — он встал.
Встали и охранники. Сообщили по мобильному на площадь, что выходят, и что «нас стопроцентно возьмут». Панк вышел из квартиры один и осмотрел подъезд. Нет, в подъезде их не ждали. Согласно инструкциям спустились на лифте вниз. У выходной двери замедлились. Кирилл с рукой у кнопки вопросительно обернулся к Деду.
— Жми! — сказал Дед.
Они сделали только шагов пять. К ним уже бежали со всех сторон милиционеры и опера. Во главе милиционеров приблизился капитан. Деда схватили за руки, обступили.
— В чём дело, капитан? Что случилось?
— Пройдёмте с нами.
— Значит задерживаете. А по какому поводу, позвольте узнать?
— С вами хотят провести профилактическую беседу .
— Слушайте, я еду на митинг на площадь. Там меня ждут граждане, которых я туда созвал. Давайте вы проведёте свою беседу со мной после митинга.
— У меня есть приказ задержать вас и доставить.
— Что же, ввиду очевидного вашего численного превосходства и по причине того, что вы обладаете иммунитетом государства, вынужден подчиниться. Мои товарищи вам нужны?
— Нет, только вы.
— Я поеду с вами, я старший группы, — шепчет Кирилл .
— Пацаны, вы можете идти. Сообщите, что нас взяли!
Охранники медлят.
— Идите, хватит двух задержанных.
Неохотно Ананас и Панк уходят из снежного двора. Так следует поступить, пусть и очень хочется поступить иначе. Пассивная роль нас изнуряет, но мы ведь ввязались в мирное неповиновение.
— Куда садиться, капитан, где ваш автомобиль?
— Сейчас.
Капитан, видимо, не ожидал спокойного исхода дела, может, даже верил, что политические преступники вообще не выйдут, а если выйдут — попытаются убежать. Убежать нереально, их несколько десятков во дворе. Только одних милиционеров семеро. На рукаве капитана нашивка 2-го оперативного полка милиции.
Во двор вкатывает белый старый автобус. Дед и Кирилл за ним входят в автобус. Милиционеры особого полка рассаживаются вокруг задержанных. Впечатление такое, что они облегчённо вздыхают.
На самом деле Дед тоже облегчённо вздохнул бы. Задержание свершилось! Самая, может быть, нервная из милицейских церемоний.
2 В автобусе он было вернулся к теме Фифи, пытался понять, почему с таким энтузиазмом грызёт тело этой похотливой женщины-подростка. Уже полтора года он пытался разгадать секрет своей поздней страсти. Его философский афоризм, «совокупление есть преодоление космического одиночества человека, точнее биоробота, каковым является человек», — однако, не помог ему ещё понять, почему эта именно еврейка так его захватила. Он было мысленно провёл взглядом по всем её интимным частям, но капитан стал приставать к нему с вопросами.
— Вы не думайте что мы, милиционеры, не понимаем, что происходит. Я слежу за тем, что вы делаете, и во многом я с вами согласен, — забубнил из темноты капитан. Они быстро ехали в центр города, и яркие витрины магазинов Ленинского проспекта просвечивали сквозь шторы.
— Я достаточно общаюсь последние десять лет с милицией, чтобы понять, что вы — часть народа, — ответил он.
— А как бы вы поступили с нами, приди вы к власти? — не отставал капитан.
Дед подумал, что капитану, возможно, не безопасно вести с ним подобную беседу в окружении ещё 12 милицейских ушей. Но ему жить, сам должен понимать.
— Я всегда выступал противником люстраций, — сказал он односложно. — Милиция нужна будет при любом режиме…
И замолчал.
На самом деле ему стало уже давно неинтересно вести подобные разговоры с милицией. Когда он только начал заниматься политикой, семнадцать лет тому назад, он как дитя радовался вниманию и сочувствию офицеров милиции и проявленному вдруг по тому или иному поводу их дружелюбию. Однако кульминация отношений с милицией давно позади. Кульминацией явился далёкий осенний день 1995 года, когда в исторический бункер на 2-й Фрунзенской улице явился вступать в партию настоящий живой мент Алексей с настоящим живым пистолетом. Алексей и стал через год его первым охранником . За последующие годы Дед, тогда ещё не Дед, побеседовал с сотнями милиционеров. Он беседовал с ними на воле и в тюрьме, задержанный и не задержанный. Милиционеры ему в конечном счёте надоели. Они просты как мухи. Некоторые даже читали его книги. Ну и что, они всё равно исправно исполняют приказы и поступают с ним согласно приказаниям их командиров.
Когда они доехали до ОВД «Тверское», капитану передали по мобильному, что задержанного следует доставить в ОВД на Ленинском проспекте, то есть ровно туда, откуда они его взяли, недалеко от дома, где он проживал. Повезли. Через жидкие шторки автобуса было заметно, что толпа автомобилей на дорогах поредела. Стремительно приближался водораздел между Старым и Новым годом.
Капитан всё задавал вопросы. Подчинённые капитана всё чаще пользовались телефонами, то им кто-нибудь звонил, то они звонили. Соломенно-волосый охранник Кирилл дремал. Дед ответил десятку журналистов, побеспокоивших его в автобусе по телефону. Сообщил, что был задержан прямо у подъезда дома, где снимает квартиру. Сказал, что его везут в ОВД на Ленинском.
Попытался вернуться к своей девке. Как насекомое падал на её тело сверху, опять взмывал и наблюдал её лежачей, и даже влетал ей взглядом под короткую молодёжную юбку, одним словом, пытался бесчинствовать, обонял её и осязал. Но милицейские солдафоны галдели и мешали ему. Один из них потребовал у товарища, чтоб тот открыл окно.
— Ну уж нет, — сказал Дед. — Я простужен. Вы хотите меня угробить?
Мент упорствовал, требуя воздуха. Сошлись на том, что откроют ненадолго, и закроют. Дед надел отцовскую шапку, вдвинул голову глубоко, поднял воротник и кое-как пережил экзекуцию. А тут уже они и приехали. ОВД помещалось за забором, не совсем обычно. Видимо, в новых районах это был типовой проект, в то время как в старых употребляли старые здания.
Им открыли ворота, и они въехали. И стали. Капитан пошёл представляться местным милиционерам. Сопровождавшие высыпали на снег курить. А Дед опять стал думать о своей девке. Повезло мне с ней, с девкой, подумал Дед. Такой кусок девки! Интересно, будет ли она моей последней любовью или будут ещё девки? Природа даровала ему неплохую наследственность, по сути, он мог рассчитывать, как и его родители, по крайней мере на 86 лет, но он хотел жить ровно до той поры, пока сможет обслуживать себя сам. А дольше не хотел. И вообще, предполагал сам заняться своим концом жизни. Обдумать всё, чтоб никаких сюрпризов.
Рубрика: Отрывки
Тонино Бенаквиста. Наша тайная слава
- Тонино Бенаквиста. Наша тайная слава / Пер. фр. Л. Ефимова. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 254 с.
Впервые на русском языке издана новая книга Тонино Бенаквисты, знаменитого представителя современной французской литературы, автора бестселлеров «Сага» и «Малавита». В этот сборник вошли шесть рассказов, у героев которых — непойманного убийцы, молчаливого ребенка, антиквара-вояки, миллиардера-мизантропа и мстительного поэта — немало общего. В их внутренней жизни есть волнующая тайна, которая никак не связана с их внешней, находящейся на свету частью жизни. В конце концов, у каждого из нас своя «тайная слава», о которой мы можем лишь молчать.
Убийство на улице Каскад
Я человек с улицы, первый встречный.
Для принца я плебей. Для звезды — публика. Для интеллектуала — простец. Для избранного — зауряднейший из смертных.О, как прекрасно высокомерие исключительных существ, едва речь заходит обо мне! С какой энтомологической точностью они судят о моих вкусах и нравах! Как снисходительны к моим столь обыденным недостаткам! Часто я завидую этому их таланту — никогда не узнавать себя в других, в обыкновенных людях. И чувствую сквозь их благодушие, как их успокаивает моя посредственность. Чем была бы элита без серой массы, чем было бы выходящее за рамки без нормы?
Неужели я так предсказуем в глазах мыслителя, который знает все о моем стадном инстинкте, о моем призвании быть никем, о моем удивительном влечении к часу пик? Неужели я дисциплинирован до такой степени, что никогда не теряюсь в устроенном учеными лабиринте? Неужели настолько лишен самолюбия, что приспосабливаюсь к палке в ожидании морковки? Неужели так готов смеяться или плакать, стоит только какому-нибудь художнику или артисту почувствовать вдохновение? Неужели так уныл и скучен, что способен повергнуть в отчаяние поэта? Неужели настолько труслив, что жду воя волков, чтобы завыть вместе с ними?
Вы, лучезарные существа, дерзающие отправляться в Крестовые походы, выбирать нехоженые пути, рассуждать о душе, воодушевлять толпы, вы, заставляющие крутиться этот мир, который человек с улицы всего лишь населяет, знаете ли вы, что, говоря от его имени, сводя его к блеющей породе, отрицая его индивидуальность, вы — о ирония! — вынуждаете его к счастью? Ибо как можно принять такое — лишиться исключительной судьбы, если не быть просто счастливым — глупо, пошло, естественно счастливым? Счастливым, каким умеет быть только человек с улицы, избавленный от обязанности удивлять, потребности восхищать. И это анонимное, терпеливое счастье утешит его, быть может, в том, что он не пережил ту четверть часа славы, которую сулил ему двадцатый век.
Я солгал. Я вовсе не человек с улицы, не первый встречный.
Почти пятьдесят лет я делал все, чтобы стать им и оградить свою семью от ужасной правды. Для них я был обыкновенным малым, любящим супругом, порядочным отцом, не способным лгать или хранить тайну. Какое двуличие! Как я смог дурачить их так долго? В буквальном смысле слова я — миф. Реально существовавший исторический персонаж, преображенный легендой. В свое время обо мне исписали немало страниц. Я был темой всех разговоров. Меня искали на каждом углу улицы. Если бы мир узнал, кем я был на самом деле, я бы сейчас раздавал автографы.
Прошлой ночью моя жена, которую я так любил, умерла. Ничто более не удерживает меня от того, чтобы раскрыть свой обман.
Будучи целыми днями свидетелем ее мук, отрешенности, приступов гнева, я судорожно стиснул ей руку, чтобы впитать хоть немного ее боли. Но, не обладая этой способностью, был вынужден ждать, ждать, ждать, тщетно, бессильно, вплоть до того мига успокоения, который застал нас обоих врасплох, — ее дыхание стало почти неощутимо, конечности перестали бороться, и я увидел, как на ее губах обрисовалась загадочная, околдовывающая улыбка:
«Вот оно, я готова». Снова став сообщниками, мы заговорили на языке старых пар — закодированными, загадочными сообщениями, где в обрывках слов, вздохах, многоточиях таятся воспоминания и истории. В самый последний раз она сыграла роль жены, хорошо знающей своего мужа, и беспокоилась о том, что я не был способен совершить в одиночку, — оказалось, за сорок семь лет совместной жизни количество таких дел умножилось, а я даже не остерегся. Но я едва ее слушал, готовый украсть
у нее этот последний час, пытался сказать ей про свою вторую жизнь. Меня вовремя удержал один образ — как моя любимая проклинает меня из могилы, царапая стенки гроба, чтобы вырваться оттуда и выдрать мне глаза за то, что я скрыл тайну посильнее нашей любви.На заре она угасла, шепнув мне свою последнюю волю:
Обещай мне сблизиться с ним.С ним — это с нашим единственным сыном, который ждал за дверью.
Не имея другого выбора, я согласился — глазами. Но как сблизиться с существом, которое никогда и не отдалялось? Он всегда был уважителен, и я никогда не стыдился за него перед соседями. Ни разу не пропустил ни одного моего дня рождения, никогда не забывает про праздник отцов. Выказывает мне любовь, но с одним нюансом, я чувствую его, когда мы целуемся по официальным случаям: я подставляю ему щеки, а он придерживает меня за руки, словно останавливая мой порыв к нему. Затем спрашивает, как мое здоровье, а я — как его работа. Он не догадывается, что уже давно перестал любить меня. Если бы его об этом спросили, он бы оскорбился: Это же мой отец! Но я могу точно назвать день, когда перестал быть героем своего отпрыска.
Это было в июле 1979-го — ему тогда исполнилось тринадцать лет. Впервые он не поехал на каникулы вместе с нами — родители одного приятеля пригласили его прокатиться по Италии. Я высадил сына возле красного кабриолета, готового бороздить дороги Юга, и поздоровался с тем, кто должен был присматривать за экипажем, — человеком моего возраста, хотя выглядевшим гораздо моложе, одетым в потертые джинсы и поношенную кожаную куртку, которые придавали ему вид искателя приключений. Впрочем, он таким и оказался — будучи инженером дорожного ведомства, строил плотины и дамбы, чтобы осушать болота и орошать пустыни. Не слишком любопытный, но хорошо воспитанный, он поинтересовался, чем я занимаюсь в жизни, и, чтобы не отвечать, что я коммивояжер, торговый представитель по сбыту ручного инструмента, я сказал ему, что, дескать, специализируюсь по стали. Он обошелся без уточнений. Не беспокойтесь ни о чем, я глаз не спущу с наших негодников. Его болид свернул за угол улицы, и в этот миг я понял, что уже никогда не увижу того ребенка, который еще вчера спрашивал меня о небесной необъятности, словно я знал, откуда она взялась.
Вместо него вернулся юноша, страстно увлеченный итальянским Возрождением, способный бриться, как взрослый, и гордый тем, что в первый раз опьянел, напившись граппы. Он хотел изучать урбанистику, а я не осмелился его спросить, что это, собственно, такое. Отныне всякий раз, предлагая ему что-нибудь сделать вместе, я буду читать в его глазах, что главное для него уже не здесь.
Обещай мне сблизиться с ним.
В ту ночь я пообещал невозможное, но с завтрашнего утра старик снова станет в глазах своего сына человеком. Как никто другой. Я не прошу ни его уважения, ни сочувствия, я лишь хочу, чтобы он пожалел о своем вежливом равнодушии, хочу снова найти в его взгляде детское удивление. Мне не придется даже напрягать память, правда сама рвется наружу, она уже совсем готова, ей слишком тесно там, где она томилась полвека.
Терри Пратчетт. Дело табак
- Терри Пратчетт. Дело табак. — М.: Эксмо, 2014. — 480 с.
Похожий на преподавателя по защите от темных искусств (хоть писатель и не одобрит этого сравнения!) британский рыцарь Терри Пратчетт продолжает даже в столь почтенном возрасте бороться с плоскостью мира. Тридцать девятая книга из цикла – «Дело табак» – впервые вышла на русском языке в начале августа. В деревне, где вдали от городской суеты и больших проблем отдыхает командор Городской стражи Сэмюэль Ваймс, нечем заняться в свободное время. Однако скучать приходится недолго: местные обитатели что-то скрывают, поэтому Ваймс начинает свое расследование.
Посвящается Робу — в промежутках между выходными.
Эмме, которая помогла мне понять гоблинов.
И Лин — как всегда.Представления об окружающем мире у гоблинов облечены в форму культа или, если угодно, религии под названием «коготт». Если вкратце, это необычайно сложная система воззрений, основанных на идее воскрешения и священности всех телесных выделений. Основной догмат коготта гласит: то, что исходит из тела гоблина, некогда, несомненно, являлось его частью, и, следовательно, с ним надлежит обращаться почтительно и должным образом хранить, чтобы в свое время предать погребению вместе с владельцем. Пока владелец жив, упомянутые выделения хранятся в коготтных горшочках — примечательных изделиях, о которых речь пойдет дальше.
И тут появляется неприятное осознание того, что достигнуть этой цели может лишь существо, обладающее внушительным богатством, массой свободного места и покладистыми соседями. Поэтому в реальной жизни большинство гоблинов соблюдают так называемый «хад» — более распространенную и менее строгую форму коготта, которая предполагает хранение ушной серы, обрезков ногтей, а также слизи из носа. Вода, в общем и целом, не считается коготтом, поскольку просто циркулирует по телу, не становясь его частью, и гоблины полагают, что нет никакой очевидной разницы в воде до употребления и, так сказать, после (к сожалению, это дает понять, какой сомнительной чистоты воду они пьют в своих подземных логовищах). Сходным образом, фекалии считаются едой, которая просто перешла в иное состояние. Как ни странно, зубы не представляют для гоблинов никакого интереса; они считают их чем-то вроде грибов, и волосам они тоже не придают особого значения — впрочем, их у гоблинов все равно немного.
Тут патриций Ветинари, правитель Анк-Морпорка, перестал читать и уставился в пустоту. В следующее мгновение в пустоте возник силуэт Стукпостука, личного секретаря (который, нужно заметить, годами упражнялся сливаться с пустотой).
Стукпостук сказал:
— У вас задумчивый вид, милорд.
К этому наблюдению он присовокупил самый почтительный знак вопроса, который повис в воздухе.
— Я обливаюсь слезами, Стукпостук, обливаюсь слезами.
Стукпостук перестал смахивать невидимую пыль с блестящей черной поверхности лакированного стола.
— Пастор Овсец весьма убедительно излагает, не правда ли, сэр?
— О да, Стукпостук. Но основная проблема никуда не делась, и заключается она вот в чем: человечество сумело примириться с гномами, троллями и даже орками, как бы они ни были временами устрашающи, и знаешь почему, Стукпостук?
Секретарь осторожно сложил тряпочку, которой вытирал пыль, и взглянул в потолок.
— Осмелюсь предположить, милорд, это потому, что в их жестокости мы узнаем свою?
— Отлично сказано, Стукпостук, я еще воспитаю из тебя настоящего циника. Хищники уважают друг друга, не так ли? Иногда они даже уважают добычу. Лев порой способен лечь рядом с ягненком, пускай в итоге на ноги поднимется только лев. Но он никогда не ляжет рядом с крысой. Крысы, Стукпостук. Целая раса опустилась до уровня крыс!
Патриций Ветинари грустно покачал головой, и неизменно бдительный Стукпостук заметил, что пальцы его светлости в третий раз за день вернулись к странице, озаглавленной «Коготтные горшочки». И вдобавок в процессе патриций разговаривал сам с собой, что было весьма необычно…
«По традиции горшочки делает сам гоблин, из чего угодно, начиная с драгоценных камней и заканчивая кожей, деревом и костью. Из кости получаются самые изящные и тонкие, как яичная скорлупа, вместилища, когда-либо существовавшие в мире. Разграбление гоблинских поселений охотниками за сокровищами и месть разгневанных гоблинов — вот в чем доныне заключаются отношения людей и гоблинов».
Патриций Ветинари откашлялся и продолжал:
— Я цитирую пастора Овсеца, Стукпостук. «Должен признать, что гоблины живут на грани смерти, в основном, потому что их туда оттеснили. Они выживают там, где не выживет больше никто. Их обычное приветствие — „ханг“ — означает „держись“. Я знаю, им приписывают ужасающие преступления, но и мир никогда не был к ним добр. Скажем прямо — те, чья жизнь висит на волоске, прекрасно понимают жуткую алгебру необходимости, которая не знает милосердия. Когда же необходимость становится крайней, женщины делают коготтные горшочки под названием „душа слез“, самые красивые, украшенные резьбой в виде цветов и омытые слезами…».
Стукпостук, идеально рассчитав время, поставил на стол перед своим господином чашку кофе, как раз когда патриций Ветинари дочитал до конца и поднял глаза.
— Жуткая алгебра необходимости, Стукпостук. Мы-то знаем, что это такое, правда?
— О да, сэр. Кстати говоря, сэр, мы получили сообщение от Алмазного короля троллей, который благодарит нас за непоколебимую позицию в отношении тролльих наркотиков. Отлично сделано, сэр.
— Я бы даже не назвал это уступкой, — заметил, отмахнувшись, Ветинари. — Ты знаешь мое мнение, Стукпостук. Я, в общем, не возражаю, если люди принимают всякие вещества, от которых им становится лучше и веселее, ну или они видят маленьких танцующих фиолетовых человечков или даже собственного бога, почему бы и нет. В конце концов, это их мозг, и общество не имеет на него никаких прав, лишь бы в это время они не работали за станком. Но продавать троллям наркотики, от которых у бедняг в буквальном смысле взрывается голова, — это самое настоящее убийство, тяжкое уголовное преступление. И я рад отметить, что командор Ваймс полностью согласен со мной по данному вопросу.
— Да, сэр, и, с вашего позволения, напоминаю, что в скором времени он уезжает. Вы желаете его проводить?
Патриций покачал головой.— Думаю, что не стоит. Наверняка он не в лучшем настроении, и, боюсь, мое присутствие только усугубит ситуацию.
Стукпостук с едва заметной ноткой соболезнования в голосе произнес:
— Не вините себя, ваша светлость. В конце концов, и вы, и командор Ваймс в руках высших сил.
Его светлость герцог Анкский, командор сэр Сэмюэль Ваймс из анк-морпоркской городской Стражи яростно тыкал за голенище карандашом, чтобы унять зуд. Но тщетно. Никогда это не помогало. От носков у него чесались ноги. Сто раз он собирался сказать жене, что вязание не входит в число ее многочисленных блистательных достоинств. Но Ваймс предпочел бы вообще остаться без ног. Ведь Сибилла бы страшно огорчилась.
Носки действительно были ужасные, толстые, бугристые, сплошь в узлах, так что приходилось покупать обувь на полтора размера больше. Он так и делал, потому что Сэмюэль Ваймс, который ни в один храм не входил с религиозными намерениями, боготворил госпожу Сибиллу и каждый день с крайним удивлением сознавал, что она испытывает к нему сходные чувства. Он сделал ее своей женой, а она его — миллионером; благодаря Сибилле нищий, одинокий, циничный, мрачный коп стал богатым влиятельным герцогом. Впрочем, свой цинизм Ваймс умудрился сохранить, и даже запряжка быков, накачанных стероидами, не вытащила бы копа из души Сэма Ваймса. Этот яд проник слишком глубоко, впитался в становой хребет. И теперь Сэм Ваймс чесался и подсчитывал плюсы, пока у него не закончились цифры.
А среди минусов была бумажная работа.
Бумажная работа существовала всегда. Хорошо известно, что всякая попытка сократить количество бумаг ведет к их увеличению.
Разумеется, для бумажной работы у Ваймса были люди, но рано или поздно ему, как минимум, приходилось что-то подписывать, а если не удавалось увернуться, так даже читать. И положить этому конец было невозможно; в конце концов, в полицейской работе всегда есть вероятность, что где-то взлетит на воздух очередной сортир. Инициалы Сэма Ваймса на бумаге извещали мир, что это его сортир и, следовательно, его проблемы.
Он окликнул через открытую дверь сержанта Задранец, которая исполняла обязанности ординарца.
— Еще что-нибудь, Шелли? — с надеждой спросил Ваймс.
— Не в том смысле, как вы думаете, сэр. Но, полагаю, вам приятно будет узнать, что я минуту назад получила клик от временно исполняющего обязанности капитана Пикши из Щеботана, сэр. Он говорит, что дела у него идут неплохо, сэр, и «а ля» ему очень даже нравится1.
Ваймс вздохнул.
— Еще что?
— Тихо как в колодце, — сказала гномиха, выглядывая за дверь. — Жарко, сэр. Слишком жарко, чтобы драться, слишком липко, чтобы воровать. По-моему, чудесно, сэр.
— Где стражники, там и преступление, — буркнул Ваймс. — Запомни это, сержант.
— Я помню, сэр, хотя, на мой вкус, лучше звучит, если слова поменять местами.
— Я так понимаю, нет никаких шансов, что меня отпустят без экзекуции?
Сержант Задранец явно встревожилась.
— Простите, сэр, но, боюсь, увильнуть не удастся. Капитан Моркоу официально заберет у вас значок в полдень.
Ваймс стукнул кулаком по столу.
— Я посвятил всю жизнь городу и не заслуживаю такого обращения!
— С вашего позволения, командор Ваймс, вы заслуживаете гораздо большего.
Ваймс откинулся на спинку кресла и застонал.
— И ты туда же, Шельма?
— Простите, сэр. Я знаю, вам нелегко.
— Меня вышвыривают отсюда после стольких лет! Ты же знаешь, как я просил! А такому человеку, как я, просить нелегко, можешь не сомневаться. Я умолял!
На лестнице послышались шаги. Ваймс вытащил из ящика стола коричневый конверт, что-то сунул в него, сердито лизнул, запечатал плевком и бросил на стол. Конверт звякнул.
— Вот, — произнес он сквозь стиснутые зубы. — Мой значок. Как велел патриций Ветинари. Сдаю добровольно. Никто не скажет, что его у меня отобрали!
В кабинет вошел капитан Моркоу, пригнувшись под притолокой. В руках он держал какой-то сверток, а за спиной у него теснились несколько ухмыляющихся стражников.
— Прошу прощения, сэр, верховная власть и все такое. По-моему, вам повезло, что вас отправляют в отпуск всего на две недели. Госпожа Сибилла изначально настаивала на месяце.
Моркоу протянул Ваймсу сверток и кашлянул.
— Мы с ребятами тут скинулись, командор, — произнес он с натянутой улыбкой.
— Предпочитаю то, что звучит разумнее, например «старший констебль», — сказал Ваймс, забирая сверток. — Знаешь, я тут подумал: если мне надают побольше титулов, я, в конце концов, найду тот, с которым смогу смириться.
Он разорвал бумагу и извлек маленькое разноцветное ведерко и лопатку, к общему восторгу притаившихся зевак.
— Мы знаем, что вы едете не на взморье, сэр, — начал Моркоу, — но…
— И очень жаль, что не на взморье! — жалобно произнес Ваймс. — Там бывают кораблекрушения. Контрабандисты. Утопленники. Преступники так и кишат! Хоть что-то интересное.
— Госпожа Сибилла говорит, вам будет, чем развлечься, сэр, — сказал Моркоу.
Ваймс застонал.— В деревне-то? Чем можно развлечься в деревне? Ты знаешь, почему она называется деревней, Моркоу? Потому что там, черт побери, нет ничего, кроме проклятых деревьев, которыми почему-то полагается восхищаться, хотя на самом деле они просто сорняки-переростки! Там скучно! Сплошное воскресенье! А еще мне придется общаться со всякими шишками!
— Сэр, вам понравится. Я не помню, чтобы вы когда-нибудь брали выходной, разве что, когда бывали ранены, — сказал Моркоу.
— Да и то он непрерывно ворчал и беспокоился, — произнес голос в дверях. Он принадлежал госпоже Сибилле. Ваймса изрядно обижало то, что стражники слушались его жену. Он, разумеется, до безумия обожал Сибиллу, но не мог не заметить, что в последнее время его любимый сандвич с беконом, салатом и помидором превратился из традиционного сандвича с БЕКОНОМ, салатом и помидором в сандвич с САЛАТОМ, ПОМИДОРОМ и беконом. Разумеется, жена пеклась о его здоровье. И все вокруг словно сговорились. Почему ученые не откроют какой-нибудь овощ, который вреден для здоровья? И что не так с луковой подливкой? В конце концов, в ней же лук! И желудок он прочищает, будь здоров. Это ведь полезно, не так ли? Что-то такое он точно читал.
Две недели отпуска, в течение которых за каждым приемом пищи будет надзирать жена. Об этом нестерпимо было даже думать,… но Ваймс все равно думал. И потом еще Юный Сэм, который рос как сорная трава и всюду совал свой нос. Две недели на свежем воздухе, по словам Сибиллы, пойдут мальчику на пользу. Ваймс не спорил. Бессмысленно было спорить с Сибиллой: даже если ты думаешь, что победил, оказывается, на самом деле тебя неверно информировали. Это какая-то магия, совершенно не доступная мужьям.
По крайней мере, ему позволили выехать из города в доспехах. Они были частью Сэма Ваймса, такие же потрепанные, как и он сам, с той разницей, что вмятины на доспехах чинились при помощи молотка.
Ваймс, держа на коленях сына, смотрел на удалявшийся город, а карета везла его навстречу двум неделям буколических грез. Он чувствовал себя изгнанником. Но, с другой стороны, в городе просто обязано было случиться какое-нибудь ужасное убийство или дерзкое ограбление, которое по очень важным соображениям морали (на худой конец) потребовало бы присутствия главы Стражи. Оставалось лишь надеяться.
Сэм Ваймс со дня вступления в брак знал, что у его жены есть дом в деревне. В частности, потому что Сибилла подарила этот дом ему. Точнее, она перевела на мужа все владения своей семьи (упомянутая семья состояла из одной лишь Сибиллы), следуя старомодному, но очаровательному убеждению, что владеть собственностью должен супруг2. И она настояла на своем.
Из деревни регулярно, в зависимости от сезона, на Лепешечную улицу прибывала телега, груженная фруктами и овощами, сыром и мясом. Все это выращивалось и производилось в поместье, которого Ваймс никогда не видел. И не горел желанием видеть. Про деревню он точно знал, что она хлюпает под ногами. Да, конечно, под ногами хлюпали большинство анк-морпоркских улиц, но, черт побери, они хлюпали правильно — и он хлюпал по ним с тех самых пор, как только выучился ходить (и, что неизбежно, падать).Официально поместье носило название Кранделл, хотя обычно его называли Овнец-Холл. Овнецам принадлежал отрезок форелевого ручья длиной в милю, а также паб, как запомнил Ваймс из документов. Владеть пабом — да, вполне понятно; но как можно владеть форелевым ручьем? Ведь твой отрезок, пока ты на него смотришь, уплывет вниз по течению, разве нет? И перед тобой окажется вода, которая раньше принадлежала твоему соседу, живущему выше по течению, и этот надутый сноб, возможно, сочтет тебя браконьером. Вот сукин сын. А рыба вообще плавает, где ей вздумается. Так откуда тебе знать, которая из них твоя? Может быть, она вся помечена? С точки зрения Ваймса, это было вполне по-деревенски. Жить в деревне значит постоянно держать оборону.
1 Обмен кадрами с щеботанской жандармерией себя оправдал: в Щеботане учились работать в духе Ваймса, а еда в столовой Псевдополис-ярда заметно улучшилась трудами капитана Эмиля, хоть в ней и было слишком много «а ля».
2 И радоваться, что при решении почти всех хозяйственных вопросов ему отводится скромное второе место. Госпожа Сибилла полагала, что слово ее дорогого супруга должно быть законом для городской Стражи, но в ее случае является всего лишь вежливым предложением, которое следует милостиво принять к сведению.
Денис Драгунский. Отнимать и подглядывать
- Денис Драгунский. Отнимать и подглядывать. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 378 с.
В книгу «Отнимать и подглядывать» вошли статьи и заметки российского филолога и писателя Дениса Драгунского, опубликованные им в последнее десятилетие и посвященные литературе и всем нам. По словам автора, «отнимать и подглядывать — это, конечно, ужасно. Нехорошо, невежливо и даже иногда наказуемо», однако без этого не бывает ни нормального общества, ни культуры.
ЛЕТО И ТИШИНА
Когда что-то важное случалось, бабушка говорила: «Москва гудит!» Я помню, я слышал, как гудит Москва. Когда на каждом перекрестке, во всех дворах, в троллейбусах и метро, у каждого газетного киоска и цистерны с квасом, и в квартирах тоже, родные, знакомые и совсем незнакомые люди — везде говорили о чем-то, что потрясало. На моей памяти Москва гудела, когда в 1961 году снимали памятники Сталину. Когда через три с небольшим года сняли Хрущева. Когда поэты читали стихи на стадионах. Когда в 1971 году погибли космонавты, об этом шумела улица — буквально, реально, вслух. Как ни странно, о танках в Праге говорили тише. Потом Москва затихла надолго, лет на пятнадцать.
Правда, в этот молчаливый период московский шум распался на ручейки, на отдельные источники звука. На маленькие бумбоксы, как сказала бы нынешняя молодежь. Москва тихонечко гудела о повестях Трифонова, о судьбе «Нового мира», о Бродском и Солженицыне, о Любимове и Ефремове, о Параджанове и Тарковском. Конечно, это была Москва частичная, интеллигентская, жадно читающая и взволнованная судьбами страны, — но все же казалось, что ее много — той Москвы, а значит той страны. Были ключевые слова, общие коды и пароли, было желание узнать, понять, обсудить.
Перестройка, распад СССР, реформы Ельцина—Гайдара, мятеж 1993 года — Москва и страна снова загудела, вся, целиком, сверху вниз и справа налево. Все смотрели новое телевидение, независимое и смелое. Совокупный тираж толстых журналов обеспечивал однотипным чтением практически все грамотное население СССР. Это было очень политизированное чтение и не всегда такое уж высокохудожественное: многие романы-откровения тогдашних лет сейчас читать просто невозможно. К публицистике эти претензии не относятся: статья-сенсация через десять лет просто обязана оказаться наивной, простодушной, банальной. Иначе она не была бы сенсационной тогда. Так ли это важно? «Общерусский разговор», о котором говорил сто лет назад Василий Розанов, все-таки состоялся.
Но закончился довольно быстро.
Наверное, свою роль сыграла цензура, укрепление властной вертикали, государственный контроль над телевидением. Но главное не в этом. И даже не в том, что народ, вынужденно объедавшийся пищей духовной, с удовольствием перешел на более материальное меню.
Дело гораздо серьезнее.
Когда чего-то слишком много, оно как будто исчезает. Или теряет смысл. Стеллажи книжных магазинов пугают изобилием названий. Ярмарка интеллектуальной литературы Non-Fiction способна раздавить посетителя необозримой массой толстых, мелким шрифтом, многотомных умных книг обо всем. «Социология французской шляпной ленты в сороковых годах XIX века». «Комментарии и указатели к дневникам английских солдат в Индии». «Московские домовладельцы Сущевской части». «Трансгруэнтность локальности в постмодерне». Гигабайты информации, тонны веса, сотни тысяч рублей. Составлять библиотеку — даже по какой-то узкой отрасли — бессмысленно. Неподъемно и по деньгам, и по времени — все равно не прочтешь, физически не успеешь. Профессиональная эрудиция балансирует между интернетом и малотиражными изданиями, не вывешенными в сети. Надобно сказать, что в интернете тоже не всё прямо на блюдечке лежит. Кое-что приходится искать так же долго и хлопотно, как в старом каталоге со скрипучими ящичками.
Гуманитарных книг много, и все они очень специальные. Группы носителей знания складываются вокруг издательских проектов. Интеллектуальное сообщество дробится на мел кие и мельчайшие коллективы, и это, наверное, естественно, когда касается специальных проблем. Обидно другое. Есть масса общественных вопросов, которые составляли суть интеллигентского разговора и десять, и сто лет назад. Говорили о законе и справедливости, о свободе и рабстве, о художнике и власти, и прежде всего — о правах человека. Сегодня все это выпало из поля зрения умных и образованных людей. Смерть несчастного Магнитского, дело Самодурова и Ерофеева, конфликт вокруг Химкинского леса… «Не надо, пожалуйста, не объясняй, я все равно не пойму, не разберусь», — сказал мне знакомый профессор-гуманитарий. Правда, сильно моложе меня.
Интересная штука. Вечные темы образованного сословия — «власть и народ», «народ и интеллигенция», «интеллигенция и власть», этакая большая тройка интеллигентского дискурса, — превратились в предмет специального интереса политических журналистов. Остальные прикасаются к ним с осторожностью — тем более что вольная политическая дискуссия сильно опошлена (а если честно — опоганена) интернет-форумами, где сплошная ругань и обличение врагов России — естественно, либералов и западников. К великому сожалению, этот стиль потихоньку проникает и в более респектабельную полемику.
Скучно, конечно, и отчасти пусто. Однако тоска по общекультурному диалогу, по тому самому «общерусскому разговору» — это ностальгия по модерну, то есть по индустриальному обществу, причем в его советской, тоталитарной версии. Ностальгия по обществу однотипной фабричной занятости, когда 90% людей живут на одну зарплату и читают (смотрят, слушают, обсуждают) примерно одно и то же. Поскольку «другое» — запрещено.
Глупое брюзжание.
Надо бы попытаться понять, что происходит вокруг. Тем более что происходят весьма серьезные вещи. По сравнению с которыми цензура и вертикаль власти — сущая чепуха, мелкая рябь на бездонном озере.
Старинный шутливый вопрос: достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники?
Конечно, нет. Что такое достоверность? Когда нечто достойно веры. Достойный человек Фукидид в V веке до нашей эры подробно и беспристрастно описал историю Пелопонесской войны, которая происходила у него на глазах. Попытки обвинить Фукидида в политической предвзятости и намеренных подтасовках оказались несостоятельны, недоказуемы. Если он и ошибался, то это были обычные ошибки и неточности, от которых не застрахован никто. Одна война — один историк: вот формула абсолютной достоверности. Однако войн все больше, а число историков растет в опережающей прогрессии. На любой аргумент находится сотня контраргументов — тоже хорошо документированных. История сплющивается, превращается в вещество необычайной фактической плотности, и вот в этом веществе, как внутри атом ной бомбы, возникает цепная реакция: событие превращается в идею, а идея — в обвинение, в проклятие. Самый краткий курс истории — это два слова и два знака препинания: «Они — гады!» Впрочем, число восклицательных знаков можно увеличивать — для убедительности и доказательности.
Говорить о достоверной, истинной, правдивой истории Второй мировой войны — значит просто не понимать предмета разговора. Говорить о «недопущении переписывания истории» — такое же прискорбное невежество, и хватит об этом.Есть темы более интересные — лично для меня. Да, для меня лично, и не вижу в этом ничего стыдного, особенно сейчас. Надоело быть динозавром, который смотрит вдаль, за горизонт, ищет цели и смысла. Общей цели для страны, общего для людей смысла! Последняя когорта глупых длинношеих динозавров появилась на свет в середине семидесятых. Дальше пошли млекопитающие, умные и складные. Они хотят хорошей работы. Хорошая работа — это когда хорошая зарплата. Чтоб жена и дети, квартира и автомобиль. Чтоб детям дать хорошее образование — чтоб у них тоже была хорошая работа (см. выше). Никто не хочет составить карту истоков Конго или открыть ген шизофрении. Точнее говоря, почти никто. Нет великой мечты. Ни личной, ни общей. Какой уж тут «общерусский разговор»? О чем гудеть Москве?
Главное, главное, главное — не брюзжать! Главное — научиться жить при капитализме. В буржуазном обществе. Где голодуху и дефицит не надо драпировать великими идеями и высокими мечтаниями. В бедных интеллигентных советских семьях родители устраивали с детьми «путешествие по карте». Вот прямо так — садились с атласом под абажур и, водя карандашом по ниточкам рек и дорог, воображали себе ландшафт и поселения. Или обсуждали прочитанные книги. И ходили в кино всей семьей. Оттуда, собственно, и высокие цели: хотелось выпрыгнуть из-под абажура.
А сейчас все кругом в необозримом ассортименте. И сравнительно недорого.
Мы думаем, что разговоры о ментальности, об экономике, о развитии демократии имеют смысл. Мы ошибаемся. Смысл имеет только искусство. Вернее, так — оно наименее бессмысленно из всего перечисленного. Оно расширяет зазор между «заработал» и «потратил».
Нужнее ли стало искусство с тех пор, как оно стало преизобильно и доступно? Особенно кино. Когда в него не надо ходить, когда оно само настырным торрентом стучится в каждый компьютер.
Когда изобретают что-то новое, это не отменяет старое. Мраморные статуи и картины маслом на холсте будут создаваться до скончания веков. Никуда не денутся многотомный роман, спектакль в трех действиях и фильм, на который «надо идти».
Но физическое присутствие не означает социального влияния. Классический мейнстрим, он же Большой-Пребольшой Стиль, становится уделом маргиналов, меньшинств, которые варятся в собственном фестивально-премиально-клубном соку. «Вы видели? Смотрели? Читали?» — «Не надо, пожалуйста, не рассказывайте, я все равно не прочитаю, не посмотрю…»
Литература — это нечто для литераторов. Театр, кино — для режиссеров.
Уже довольно давно фотография стала массовым самодеятельным искусством. Очередь за кинематографом. Почему кинематографисты чего-то хотят и требуют? Сейчас фильм можно снять мобильником. Повесить в YouTube…
И стать знаменитым?
Нет, конечно. Кому это надо? Неужели мы столь безнадежно суетны?
Чтоб люди услышали, посмотрели, что-то поняли?
Нет. Холодно. Та же суетность.
Чтобы сказать. Может быть, только самому себе. Если сумеешь себя услышать.
Я сажусь в кресло, я беру в руки мобильник, я фотографирую сам себя. Мобильник у меня простой, без контрольной камеры, поэтому я иногда промахиваюсь. Ничего. Цифра этим и отличается от аналога. Не понравилось — стер, дальше поехал. Снял. Перекачал на компьютер. Гляжу и стараюсь понять себя и молчаливую, ни о чем не гудящую Москву в окне.
Возможно, я когда-нибудь сниму такой фильм. Посмотрю его и сразу же сотру.
Искусство имеет право быть одноразовым. Особенно на фоне вечности.
Татьяна де Ронэ. Русские чернила
- Татьяна де Ронэ. Русские чернила. — СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2014. — 352.
В издательстве «Азбука» вышла книга-бестселлер Татьяны де Ронэ «Русские чернила», по сюжету которой молодой писатель в поисках своих корней попадает в Санкт-Петербург. Пораженный сделанным там открытием, он создает роман, который приносит ему громкий успех. Однако с призраками прошлого не так легко покончить.
Вдохновением для самой Татьяны де Ронэ послужили те же причины: интернациональность собственной семьи и история ее русской прабабушки.Те клиенты отеля, что начали день в море, собирались на берег к обеду. Моторные катера с гудением шли вдоль роскошных яхт и парусников, стоявших на якоре в заливе, доставляли пассажиров и уносились обратно, чертя за собой пенный след. Николя наблюдал за потоком прибывающих. Вот ступила на берег какая-то весьма аристократическая семья, вероятно римляне или флорентинцы. Впереди с достоинством выступали бабушка с дедушкой, следом шествовали мать и отец семейства, а за ними целая команда вышколенных детей. Девочки все как одна в платьях в цветочек, с лентами в волосах, мальчики в белых рубашках и бермудах. Немного погодя на берег сошли две сестры-близняшки невиданной красоты. Одна прижимала к груди ярко-синюю сумку работы знаменитого нью-йоркского ювелира, другая вела на поводке веселого щенка лабрадора, который чуть не свалился в воду, немало позабавив Николя. На сестрах были громадные солнечные очки, а прически копировали небрежный начес Натали Портман. Они легко и грациозно спрыгнули на пирс, хохоча над проделками щенка.
Было около двух часов дня. Николя решил все- таки подняться в номер. В прохладном полумраке Мальвина спала, уютно устроившись на постели. Он осторожно положил ей руку на лоб. Лоб был влажный, но не горячий. Ничего не оставалось, кроме как идти обедать в одиночестве.
Его усадили за тот самый столик, за которым он завтракал. Французы снова оказались слева. Муж с аппетитом набросился на еду. Он играл в теннис и не успел переодеться. Щеки у него горели, на висках блестели капельки пота, на белом поло под мышками виднелись влажные пятна. Дама была в тюрбане, который вовсе ей не шел, и деловито, тщательно пережевывая, поглощала кусочки пармской ветчины. Оба не обменялись ни словом. Справа брюнетка с пышной грудью в одиночестве расправлялась с брускеттой. Семейство бельгийцев заказало охлажденное белое вино. Швейцарцы вяло клевали салат и, увидев, что Николя смотрит в их сторону, раскланялись с ним. Он тоже кивнул. Спрятавшись под зонтиком, он потихоньку наблюдал за кипевшей на террасе жизнью. Его поклонница Алессандра обедала в компании собственного клона, только старше: несомненно, это была ее мать. К счастью, они не могли его видеть. Члены аристократического семейства, словно сошедшего со страниц «Ярмарки тщеславия», выказывали друг к другу преувеличенное внимание и на протяжении всего обеда без конца целовались. Он забавлялся, глядя на них и жуя свой сэндвич с крабовым мясом. Однако, когда появились двойники Натали Портман, он отложил сэндвич в сторону. Близняшки были похожи как две капли воды, а на руках у них красовались абсолютно одинаковые часы «Hermès Cape Cod». Запыхавшийся лабрадор устроился у их ног. Официант принес ему мисочку с водой, и он принялся шумно лакать. Николя напряг слух, чтобы понять, на каком языке они разговаривают.
— А ты нагнись еще чуть-чуть, приятель, и точно свалишься со стула, — раздался у него за спиной гнусавый голос.
Николя вздрогнул и обернулся. Какой-то сутулый тип лет сорока, в мятой футболке и линялых джинсах, одиноко сидел неподалеку, держа в руке бокал розового вина. Он еще что-то проговорил, и Николя с удивлением узнал романиста Нельсона Новезана, лауреата Гонкуровской премии. Они не раз пересекались на разных встречах, телепередачах и литературных салонах. Удивительно, что Новезан, слывший человеком нелюдимым, его признал.
— Ну что, лапуля, все тип-топ? — медленно процедил Новезан тягучим голосом, шатаясь, подошел к столику Николя и плюхнулся на стул напротив него.
Романист, несомненно, уже порядком выпил. Он закурил сигарету, держа ее, по обыкновению, большим и указательным пальцем. Характерная привычка.
— Все отлично, — весело ответил Николя.
Вблизи кожа Новезана выглядела землистой и
несвежей, свалявшиеся сальные волосы, похоже, не одну неделю не знались с водой.— Ты в отпуске, парень?
— Нет, я приехал, чтобы писать.
— Вот как? Я тоже, — зевнул Новезан, обнажив желтые зубы. — Приехал в этот храм роскоши, чтобы писать. Я очень доволен работой. Идет как по маслу. Мой лучший роман. Выйдет на будущий год. Вот увидишь, ох и шуму будет! Мой издатель просто на седьмом небе. И я тоже.
Он щелкнул пальцами официанту и заказал еще вина.
— Ты тут уже бывал раньше?
— Нет, в первый раз.
Ироническая улыбка.
— Так я и думал. Славное местечко. Отто, здешний директор, — мой друг. У меня тут каждый год постоянный номер. Шикарный, с лучшим видом. Авторы бестселлеров хорошо живут, а?
Николя кивнул и натянуто улыбнулся, как совсем недавно Алессандре.
Тут прибыла очередная порция вина.
— Они вечно злятся, потому что я не заказываю их местные хреновые вина.
Новезан нетвердой рукой плеснул себе еще розового.
— Сколько тебе лет, малыш?
— Двадцать девять.
Романист хрюкнул:
— И что ты знаешь о жизни, в двадцать-то девять лет?
— А вам самому сколько лет? — парировал Николя.
Его так и подмывало двинуть романисту по нечищеным зубам.
Тот пожал плечами и молча запыхтел сигаретой. За последние десять лет романист выпустил четыре книги, и две из них стали бестселлерами в Европе и Америке. Николя проглотил их все залпом, еще когда учился на подготовительных курсах, и Новезан его околдовал. А потом романист превратился в раздувшуюся от высокомерия литературную притчу во языцех. Чем больше росла его известность, тем грубее он обходился с журналистами и читателями. Его брутальные, женоненавистнические романы были великолепно написаны. Читатели их либо обожали, либо ненавидели, середины не
было. Равнодушным не оставался никто. Недавно на книжном салоне в Швейцарии он прилюдно оскорбил свою ассистентку за то, что опоздало вызванное ею такси. Николя вспомнил, как невозмутимо она держалась, когда Новезан бушевал и при всех осыпал ее ругательствами.— Хорошо сыграно, приятель, — рыкнул Новезан, отхлебнув изрядный глоток розового.
— Как вы сказали?
Романист снова зевнул:
— Ну этот финт с паспортом. Я говорю, идея была просто у нас под носом. Погляди на меня: отец француз, родился за границей, мать англичанка. А я парижанин по рождению… Я бы тоже мог додуматься.
Николя умолк, потрясенный. На что намекает этот тип?
— Парень, это зернышко валялось под ногами у всех, кого из-за нового дебильного закона заставили доказывать, что они французы. А ты его склевал и написал книгу. И хорошо продается твоя книжонка?
— Неплохо, — ответил Николя безразличным тоном, понимая, что сейчас сорвется.
Он всякий раз закипал, когда слышал слово
«книжонка».— Ну хотя бы примерно, сколько продано? —
еле ворочая языком, настаивал Новезан.Он был абсолютно уверен, что ущучил наконец этого парня.
Николя выдержал паузу перед тем, как добить противника. Глаза его скользнули по столику, где сидели близняшки, потом по желтой стене корпуса, где спала Мальвина.
— Тридцать миллионов экземпляров по всему миру, — бросил он.
Несколько долгих минут Новезан не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. А Николя вдруг почувствовал, как весь его гнев испарился. Он уже презирал себя за то, что похвастался. На кого он рассчитывал произвести впечатление? На этого потасканного, стареющего, легковесного писателя, который в сравнении с ним смотрелся просто дряхлым?
— Вы один сюда приехали? — вежливо поинтересовался он.
— С женщиной в комнате нет никакой возможности писать. Стало быть, трахаешь ее, и она отчаливает, вот так.
И Новезан сделал весьма красноречивый и грубый жест. Николя не смог удержаться от улыбки. Он встал и надвинул на лоб каскетку.
— Пойду поплаваю. Составите мне компанию?
Новезан помахал рукой:
— Нет, спасибо, я пошел вкалывать, дружок. Еще многое надо доделать. Это местечко — просто источник вдохновения! Не могу остановиться. А ты?
Николя не ответил. Новезан тоже поднялся с места, нетвердо держась на тощих ногах. Они расстались, огрев друг друга по спине, как два закадычных приятеля. Прежде чем войти в лифт, Николя проверил «Блэкберри». К его немалому огорчению, на «Фейсбуке» появилась фотография, сделанная утром у бортика бассейна. Ее выложил некто по имени Алекс Брюнель. В его профиле красовалось зеленое яблоко «гренни смит», так что определить личность фаната было невозможно. Алекс Брюнель запаролил свою страницу. К счастью, под снимком не указали, где он сделан. И нашлось уже четыреста сорок пять пользователей, которым фото понравилось. Так было не впервые. Фанаты засекали его в автобусе, в метро, где он по-прежнему охотно ездил. Они без конца щелкали
его на мобильники, а потом в знак почтения помещали снимки на его стене. До сих пор это его не особенно раздражало. Но сейчас, вглядевшись в снимок, он различил на черно-белом пляжном зонтике буквы «GN» — «Gallo Nero». Если кто-то действительно захочет узнать, где он находится, это не составит труда. Но что он мог сделать? Ничего. Ведь говорила же ему Дельфина: «Это твоя плата, Николя. Разве ты сам этого не хотел?» Он прокрутил комментарии: «Мм, секси!», «Неотразим!», «Эй, Николя, возьми меня с собой!», «Италия или Греция?», «Браво!». К счастью, никто не назвал «Галло Неро». Если он удалит фото, то рискует обидеть Алекса Брюнеля, кто бы он ни был. И он (или она) вывесит еще одно. Николя научился осторожно вести себя с фанатами. От рассерженного поклонника хорошего не жди. Он бросил беглый взгляд в свой «Твиттер». Ни один из подписчиков не упоминал о его эскападе в Италию. На всякий случай он проверил свою страницу в Гугле. Ничего. В «Твиттер» он заглядывал редко, как и на свою страничку. А поначалу оттуда просто не вылезал, ведь так здорово находить название книги и фильма на всех сайтах и во всех блогах. Правда, не все отзывы были хорошими, попадались и такие, что больно ранили: «Бросьте агитировать читать это жуткое дерьмо Николя Кольта. И как только этому типу удалось продать столько экземпляров?» Эту фразу в «Твиттере» перепостили сотни раз. Когда он вернулся на пляж, Мальвина уже ждала его. Она немного порозовела и объяснила, что ее вырвало и теперь ей гораздо лучше. Николя рассказал о своей встрече с Нельсоном Новезаном, копируя знаменитый оскал гонкуровского лауреата, поднятую домиком бровь и характерную манеру держать сигарету.— Отправь это в «Твиттер» вместе с его фото, —
улыбнулась Мальвина.— Я пока не захожу в «Твиттер», — ответил он и жестко добавил: — Я теперь стреляный воробей.
Мальвина спросила, видел ли он свое фото в
«Фейсбуке». Она набрела на него в своем айфоне. Он в ответ проворчал, что недоволен: хотелось бы уединения, хотя бы трех дней покоя для них обоих. Трех дней солнышка.— Интересно, кто это вывесил, — пробормотала
Мальвина.— Да чихал я на него, — прошептал Николя, целуя ее шелковистые волосы.
Елизавета Заварзина-Мэмми. Приключения другого мальчика
- Елизавета Заварзина-Мэмми. Приключения другого мальчика. Аутизм и не только. — М.: АСТ: CORPUS, 2014. — 345 с.
«Приключения другого мальчика» – это история о том, как в конце восьмидесятых в московской семье родился второй ребенок. Он оказался совсем другим. Умный, тонко чувствующий, обаятельный, Петя не умел делать простых вещей – бегать, показывать пальцем, говорить; боялся незнакомых людей и громких звуков. Прошло довольно много времени, прежде чем Пете поставили диагноз «аутизм». «Приключения…», написанные его мамой, доказывают, что усилия никогда не бывают напрасными, а надежда – ложной, а также то, как легко и трудно любить детей.
Глава 2
4–6 лет. «Специалист знает лучше»Лечебная педагогика
Летом мы отправились на Черное море. Петя почему-то боялся подходить к воде на песчаном пляже, зато пытался шагнуть вниз с высокой скалы. Я заставляла его много ходить, а все остальное время мы рассматривали книжки. Иногда у него вдруг выскакивали отдельные слова. Однажды, показав на море, он сказал: «Вода!»
В конце лета на глаза мне попалась газетная статья c описанием центра, куда Петю направила психолог: «В коридорах сухие цветы, тихие голоса преподавателей». Когда в сентябре мы шли туда первый раз, я была настроена скептически, но все оказалось правдой: и сухие цветы, и тихие голоса, и казенными щами не пахло. На Петю смотрели без жалости и нездорового любопытства — с дружелюбным интересом, и меня никто не называл ни мамашей, ни мамочкой. Мне сказали, что дома мы делать ничего не должны и теперь я могу отдохнуть: всем необходимым с Петей будут заниматься преподаватели. Они знают, как с ним надо работать, и уверены, что он вот-вот заговорит. В группе детей было немного: пять испуганных мам привели четырехлетних малышей, все с диагнозом «задержка психоречевого развития», все неговорящие.
Хорошо запомнилось первое занятие — музыкотерапия. Мамы и дети вошли в просторную комнату и расселись на стульях. Преподаватель заиграла бодрую польку. Петя испуганно, вытаращив глаза, рванулся прочь, в поисках выхода врезался в одну стену, потом в другую… Я растерялась, не знала, что делать. «Да выведи ты его, не мучай», — шепнула мне соседка. На следующих занятиях музыкой мы садились подальше, и я закрывала Пете уши руками, чтобы он мог выдержать громкие звуки.
Уже со второго или третьего раза Пете понравилось в ЦЛП, он привязался к преподавателям, казалось, даже начал общаться с детьми. Два раза в неделю Петя по два часа проводил на групповых занятиях, затем было обязательное общее чаепитие. В третий раз мы привозили его на час к милой девушке, которая с ним рисовала, лепила, клеила, что-то тихо приговаривая.
В будущем предполагались занятия с логопедом. Все было достаточно радужно.
Зимой был праздник — настоящая елка! — и Петя не пробовал убежать и даже участвовал в хороводе, хотя плохо перебирал заплетающимися ногами (он вообще плохо держался на ногах). Мы были счастливы, видя, как он изменился, и первый раз за несколько лет вздохнули с облегчением.
Петя и Ати
В конце зимы нам предложили занятия иппотерапией.
Я с детства любила лошадей и была рада, что Петя сможет приобщиться к езде верхом.
Петиным инструктором оказался спокойный молодой человек, тоже Петр. Он подвел крошечного Петю к огромному белому коню Руулу, и Петя, конечно, испугался. Они вместе Руула погладили, потом Петю уговорили сесть верхом. С тоненькой длинной шеей, в черном защитном шлеме Петя был похож на грибок.
На ипподром мы стали ездить раз в неделю, со второго занятия Петю пересадили на вороного Ати. Петя полюбил все, что относилось к лошадям, дома появились соответствующие книжки, календари — лошадиная тема потеснила даже машины.
Однажды во время занятий появилась бойкая журналистка: она посмотрела на ребятишек, поговорила с мамами и выбрала для интервью меня. В результате нашей беседы появилась статья в газете, сообщавшая о пользе лечебной верховой езды вообще и для Пети в частности. Начиналась она словами: «На арене Петя-большой и Петя-маленький» (какая арена? Это же не цирк), а кончалась так: «Иногда после сеанса к нему возвращается сознание, и он говорит: «Мама…»
Весной выяснилось, что можно на две недели поехать в летний конный лагерь под Москвой и даже взять с собой Полю. Дети в лагере были с самыми разными проблемами.
Вова очень плохо двигался, все время держал руки во рту, пробовал что-то говорить, но издавал лишь нечленораздельные звуки; мама гуляла с ним в укромных уголках и ни с кем не общалась, а папа бормотал себе под нос: «Да все он понимает». Тема, мальчик Петиного возраста, на лошади мог только лежать, его удерживал инструктор. Девочка-подросток без речи и движения, с умными настороженными глазами, сидела в инвалидном кресле.
«Мама, мы на улицу побежали!» — две девочки медленно двигаются по коридору, одна держится за стенку, чтобы не упасть, другая — за ходунок.
Крупный подросток с печальным отрешенным взглядом и ловкими движениями не разговаривает, но постоянно напевает себе что-то под нос.
Другой подросток ни на кого не обращает внимания и непрерывно повторяет рекламные объявления.
Здоровые, как и Поля, братья и сестры детей с проблемами. Родители — и истории, истории…
Занятия для каждого ребенка были построены в зависимости от его возможностей. Одних инструктор только придерживал, другие так плохо сидели верхом, что требовалась помощь второго человека, кто-то мог сам управлять лошадью, а некоторые ребята даже занимались в группе. Вокруг площадки всегда сидели зрители. Это было завораживающее зрелище: счастливые дети, которые «на суше» не могли сделать и шага, вдруг обретали возможность передвигаться, да еще и верхом!
В обязанности детей входил уход за лошадьми и чистка конюшни. Петя был самый маленький и делать этого не мог, поэтому мы приходили смотреть, как работают другие. Наш инструктор, обняв Петю и осторожно расправив его ладошку с сухариком, помогал угощать Ати.
Помимо основных занятий были дополнительные кружки. Рисование вел «дядя Женя», вокруг которого в беседке трудились дети разного возраста. Несколько мам организовали театральный кружок: написали пьесу на сказочную тему с множеством ролей — так, чтобы хватило всем желающим. Кто мог, шил и клеил костюмы, а царевной была замечательно красивая Катя в инвалидном кресле: у нее не двигались ни руки, ни ноги. В конце смены нам показали спектакль, имевший большой успех. Мы с Петей смотрели представление через щелку в двери, уговорить его зайти в зал так и не удалось.
Из-за шума у нас были проблемы и со столовой: в большом помещении все говорили разом. Стоило кому-то встать, чтобы сделать объявление, — а это случалось довольно часто — Петя пугался, приходилось хватать его в охапку и выскакивать на воздух. Но все это были пустяки: мы замечательно провели две недели и домой вернулись полные прекрасных впечатлений.
Карстен Йенсен. Мы, утонувшие
- Карстен Йенсен. Мы, утонувшие / Пер. с дат. Г. Орловой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. — 704 с.
Международный бестселлер, переведенный на двадцать языков, «Мы, утонувшие» датского писателя Карстена Йенсена впервые публикуется на русском издательством «Иностранка». Речь в романе идет о жизни портового городка Марсталь. Войны и кораблекрушения, аферы и заговоры, пророческие сны и чудесные избавления от опасностей — что бы ни происходило, море как магнит продолжает манить марстальцев поколение за поколением.
САПОГИ
Лаурис Мэдсен побывал на небесах, но вернулся на землю благодаря своим сапогам.
Не то чтобы он взлетел уж очень высоко — не до клотика, скорее на высоту гротарея на фрегате. Лаурису Мэдсену довелось стоять у райских врат, лицезрея самого святого Петра, пусть хранитель ключей и повернулся к нему задницей.
Лаурису Мэдсену было суждено умереть. Но смерть отвергла его, после чего он преобразился.
Еще до путешествия к райским вратам он прославился тем, что единолично начал войну. Отец его, Расмус, сгинул в море, когда малышу было шесть, а в четырнадцать Лаурис нанялся на марстальский корабль под названием «Анна». Всего через три месяца «Анна» потерпела крушение в Балтийском море, но экипаж спасся благодаря подоспевшему им на помощь американскому бригу, и с тех пор Лаурис Мэдсен мечтал об Америке.
Диплом штурмана он получил в восемнадцать во Фленсбурге и в тот же год вторично стал жертвой кораблекрушения, на сей раз у побережья Норвегии, близ Мандаля. Там, холодной октябрьской ночью, он стоял на омываемом волнами рифе, высматривая, нет ли возможности спастись. Пять лет Лаурис бороздил мировые океаны. Он обогнул мыс Горн, слышал крики пингвинов в чернильно-черной ночи, побывал в Вальпараисо, на западном побережье Америки и в Сиднее, где деревья зимой роняют не листья, а кору и повсюду скачут кенгуру. Встретил девушку по имени Салли Браун с глазами-виноградинами, мог порассказать о Фортоп-стрит, Ла-Боке, Берберском побережье и Тигровой бухте. Он пересек экватор, поприветствовал царя Нептуна, почувствовал пресловутый толчок на линии сечения земной поверхности и в честь этого события пил соленую воду, рыбий жир и уксус, крестился смолой, сажей и клеем, был брит ржавым ножом с зазубринами на лезвии и лечил порезы солью и известью, облобызал рябую охряную щеку Амфитриты и сунул нос в ее флакончик с нюхательной солью, наполненный обрезками ногтей.
Лаурис Мэдсен повидал мир.
Но мир повидали многие. А он вернулся, одержимый одной идеей: все в Марстале казалось ему слишком мелким, и, будто же- лая доказать это, Лаурис безостановочно говорил на языке, который называл «американским» (он с год проплавал на военном фрегате «Неверсинк», где и освоил заморское наречие).
— Гивин нем белонг ми Лаурис Мэдсен1, — говорил он.
От Каролины Грубе с Нюгаде было у него три сына: Расмус, названный в честь деда, Эсбен и Альберт — и старшая дочь Эльсе. Невысокие молчаливые Расмус, Эсбен и Эльсе походили на мать. Альберт же уродился в отца. Уже в четыре года он ростом сравнялся с Эсбеном, который был старше его на три года, и все возился с английским пушечным ядром. В упорных попытках поднять его малыш вставал на коленки, взгляд его стекленел, но чугунное ядро было слишком тяжелым.
— Хив эвэй, май джолли бойс! Хив эвэй, май буллис!2 — громко подбадривал Лаурис, глядя на экзерсисы младшего сына.
Ядро это в свое время пробило крышу их дома на Корсгаде; дело было во время осады Марсталя англичанами в 1807 году. Бабушка так испугалась, что прямо на кухонном полу разрешилась Лаурисом. Теперь же, если только Альберт не укатывал его прочь, ядро лежало на кухне, и Каролина пользовалась им как ступкой, чтобы толочь горчичные зерна.
— Да ты и сам был ничего себе, — как-то сказал Лаурису отец, — такой здоровенный. Урони тебя аист, ты пробил бы крышу не хуже английского ядра.
— Финггу3, — говорил Лаурис, поднимая палец. Он хотел научить детей американскому языку.
«Фут» означало ногу: он показывал на сапог. «Маус» — рот.
Садясь за стол, он скалился и почесывал живот:
— Хангре4. — И все понимали, что он голоден.
Мать звалась «миссис», отец — «папа тру»5. В отсутствие отца они говорили «мама» и «папа», как и другие дети, — все, кроме Альберта, который находился с отцом в особых отношениях.
Дети назывались по-разному: пикинини, буллис и хартис6.
«Лаиким тумас»7, — говорил Лаурис Каролине и делал губы трубочкой, будто желая поцеловать ее.
Она смущенно прыскала и злилась:
— Не будь таким дураком, Лаурис.
В Шлезвиг-Голштинии, по другую сторону Балтийского моря, началась война с немцами. Это случилось в 1848 году, и первым об этом узнал старик де ля Порт, таможенный инспектор, поскольку временное революционное правительство, сидящее в Киле, направило ему «Прокламацию», а также требование сдать таможенную кассу.
Весь Марсталь пришел в волнение, мы сразу решили организовать гражданскую оборону. Во главе ее встал молодой учитель из Рисе, которого с того момента мы называли «генералом». На самых высоких точках острова были устроены сигнальные огни, представлявшие собой водруженные на высокие шесты бочки со старыми снастями и смолой; из них свисали веревки. При приближении врага бочку взрывали, возвещая тем самым, что война надвигается с моря.
Огни устроили и на горе Кнастербьерг, и в дюнах у мыса Вайснес, а по побережью ходил патруль, наблюдая за морем.
Вся эта военная суматоха сильнейшим образом повлияла на Лауриса, и так ни к чему уважения не питавшего. И вот однажды вечером, возвращаясь домой из Эккернфёрдской бухты и проходя мимо Вайснеса, он подошел вплотную к берегу и заорал так, что чертям стало тошно: «Немцы, за мной гонятся немцы!»
Через несколько минут на вершине утеса взорвалась бочка. Вслед за тем запылал костер на Кнастербьерге, и огонь продолжил шествие вглубь острова, до Сюнесхоя, находившегося почти в двадцати километрах от первой бочки, и вот уже весь остров Эрё превратился в пылающий костер.
Лаурис покачивался на волнах, костры разгорались, и он вдосталь насмеялся над переполохом, который учинил. Но, придя в Марсталь, обнаружил, что, несмотря на поздний час, повсюду горят огни и на улицах полным-полно народу. Одни нечленораздельно выкрикивали приказы, другие плакали и молились, а по Маркгаде носились люди, пылавшие жаждой битвы, вооруженные косами, вилами, а кое-кто и ружьями. Молодые матери в ужасе бегали по улицам с орущими младенцами на руках, уверенные, что немец первым делом поднимет на штыки их потомство. У колодца на углу Маркгаде и Вестергаде шкиперская жена ругалась со служанкой. Женщина решила спрятаться в колодце и велела девушке первой прыгнуть в черную яму.
— После вас, — отвечала та.
Мы, мужчины, тоже друг другом командовали. Слишком уж у нас в городе тесно от шкиперов, чтобы кто-то кого-то там слушался, и единодушие мы проявили лишь в одном — средь множества других громких слов дружно произнесли торжественную клятву, что жизнь свою продадим дорого.
Волнения достигли дома пастора Захариассена на Киркестраде, как раз принимавшего гостей. Одна дама от переживаний лишилась чувств, а двенадцатилетний сын пастора Людвиг вознамерился защищать отчизну кочергой. Семья учителя Исагера, по совместительству псаломщика, также приготовилась отразить нападение захватчика. Все его двенадцать сыновей, в тот вечер собравшиеся дома, чтобы отпраздновать день рождения толстой фру Исагер, получили от мамаши по горшку с золой и приказ кидать золу на голову немцам, если тем втемяшится атаковать их жилище.
Во главе толпы, что валила по Маркгаде в сторону Канатного двора, шел старый Йеппе. Он махал вилами и громко призывал немцев нападать, если хватит смелости. Карманы столяра, старика Лавеса Петерсена, раздулись от пуль; как он маршировал, браво вскинув ружье на плечо! Правда, на полпути ему пришлось повернуть назад — оказалось, он забыл дома порох.
У марстальской мельницы стояла мельничиха госпожа Вебер с вилами наготове и требовала позволения вступить в бой. То ли по причине всеобщей растерянности, то ли из-за того, что внешность у этой дамы была куда как приятнее, чем у нашего брата мужика, мы тут же приняли ее в свои воинственные ряды.
Лауриса, человека впечатлительного, так воодушевил всеобщий подъем, что он кинулся домой за оружием. Каролина с четырьмя детьми в испуге спряталась под столом в гостиной; тут ее муженек ворвался в дом и бодро прокричал:
— Вылезайте, дети, мы идем на войну!
Раздался глухой стук: Каролина ударилась головой о столешницу. С трудом выпутавшись из скатерти, она выпрямилась в полный рост и в ярости заорала:
— Ты что, совсем рехнулся, Мэдсен? Не пойдут дети ни на какую войну!
Расмус и Эсбен радостно скакали.
— Мы хотим на войну! Мы хотим на войну! — кричали они хором. — Можно? Ну можно?
Малыш Альберт прикатил свое ядро.
— Вы что, все с ума посходили? — закричала мать и отвесила тому, кто оказался ближе, оплеуху. — А ну, марш под стол!
Лаурис кинулся в поисках оружия на кухню, но не нашел ничего подходящего.
— Где сковородка? — крикнул он жене в гостиную.
— Так я ее и отдала! — заорала Каролина. — Не видать тебе моей сковородки как своих ушей!
Лаурис растерянно оглядывался по сторонам.
— Возьму тогда метлу, — сообщил он и кинулся прочь из комнаты. — Ну мы сейчас немцу и зададим!
Громко хлопнула входная дверь.
— Нет, ты слышал? — прошептал Альберту старший, Расмус. — Папа ни слова не сказал по-американски.
— Чокнутый! — бросила мать, вновь забравшись в свое темное убежище — под стол, и покачала головой. — На войну — с метлой!
Вызвав всеобщее ликование, Лаурис присоединился к разгоряченной толпе. Слыл он, правда, человеком заносчивым, зато был рослым и сильным, и всем казалось, что иметь его в своих рядах очень полезно. И тут мы увидели метлу.
— А ничего другого не нашел?
— Для немца сойдет, — ответил он, потрясая ею над головой. — Мы их отсюда выметем.
Мы были в себе уверены и посмеялись этой шутке.
— Оставим вилы, несколько штук, — сказал Ларс Бёдкер. —
Заскирдуем мертвых немцев.
Мы вышли в открытое поле. До Вайснеса было полчаса ходьбы, но нам не терпелось, в крови еще горел огонь. Добравшись до Драйбаккене, мы увидели, как над островом вздымается пламя, — это зрелище лишь усилило наше воинственное настроение. И тут в темноте послышался стук копыт. Мы застыли. Враг приближался!
Хотя план застать немцев на побережье врасплох рухнул, на нашей стороне по-прежнему было знание местности. Лаурис со своей метлой принял боевую стойку, мы последовали его примеру.
— Подождите меня! — раздалось сзади.
Это вернулся маленький столяр, ходивший за порохом.
— Ш-ш-ш! — зашипели мы. — Немец где-то рядом.
Стук копыт приближался, но теперь стало слышно, что лошадь одна. И вот из мрака возник всадник. Лавес Петерсен вскинул ружье и прицелился. Но Лаурис положил руку ему на ствол и сказал:
— Это счетовод Бюлов.
Счетовод сидел верхом на потной лошади, черные бока которой вздымались после быстрой скачки. Он поднял руку:
— Возвращайтесь домой. Нет возле Вайснеса никаких немцев.
— Но бочки же горят! — потрясенно вскричал Лавес.
— Я говорил с береговой стражей, — ответил Бюлов. — Ложная тревога.
— А нас вытащили из теплых постелей! И зачем? Да низачем! Госпожа Вебер скрестила руки на груди и окинула нас суровым
взглядом, будто искала, на кого наброситься за неимением врага.— Зато теперь мы знаем, что готовы к обороне, — примиряюще сказал счетовод. — Но лучше, чтобы враг вообще не появился.
Мы вяло согласились. И хотя в словах счетовода был здравый смысл, разочарование оказалось велико. Мы уже приготовились взглянуть в глаза и немцу, и смерти, но не встретили ни тех, ни ее на побережье Эрё.
— Пусть только попробуют сунуться! — сказал Ларс Бёдкер.
Внезапно почувствовав усталость, мы двинулись к дому. Заморосил холодный ночной дождь. В молчании мы дошли до мельницы, где госпожа Вебер покинула наши безутешные ряды. Она встала перед нами, держа свои вилы наперевес, будто ружье, и произ- несла с угрозой в голосе:
— Хотела бы я знать, что за шутник поднял честных людей с постелей посреди ночи и отправил их на войну.
И мы все уставились на Лауриса, возвышавшегося среди нас с метлой на плече.
Но Лаурис не попытался спрятаться, не опустил глаз. Вместо этого он посмотрел на нас, запрокинул голову и захохотал, подставляя лицо дождю.
Но вскоре шутки кончились: нас призвали на флот. По соседству от нас, в городе Эрёскёбинг, причалил военный пароход «Гекла». Выстроившись в очередь, мы по команде, один за другим, запрыгивали с пристани на борт баркаса, который должен был доставить нас на корабль. Мы ведь до сих пор переживали из-за того, что в тот ноябрьский вечерок повоевать так и не пришлось, но уж теперь ждать оставалось недолго, и настрой был боевой.
— Эгей, вот они идут, бравые датские парни с вещмешками! — крикнул Клаус Якоб Клаусен.
Маленький, жилистый, он вечно хвастался, рассказывая, как один татуировщик из Копенгагена, по прозвищу Острый Фредерик, заявил, что ни разу не втыкал иглы в руку тверже, чем у Клауса. Отец его Ханс Клаусен был лоцманом, и дедушка был лоцманом, и сам он не сомневался, что пойдет по их стопам: накануне ночью Клаус Якоб Клаусен видел вещий сон и уверовал, что вернется с войны живым.
В Копенгагене нас определили на фрегат «Гефион». Лаурис же единственный попал на линейный корабль «Кристиан Восьмой», грот-мачта которого была столь высока, что расстояние от клотика до палубы в полтора раза превышало высоту колокольни в Марстале. Стоило только взглянуть вверх, как дух захватывало и голова кружилась, но подобное головокружение вселяет в мужчину гордость: мы знали, что призваны совершить великие деяния.
Лаурис смотрел нам вслед. «Кристиан Восьмой» ему подходил. Как по-хозяйски он примется расхаживать по палубе — бывалый моряк, который целый год ходил на американском военном корабле «Неверсинк»! И все же нам казалось, что, увидев, как мы поднимаемся по сходням «Гефиона», он хоть на мгновение да почувствовал себя брошенным.
1 Меня зовут Лаурис Мэдсен (искаж. англ.).
2 Тащите, мои мальчики! Тащите, забияки! (искаж. англ.)
3 Палец (искаж. англ.).
4 Голодный (англ. искаж.).
5 Истинный, настоящий отец (англ.).
6 Малыши (искаж. ит.), забияки, сердечки (искаж. англ.).
7 Очень тебя люблю (искаж. англ.).
Александр Городницкий. Двадцать первый тревожный век
- Александр Городницкий. Двадцать первый тревожный век: Стихи. — СПб.: Лимбус Пресс, 2014 — 656 с.
Книга содержит избранные стихи, песни и поэмы Александра Городницкого, написанные в двадцать первом веке. Для читателей, знающим наизусть композицию «Атланты», неофициальный гимн Санкт-Петербурга, а также для тех, кому только предстоит познакомиться с творчеством Александра Городницкого «Прочтение» публикует отрывок из цикла «Корабли у пирса» и поэму «Последний рейс».
КОРАБЛИ У ПИРСА 2010–2011
РИХАРД ЗОРГЕ Фуаду Ахундову
Говорят, что при жизни его не любил никто.
Не любила Родина, за которую он сражался
Еще безусым мальчишкой в Первую Мировую.
Не любили правительства стран, на которые он работал,
Собирая секретные сведения о намерениях фашистов.
Не любил Сталин, который ему не поверил,
Предупрежденный о дне и часе гитлеровского удара.
И, когда японцы в Токио взяли его с поличным,
То три года держали его, приговоренного к смерти,
Терпеливо надеясь на то, что его обменяют
На такого же своего арестованного шпиона
В Соединенных Штатах или в Советском Союзе.
Но никто не желал спасти его, — все от него отступились.
И поэтому в сорок четвертом, за год до дня победы,
В тюремном дворе, в Японии, он все-таки был повешен,
Став первым за всю историю казненным там иностранцем.
Говорят, что при жизни его не любил никто,
За исключением женщин, с которыми он встречался.
Его обожали женщины, которые для него
Предавали своих мужей, ломали свою карьеру,
Собирали секретные сведения с риском для собственной жизни,
Или ломали ноги, прыгая из окошка.
И он любил этих женщин, в Японии и России,
Постоянно их обольщая, изменяя им и бросая.
Среди них были баронессы, и великие пианистки,
Секретари и жены чопорных дипломатов,
Предававшие всех и вся, а его никогда, ни разу.
И последняя из женщин, неожиданно брошенных им,
Которую он покинул из-за костлявой старухи,
Отыскала его останки среди безымянного пепла,
Опознав его бывшую челюсть по золотому мосту,
Превратившемуся от пламени в бесформенный желтый слиток.
Она этот желтый слиток перелила в колечко,
Которое, раз надев, с собой унесла в могилу.
Говорят, что при жизни его не любил никто.
Но его любили женщины, а это не так уж мало.
Потому что уходят бесследно режимы, вожди и страны,
Но остается женская единственная любовь,
Которая может сделаться колечком и желтым слитком,
Но всегда остается золотом самой высокой пробы.ПОЭТЫ ЗАРУБЕЖЬЯ Качает вечер зарево во мгле.
Чем горше быт, тем веселее строчки.
Поэтов русских мало на Земле,
И все они живут поодиночке.
Их годы невозвратно развели,
Утрачена их прошлая прописка.
Один — в Сиднее, на краю Земли,
Другой в Канаде, — от Москвы не близко.
Когда от строк кружится голова,
В неясных тенях утреннего часа,
Они на них расходуют слова
Из личного словарного запаса,
Избавиться стараясь от длиннот,
Их, как в России, попусту не тратя.
Так берегут в баллонах кислород,
В подводном погружаясь аппарате.
Из года в год все несвободней речь.
Стихи уходят и приходят снова.
И пишущий старается сберечь
Заветное не сказанное слово.
И, растворяясь в сумерках времен,
Как душу зря надеждою ни мучай,
То слово сохраняют, как патрон,
Последний, для себя, на всякий случай.ПОИСКИ ПРОШЛОГО Соблюдай осторожность, тоскою о прошлом ведом, —
Те, которых ты ищешь, давно уже спят непробудно.
Воссоздать невозможно войною разрушенный дом
На его пепелище, а новый поставить — нетрудно.
Сводит ноги усталость. Мне в завтрашний день не идти.
Гаснет свет синевы, и все ближе услужливый ящик.
Не с того ли под старость мы в прошлое ищем пути,
Что не можем, увы, ничего отыскать в настоящем?
Возвращенье назад — безнадежное дело почти, —
Проку нет от труда, и напрасны любые мученья.
Возвращаться назад — как на лодке груженой грести,
Направляя всегда ее против речного теченья.
Удлиняется тень, лодку набок неспешно креня.
Вниз уводят ступени, сходить по которым не страшно.
И сегодняшний день удаляется прочь от меня,
Становясь постепенно уже недоступным вчерашним.
2011* * * Ах, обмануть меня нетрудно, —
Я сам обманываться радА. Пушкин
От начала до скончанья света,
Без усилий и особых трат,
Так нетрудно обмануть поэта,
Он и сам обманываться рад.
Чтоб, в свое воображенье канув,
Он счастливым сделался вполне,
Персией представить Мардакяны,
Персиянкой сделать Шаганэ.
Издавать большими тиражами
И на грудь повесить орденок,
Чтоб забыл он о Прекрасной даме
И под сердцем вылечил ожог.
Чтобы шла на Севере и Юге
О поэте звонкая молва,
И твои он воспевал заслуги,
Подбирая нужные слова.
Чтобы вновь, с рассвета до рассвета,
Ткал свою серебряную нить.
Так нетрудно обмануть поэта!
Но надежней все-таки убить.
2011ГОБУСТАН 1. Вблизи от границы Ирана
Бредут по равнине овечки.
На белой скале Гобустана
Танцующие человечки.
Взирая на синие выси,
Последовав Божью примеру,
Их скульптор неведомый высек
В давно позабытую эру.
На белой скале Гобустана,
Под яркой полуденной медью,
Танцуют они неустанно
Девятое тысячелетье.
Восходят и рушатся страны
В безрадостных сумерках сует.
На белой скале Гобустана
Веселые люди танцуют.
В жару и при зимней погоде,
Все год они пляшут за годом.
Пустынное солнце восходит
Над пляшущим их хороводом.
И жизнь — хороша и желанна,
Пока безмятежны и вечны
На белой скале Гобустана
Танцующие человечки.2. В жарких песках Гобустана,
У отступившего моря,
Ветер страницы листает
Нам неизвестных историй.
Невозмутимы и сухи
Скалы в бесформенной груде.
Там на наскальном рисунке
Пляшут какие-то люди.
В эре неведомой дальней,
За руки взявшись на совесть,
Пляшут они ритуально,
К новой охоте готовясь.
Русло исчезнувшей речки.
Птица, поющая тонко.
Пляшущие человечки
Мудрости учат потомков.
В синем мерцающем дыме
Тайна их жизней сокрыта.
Жарко пылает над ними
Солнечный день мезолита.
Помню о них постоянно,
Неутомимы и вечны,
В желтых песках Гобустана —
Пляшущие человечки.
Будет удачной охота,
Будет основа надежде, —
Только и дела всего-то —
За руки взяться, как прежде.
2011* * * Заморозки ранние.
В доме неуют.
Старики, как правило,
Песен не поют.
Разве что в поддатии,
В мыслях о былом,
Вспомнят обязательно
Песню за столом.
Привели те песенки
Вроде, никуда:
Нищенские пенсии,
Скудная еда.
Но поют с надеждою
Песни старики.
Цепко память держит их,
Правде вопреки.
Далеко до рая ли?
Склон небесный крут.
Старики, как правило,
Песен не поют.
В век чужой заброшенный,
Жизни на краю,
Я и сам из прошлого
Песенки пою.
Долго жил на свете я,
Жег свою свечу.
Не хочу бессмертия, —
Одного хочу:
Чтоб в пути ли, дома ли,
В неродном краю,
В старости припомнили
Песенку мою.
2011ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки…
Александр Кушнер
Мне рано печалиться, вроде,
Хотя я не молод уже.
Живу я в отеле напротив
Кондитерской «Вольф-Беранже»,
В окошко высокое глядя,
И нет вариантов иных,
Поскольку в родном Ленинграде
Давно не осталось родных.
Я помню с девятого класса
Напротив желтеющий дом:
Там Пушкин встречался с Данзасом,
Чтоб сгинуть от пули потом.
Здесь небо июньское чисто,
И ангел сияет с высот.
Под окнами катер туристов
По Мойке неспешно везет.
Трамвайчик речной, увлеченье
Далеких мальчишеских лет.
Давайте и мы по теченью
Отправимся катеру вслед.
Был путь мой по берегу долог,
Его повторю я опять, —
Так возраст осадков геолог
Стремится потом изучать.
Себя ощущаю я странно:
Неужто и впрямь наяву,
Пройдя через все океаны,
Я снова по Мойке плыву?
И, вызвав сердечное жженье,
Означив намеченный путь,
Навстречу плывут отраженья,
Которые вспять не вернуть.
Под арками гул, как в колодце.
Гранит зарастает травой.
Исакия желтое солнце
Качается над головой.
Весь берег из памяти соткан, —
Неужто вчера, не пойму,
Здесь песенки пели с Высоцким
У Клячкина Жени в дому?
Вперед водяная дорожка
Бежит на крутом вираже.
Я вижу родное окошко
На пятом моем этаже.
Давно ли, голодный и слабый,
Каким отпустила война,
Мечтал о любви и о славе,
Из этого глядя окна?
Ушедших родителей тени
Я вижу в окошке опять,
Но мимо проносит теченье,
Которое не удержать.
И снова внезапной печали
Я скрыть не могу на лице.
Мы с девочкой прежде встречались
В Юсуповском старом дворце.
Далекие школьные будни, —
Читальня и луч на стекле.
Теперь она спит непробудно
В израильской жаркой земле.
Мне с ней расставаться непросто,
Моей разведенной женой,
Но свод Поцелуева моста
Проходит уже надо мной.
И снова смотреть тяжело мне
В зеленое марево вод:
Моя дорогая Коломна
Навстречу мне тихо плывет.
И видятся в дымке лиловой
(Я в памяти их берегу)
Ворота Голландии Новой
И школа на том берегу.
Здесь класс мой, когда-то веселый,
Шумел на втором этаже.
Прости меня, милая школа, —
Тебя не вернуть мне уже.
И в горле дыхание комом,
И сердце заныло в груди.
Прости меня, милая школа, —
Минута, и ты позади.
И снова я благоговейно
Смотрю на речной поворот,
Где мимо канала Круштейна
Вода убегает вперед.
Тебя я приветствую снова,
Арктический мой институт,
Из времени века иного
Возникший на пару минут.
Отсюда дорога на Север
Когда-то меня увела,
На берег крутой Енисея,
Где холод и снежная мгла.
Припомню пору молодую
И горечь внезапных потерь.
Давно уже там не живу я,
А песни — живут и теперь.
А здесь, вспоминаю отдельно,
Где старый галерный причал,
Старуху Андрееву-Дельмас
Я с лысой собачкой встречал.
А рядом, на том перепутье,
Жил в давнюю пору поэт,
Дружок мой, Олежка Тарутин, —
Олега давно уже нет.
Потом начинается Пряжка,
И Адмиралтейский канал,
И сердце колотится тяжко
У дома, где Блок умирал.
И солнце закатное брызнет,
Свой луч уронив невзначай,
На край угасающей жизни
И Мойки слабеющий край.
Послушай меня, не переча,
Другие забудь города:
Гранитом одетая речка
Уносит меня в никуда.
2011
Елена Леонтьева, Мария Илизарова. Про Психов
- Елена Леонтьева, Мария Илизарова. Про Психов. — М.: АСТ, 2014. — 416 с.
Терапевтический роман Елены Леонтьевой и Марии Илизаровой явился свету зимой, а внимание аудитории привлекает до сих пор. Написанный не профессиональными литераторами, а учеными, практикующими в психиатрии, он вызывает доверие. По словам авторов, настоящие психи – нормальные люди, попавшие в ненормальные ситуации. О попытках их излечения и рассказывается в книге.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
7 ноября
ЛОРЕ СТРАШНО Мама говорила, что главное в жизни — иметь план.
И держать все под контролем.
В шкафу еще остались подобранные ею комплекты одежды. Их хватит дня на три.
Мама умерла пятнадцать дней назад.
Недоброе утро. Часы тикают громче, чем вчера. С утра мне тревожно. Сегодня сильнее, чем обычно.
Я что, заснула на диване?
Нужно закончить работу и отослать ее в «Эпл». Потом я буду ждать письмо. Суть его не важна. Главное — оно будет подписано: «С уважением, Стив Джобс». Как приятно думать, что Он сам подписывает адресованные мне письма. Я знаю, что это не так, но все-таки.
Надо встать, умыться, одеться, выпить кофе и доделать работу. Таков план. Последние годы план всегда один.
Почему мама покупала мне одежду, которую я терпеть не могу? Розовые кофточки, юбочки, каблуки. Мама надеялась, что я стану настоящей женщиной.
Сама она ею никогда не была.
Звонок. По городскому.
Подходить? Кто это? Если мне и звонят, то на айфон. Ладно, отвечу.
— Да? Что вы хотите?
В трубке шуршит. Зловещее шуршание мне не нравится. Ответ на звонок — это нарушение плана? Обдумать не успеваю.
— Алло? Лорочка, деточка, это вы? Это Надежда Николаевна, помните меня? Я коллега вашей мамы.
— Здравствуйте, Надежда Николаевна. Вас я помню. Вы же с мамой на кафедре работаете?
— Деточка, как вы там? Такое горе, такое горе, такая потеря для всех нас.
Господи! Запричитала… Какой противный голос, не люблю я, когда плачут. Слабых не люблю.
— Деточка, может, вам нужна моя помощь? Ваша мама просила о вас позаботиться. Давайте я приеду? Покушать привезу, поговорим…
— Нет, спасибо,— отвечаю быстрее, чем положено.
В голове стучит: не дай ей помешать тебе. Какая чужая мысль.
— Нет, Надежда Николаевна, не надо приезжать. Вы же никогда не любили маму, завидовали ей, да?
Вешаю трубку. Разговор невыносим. Обрезаю телефонный провод. Вдруг она еще раз позвонит.
Умываюсь и не нахожу кофе. Надо заказать доставку продуктов. Не помню, когда я последний раз это делала. Почему-то нет связи. Проверяю, переподключаюсь — глухо. В магазин надо идти самой.
Надеваю все черное. Волосы убираю в пучок, как мама любит. Ей нравится, когда видно лицо. Она называет мое лицо благородным. И приписывает это себе как личное достижение.
Смотрю в зеркало — сегодня я должна быть особенной! Для Стива…
Распускаю волосы. Красиво! По-блядски. Но никто не раскритикует — мама-то умерла. Это плюс.
Прости меня, Господи! Какая жуткая мысль. Она не моя! Я никогда не хотела маминой смерти.
Бегу из дома. На улице лучше… Пока не вышла на проспект.
Машин много. Они едут слишком быстро и громко. Страшно: машины рычат, как огромные быстрые звери. Что за черт? Отменили все ограничения скорости? Хочу вернуться домой, но в холодильнике буддистская пустота. Я уже три дня ничего не ела. Не хочется. Но без кофе не смогу работать.
Пристраиваюсь к человеку в грязных ботинках. Сейчас он перейдет дорогу. И я с ним. Не дышу. Делаю шаг точно вместе с ним. Молодец, Лора!
Вот и магазин.
Какой странный дом… Он что — ненастоящий? Похож на киношную декорацию. Ни в одном окне не горит свет.
Я понимаю, что сейчас день, но в такую мрачную погоду хоть в одном окне должен гореть свет. С домом что-то неправильное происходит…
Всматриваюсь. И убеждаюсь в своей правоте! Провода везде, камеры… Раньше их точно не было. Я же не в маразме, я же помню. Куплю кофе — и бегом отсюда. Давай же, Лора, не бойся! Иду в магазин. В окружающее не вглядываюсь.
Возвращаюсь домой. Есть не хочется, пью героически добытый кофе с молоком. Пора работать. Стив ждет. Включаю компьютер. Всплывает фотография горящего самолета. Дымящиеся обломки фюзеляжа, почти целый нос. Хаос: спасатели и пожарники, разметанные разноцветные кусочки человеческой жизни. Я точно ее не загружала. Откуда она взялась?
Кто так шумит?
Соседи наверху двигают мебель, роняют что-то. Играют торжественно и бодро на фортепьяно. Неужели «Интернационал»?
Никто не даст нам избавленья:
Ни Бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.Конечно, сегодня же седьмое ноября! И как это у них получается? Одновременно и играть, и двигать? Не буду обращать внимания, главное — не отвлекаться.
Не отвлекаться? Нет, это выше моих сил! Кипит мой разум возмущенный, я вам сейчас покажу: кто был никем, тот станет всем! Сволочи!!
Там живет какой-то дед. Может, внуки к нему приехали? Так громко! Сосредоточиться невозможно. Ругаются, голоса злые. Наверное, уже идут «на смертный бой». Фортепьяно озверело. Дерутся, наверное. И еще аккомпанируют себе. Может, даже убивают друг друга?
И все это сопровождается «Интернационалом»:
Держава — гнет, закон лишь маска,
Налоги душат невтерпеж,
Никто богатым не указка,
И прав у бедных не найдешь.
Довольно государства, право,
Услышьте Равенства завет:
Отныне есть у нас лишь право,
Законов же у равных нет.Как современно, боже мой! Кто же это поет? Не могу больше терпеть. Бегу наверх. Стучу долго, никто не открывает. Наконец за дверью слышатся медленные шаркающие шаги. У двери затихают. Кто-то стоит и смотрит на меня, как в микроскоп. Я не выдерживаю:
— Откройте!
— Что вам надо? — старческий возмущенный и напуганный голос.
— Откройте мне! Что у вас происходит? Вы мешаете мне работать! — пытаюсь говорить спокойнее. Нужно увидеть, что происходит в квартире. Меня не провести. Может, заманивали?
— Чего тебе надо? Я сплю. Совсем, что ли, спятила?
— Откройте или я вызову милицию!
— Ты Лора? Девочка Эльзы Александровны? Не здороваешься со мной никогда!
— Пожалуйста, откройте! — изображаю вежливость, как учила мама.
— Ну ладно… Только отойди от двери.
Замок щелкает, дверь осторожно приоткрылась. На пороге стоит седой помятый старик. Сонный и раздраженный.
— Ну и чего ты хочешь, Лора?
— Здравствуйте, с праздником вас… а где она?! Я слышала, как кричала женщина. И пела «Интернационал».
Пытаюсь заглянуть за плечо старика. Ничего не вижу, кроме хлама в коридоре. В квартире тихо и обморочно. Тревожно.
Старик старается скрыть, но он испуган.
— Пустите меня, я посмотрю.
— Иди домой. Нечего тебе у меня смотреть. Я «Интернационал» уже лет пятьдесят не пел. Совсем ты умом повредилась…
Старик выталкивает меня на лестничную клетку. Дверь захлопнулась, лампа мигает и гаснет.
Жутко. Как днем перед магазином. Бегу вниз по лестнице. Уже около своей двери подворачиваю ногу и падаю.
Больно! Очень больно! В голове крутится мысль: «Дура! Дура! Не справилась, не справилась!» Страшно, хочется кричать, но кричать нельзя. Хватаюсь за ручку двери. Фуф! Наконец я дома, в безопасности.
Зачем выманивать меня из квартиры? Это знак? Только вот чего? Не понимаю.
Надо работать.
Два часа ночи. Ура! Все готово. Отсылаю файлы в «Эпл».
Спать не хочется. Надо сделать что-то. Может, убраться? Так грязно. Везде грязь. Почему мама не убирает?
Мама, когда плохо, дает мне феназепам. Где он? Высыпаю все из аптечки. Вот эти. Желтые. Выпью две для верности.
И обязательно помолюсь на ночь.
НАЧАЛО Мы — свидетели этой истории и хотим рассказать ее вам. Она началась, развивалась и закончилась в одной старейшей московской психиатрической больнице. Все, до последнего слова, в этой истории — чистая правда, как правда и то, что мы единокровные сестры. Итак…
Заканчивается год. В психиатрической больнице, как и везде, ждут праздников, суетятся, готовят подарки. Мечтают, чтобы каникулы стали особенными и запомнились на весь следующий год.
В отделениях устраивают «огоньки», утренники и дискотеки. В клубе готовится большой концерт, администрация делит годовую премию. Радость, возбуждение и суета — работать не хочется. Но больничная жизнь идет своим чередом: больные поступают, лечатся и выписываются. Врачи приходят затемно на работу, проводят утренние пятиминутки, делают обходы, пишут истории болезни, медсестры раздают лекарства, пьют чай в сестринских и сплетничают…
Наш герой оказался в больнице двадцать шестого декабря, пройдя все этапы ритуала поступления.
Вообще-то в психиатрическую больницу не так-то просто попасть. Здесь чрезвычайно не любят посторонних. Обязательно надо сойти с ума, совершить то, что другие сочтут безумным, внушить окружающим сильное чувство беспокойства и ощущение полной потери контроля над ситуацией. Необходимо выделиться так, чтобы стало очевидно, что человек больше не относится к благословенной норме, а навсегда или временно покинул ее, перейдя в разряд необычных, неврастеников, больных, ненормальных, ку-ку, психов и шизиков.
Конечно же, нормальные люди гораздо опаснее. Именно они, по большей части, совершают преступления, обманывают, предают, воруют, убивают, берут взятки, издеваются над подчиненными, придумывают дурацкие правила, усложняющие жизнь. Парадоксально, но факт: все эти люди принадлежат к психической норме! Кто же такие психи? Чем можно заслужить это звание? Как во время, которое многие считают концом времен, в наше время, уставшее от разнообразия всего — от йогуртов до религий,— как понять, что ты покинул среднестатистические берега нормы и отчалил к неизвестному миру безумия?
Возможно, история, свидетелями которой мы являемся, ответит на эти вопросы, возможно, усложнит их и поставит новые. Важно, что она позволит разобраться в этом вопросе без риска: вы можете не сходить с ума, не проживать все эти страшные и удивительные события в одиночку. За ними можно подсмотреть — с нашей и с Божьей помощью. И ответить в конце концов на вопрос, нормальны ли вы сами, и если да, то на чем основывается ваша убежденность? Со своей стороны обещаем, что не утаим от вас все самое интересное, не оставим за кадром то, «о чем лучше не говорить». Однако постараемся сделать это деликатно.
Себастьян Фолкс. И пели птицы…
- Себастьян Фолкс. И пели птицы… / Пер. с англ. С. Ильина. — М.: Синдбад, 2014. — 600 с.
«И пели птицы…» — наиболее известный роман Себастьяна
Фолкса, ставший с момента выхода в 1993 году классикой современной английской литературы.
Действие разворачивается на Западном фронте Первой мировой войны. Молодой английский офицер Стивен Рэйсфорд направлен в окопы Сомма. Именно там перед лицом смерти он восстанавливает в памяти обстоятельства своей довоенной любовной связи. Отчаянно пытаясь сохранить рассудок и волю к жизни в кровавом месиве вселенского масштаба, герой записывает свои чувства и мысли в дневнике, который спустя десятилетия попадает в руки его внучки
Элизабет. Круг замыкается — прошлое встречается с настоящим.Стивен вынул из своих часов стекло, чтобы определять в темноте время на ощупь. Когда он снова услышал звуки, говорившие, что где-то неподалеку пробивают проход, было без десяти четыре, но дня или ночи, он не знал. По его оценкам, они с Джеком провели под землей суток пять, если не шесть.
Он снова подтянул Джека к тоненькой струйке воздуха, чтобы тот мог подышать в свой черед. И лежал, потрагивая часы пальцами, отсчитывая полчаса, которые ему надлежало провести в удушающем углу их склепа. Лежал, не шевелясь, чтобы не увеличивать потребность тела в кислороде.
Волны страха продолжали прокатываться по нему. Стивен говорил себе, что, поскольку худшее уже случилось и он погребен заживо, так что и повернуться не может, бояться ему больше нечего. Страх порождается ожиданием, а не действительностью. И все же паника не покидала его. Время от времени ему приходилось напрягать все мышцы, чтобы не сорваться на крик. И еще ему очень хотелось зажечь спичку. Если он всего лишь увидит размеры своей тюрьмы, это уже будет что-то.
Потом наступали минуты, когда жизнь в нем ослабевала. Воображение, все чувства словно выключались, как гаснущие одно за другим окна большого дома. И в конце концов оставалась лишь тусклая муть, озаренная остаточным свечением меркнущей воли.
Все долгие часы, что он лежал здесь, разум его не переставал негодовать. Он сражался с этим негодованием, но оружием его была горькая обида. Сила ее прибывала и убывала, пока тело Стивена слабело от усталости и жажды, однако горечь его гнева означала, что какой-то свет, пусть и тусклый, еще горит в нем.
Когда полчаса истекли, он подполз и лег бок о бок с Джеком.
— Ты еще со мной, Джек?
Раздался стон, затем голос Джека пробился сквозь пласты беспамятства и обрел отчетливость, которой не было в нем уже несколько дней.— Хорошо, я носки прихватил, хоть есть на что голову положить. Мне каждую неделю из дому новые присылали.
Стивен, приподнимая Джека, нащупал под его щекой слой вязаной шерсти.
— А я никогда посылок не получал, — сказал он.
Джек засмеялся.
— Ну ты шутник, ничего не скажешь. Ни одной посылки за три года? Мы по две в неделю получали, самое малое. Каждый. А уж письма…
— Тихо. Ты слышишь? Это спасатели. Слышишь, они долбят землю. Прислушайся.
Стивен повернул Джека так, чтобы ухо его оказалось поближе к меловой глыбе, и сказал:
— Они на подходе.
По звучанию эха он догадывался, что они еще далеко, но стремился уверить Джека, что до них рукой подать.
— Думаю, теперь уж с минуты на минуту. И мы выберемся отсюда.
— Так ты все время в армейских носках ходил? Вот ведь бедолага. Да самый нищий рядовой нашей части…
— Слушай. Нас освободят. Мы выберемся.
Но Джек продолжал смеяться:
— Да не хочу я этого. Не хочу…
Смех перешел в кашель, а затем в спазм, от которого грудь Джека, лежавшего на руках Стивена, вздыбилась. Сухой дребезжащий звук наполнил тесную пещерку, затем прервался. Джек в последний раз протяжно выпустил из легких воздух, и тело его обмякло, — конец, которого он так желал, наступил.
Краткий миг Стивен продержал, из уважения к товарищу, тело на руках, потом передвинул его в душный конец ямы, приложил губы к щели, в которую просачивался воздух и вдохнул его полной грудью.
А после этого ногами отодвинул труп еще дальше. Горестное одиночество обрушилось на него.
С ним остались лишь звуки ударов, которые, сейчас он уже не мог отрицать этого, были безнадежно далекими, да тяжкая толща земли. Он достал из кармана спички. Теперь никто не мог остановить его, жаждущего света. И все-таки спичкой он не чиркнул.
Он выругал Джека за неверие в возможность спасения. Но гнев его угас, а разум сосредоточился на ритмичном стуке кирок по мелу. Эти непрестанные звуки походили на биения его сердца. Он снова извлек из кармана нож и стал изо всех оставшихся сил колотить по стене рядом со своей головой.
Промахав кирками четыре часа, Леви и Ламм далеко не продвинулись. Леви позвал Крогера, чтобы тот сменил Ламма.
Ожидая его, Леви присел отдохнуть. Поиски спутников брата стали для него вопросом чести. Иосиф не одобрил бы человека, который позволяет личному горю сбить его с правильного пути. Да речь шла и не столько о его, Леви, чести, сколько о чести брата. То, что он делает, сможет вернуть растерзанному телу Иосифа хоть какое-то достоинство.
Сквозь хрип своего дыхания он вдруг расслышал постукивание. Может быть, крыса? — первым делом подумал он, однако звук был слишком ритмичным и доносился слишком издалека. В нем присутствовало нечто, не оставлявшее сомнений: он проходит немалое расстояние, и только человеку может хватить сил создать такой звук.
Крогер спрыгнул с конца веревки, Леви подозвал его к себе. Крогер вслушался.
И кивнул:
— Там точно кто-то есть. Чуть ниже нас, я думаю, в туннеле, примерно параллельном нашему. Не кирка и не лопата, звук слишком слабый. По-моему, кого-то там завалило.
Леви улыбнулся:
— Говорил я вам, надо продолжать.
Однако у Крогера имелись опасения:
— Вопрос в том, как мы туда пробьемся. Между нами толща мела.
— Для начала взорвем ее. Еще один направленный взрыв. Я поднимусь, пришлю сюда Ламма. Он сумеет заложить заряд.
Лицо Леви светилось решимостью и энтузиазмом. Крогер сказал:
— А если стучит не кто-то из наших, а один из застрявших в туннеле врагов?
Глаза Леви округлились.
— Я не могу поверить, что человек способен протянуть там столько времени. А если протянул, тогда… — он развел руки в стороны и пожал плечами.
— Тогда что? — отрывисто спросил Крогер.
— Тогда мы увидим убийцу моего брата и двух его товарищей.
Крогер помрачнел.
— Око за око… Надеюсь, вы думаете не о мести.
Улыбка покинула лицо Леви.
— Я вообще ни о чем определенном не думаю. Я руководствуюсь верой — во всех случаях жизни. Поэтому встречи с ним я не боюсь, если вы это имеете в виду. Я буду точно знать, что мне делать.
— Возьмем его в плен, — сказал Крогер.
— Отставить разговоры, — оборвал его Леви. Он подошел к свисавшей в яму веревке, окликнул Ламма и попросил вытянуть его наверх.
Ламм, почти уж заснувший, услышав от Леви, что он должен сделать, не сказал ни слова. Просто приготовил заряд, уложил его в вещмешок и спустился вниз.
Плотная смесь земли и мела сопротивлялась их усилиям. У них ушло пять часов на то, чтобы пробить в ней удовлетворившую Ламма выемку для заряда. Леви менялся с ним местами, помогая Крогеру. Они набивали мешки землей и плотно укладывали их, закрывая нишу с взрывчаткой.
Крогер прервал работу, чтобы выпить воды и перекусить мясом с галетами. Леви от еды отказался.
Голова его начинала кружиться от горя и усталости, однако он твердо решил блюсти пост. И неистово работал, наполняя мешки, не обращая внимания на евший глаза пот и дрожь в пальцах.
Он не знал, кого или что найдет за этой стеной, им правило неодолимое желание довести дело до конца. Любопытство его было странным образом связано с чувством утраты. Смерть Иосифа можно будет объяснить и искупить, только отыскав еще остававшегося в живых человека и встретившись с ним лицом к лицу.
Они проложили провода и отошли в безопасное место, к началу уходившего к поверхности длинного наклонного хода. Здесь уже слышен был гром тяжелых орудий, но теперь к нему добавилась стрельба из минометов и пулеметов. Наступление началось. Ламм нажал на ручку взрывного устройства, и земля содрогнулась у них под ногами. Грохот, дуновение горячего воздуха стихли, а затем повторились снова. На миг все трое подумали, что сейчас из туннеля выкатится огненный шар, набитый землей и мелом. Но грохот смолк и во второй раз, наступила тишина.
Они торопливо направились к низкому, обитому досками входу, заползли в него и, спотыкаясь, побежали к яме, соединявшей верхний туннель с нижним. Облако меловой пыли, от которой они раскашлялись, заставило их отступить и подождать с минуту, пока она не осядет.
Леви велел Крогеру остаться наверху, а сам спустился с Ламмом вниз. Ему требовалось, чтобы Ламм оценил результаты взрыва, к тому же он сильно сомневался в том, что Крогера интересует исход их поисков.
Вдвоем они протиснулись сквозь проделанный взрывом лаз, попутно расчищая и расширяя его, и попали прямиком на главный британский пост прослушивания. Осмотрели не без насмешливого интереса дощатую обшивку стен.
— Слушайте! — Леви схватил Ламма за руку.
Теперь неистовый стук раздавался где-то поблизости.
Леви разволновался настолько, что даже подпрыгнул — и ударился головой о потолок камеры.
— Вот мы и на месте, — сказал он. — Все-таки пробились!
Они взорвали преграду, отделявшую их от цели. Осталось только разрыть землю и протянуть к этой цели руки. Стивен вынул из своих часов стекло, чтобы определять в темноте время наощупь. Когда он снова услышал звуки, говорившие, что где-то неподалеку пробивают проход, было без десяти четыре, но дня или ночи, он не знал. По его оценкам, они с Джеком провели под землей суток пять, если не шесть.